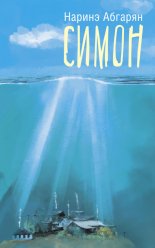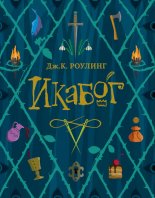Мир и война Акунин Борис

Александра вернулась в середине дня, красивая, как картинка, в своей амазонке.
– Пока ты моционировала, я вызнала, что за девку убили, – стала рассказывать бабушка.
Внучка выслушала молча. Вид у нее был сосредоточенный, брови сдвинуты.
– Куда каталась-то? – спросила Катина.
– К Мураловым.
Полина Афанасьевна удивилась. С бывшими владельцами деревни, хоть те ныне стали соседи, особенного приятельства жительницы Феникса не водили.
– Пошто?
– Во-первых, у их домашнего врача есть медицинские книги. Мои ведь все сгорели…
– Зачем тебе медицинские книги?
– Я ночью не могла уснуть. Всё думала про Кузьму Лихова.
– Господи, опять она за свое! – всплеснула руками Катина. – Сама же согласилась, что у него… как бишь это латинское слово-то. Кузьма в ополчение ушел в августе, а неизвестную девку убили в следующее полнолуние, уже в сентябре.
– Вот над этим я голову и ломала. А на рассвете вдруг стукнуло: в сентябре ее нашли, а когда убили, того мы не знаем.
– Да не месяц же она в воде пролежала! – Бабушка смотрела на внучку с недоумением. – Сама знаешь, каковы давние утопленницы, а эта совсем свежая была.
– Однако недолго такой оставалась. В тот же день вся посерела. А еще вспомните, какая она холодная была.
– Мертвяки все холодные, из них с жизнью тепло уходит. Не пойму я, к чему ты ведешь.
– Слушайте, что я из атласа выписала. – Сашенька достала тетрадочку, в которой в прежние, умные времена вела ученые записи и которую давно забросила. – «У мертвого тела, подвергнутого замораживанию, после оттаивания ткани быстро загнивают, а кожа сразу же обретает серую окраску. Даже при несильной пальпации на плоти остается красное пятно». Я тогда еще подивилась: отчего это у покойницы от нажатия пальцев красные следы появляются. А это потому что труп старый был. Его где-то долго на холоде продержали, и потом в воду положили – в таком месте, чтоб люди быстро нашли. Ту девушку ведь даже не из реки вынули, она прямо на берегу лежала, подле домов. Еще и то сообразите, что Кузьма льдом приторговывал, у него на мельнице был морозный погреб.
Полина Афанасьевна была так ошеломлена, что даже на снисходительное «сообразите» не обиделась.
– Но коли так, это значит…
– Это значит, что после ухода Кузьмы кто-то месяц продержал тело в леднике, а потом подкинул. И нетрудно догадаться кто.
– Агафья? – ахнула Катина. – Что ж она тогда, с ним заодно? Да как такое возможно! Разве лунные маниаки парой безумствуют?
– Навряд ли. Но у меня было время об этом подумать. – Сашенька хоть и спустилась с лошади, в дом не шла и поводьев не выпускала. – Для Агафьи муж – всё. Она только им и живет. Ни в чем его не попрекала, даже когда он бил ее смертным боем. Агафья то ли с самого начала знала, чем он утешается в полнолунье, то ли после открыла – и опять его не попрекнула, не осудила, а сделалась помощницей. Сумасшедшего можно любить только сумасшедшей любовью.
– Я гляжу, ты теперь и по любовным наукам профессор, – не удержалась от колкости бабушка. – И придумала складно, а все ж таки не верится мне. Вспомню Кузьму, каков он на войне был – и хоть режь меня, не верю. А что если загадка по-другому как-нибудь раскрывается?
Александра согласно кивнула.
– Мне тоже было сомнительно. Однако есть и вторая причина, кроме медицинских книг, по которой я поехала к соседям. Семья мельников – единственная, которая выжила в чуму. Вы ведь купили их вместе с пустой деревней.
– Ну?
– Захотелось расспросить старика Левонтия Андреевича Муралова про Лиховых. Послушайте, что он мне рассказал…
– Пойдем в дом, там доскажешь. Отдай Федору лошадь.
Но Саша не тронулась с места.
– Погодите. Сначала выслушайте. У Лихова была сестра-двойняшка, Глафира. Они вместе выросли, никогда не разлучались. Левонтий Андреевич хорошо ее помнит. Говорит, Глафира была бойкая, смелая, во всех играх заводила, командовала братом…
– Да, она померла, Лихов мне сказывал, – припомнила Полина Афанасьевна. – И что?
– Не померла! Убилась! Полезли они вдвоем на дерево, на тот старый дуб, что подле плотины, и Глафира сорвалась! – Глаза у внучки блестели, слова не поспевали одно за другим. – Ясным лунным вечером было! Родители снизу всё видели и после барину рассказали! Как Кузьма держал сестру за руку, сколько мог, а потом выпустил! И она упала! Молча! Даже не крикнула! Собою Глафира была кудрява, тонка, дивно белокожа! Пятнадцати лет возраста! Во всем схожа с нашими убиенными девами! Вот откуда фиксацион! Лихова это страшное воспоминание всю жизнь мучило и в конце концов ополоумело! Он вздымает вверх девушек, похожих на Глафиру, а после сбрасывает вниз! Рот затыкает кляпом, чтобы молчали – потому что она тоже молчала! Едемте же, едем!
– Куда? – пролепетала совершенно потрясенная Полина Афанасьевна.
– К дубу! Проверить нужно! Ежели я всё верно угадала, там должны быть следы. И коли найдутся, будем говорить с Агафьей, пока Кузьма не воротился.
Ничего больше не говоря, не задавая новых вопросов, Катина махнула конюху, чтоб выводил кобылу.
– Не седлай, уздечку только надень! – крикнула она и поспешила в дом сменить домашние туфли да взять необходимое.
Скоро бабушка с внучкой гнали размашистой рысью по лугу. Одна сидела по-мужицки, охлюпкой, другая по-дамски, элегантно.
Через несколько минут они были уже на берегу пруда, под высокими деревьями. Время шло к вечеру, вода розовела и золотилась, но до сумерек было еще далеко.
– Наверх залезу, – сказала Сашенька, встав под высочайшим из дубов и задрав голову. – Вон та большая ветвь, верно, и есть она самая. Расстегните пуговки на спине!
Она сняла узкое платье, туфли, стянула шелковые чулки, чтобы не попортить дорогую вещь, осталась в нижней рубашке и панталонах. Отроковицей Сашенька запросто карабкалась на дерева и этой науки не забыла, ловкости в ней не убавилось. А выходит, что и ума, подумала Полина Афанасьевна, глядя снизу на проворную, будто ящерка, деву. Не зря говорят: краса до венца, а ум до конца.
Сама Катина стала осматривать землю под большой веткой.
А трава-то примята, будто упало что-то тяжелое! Пала на колени, потрогала почву. На ней бурые пятна. Засохшая кровь! Сюда графская Наталка и упала…
– Бабушка! Тут следы на коре! – крикнула с ветки Саша. – От веревки! Много следов! Есть старые, а один совсем новый! Это, значит, он притаскивает под дуб связанную жертву, кладет наземь, сам влезает, перекидывает веревку, потом спускается и подтягивает! Идемте скорей к Агафье!
Полина Афанасьевна поднялась. У ней захватило дух от того, как высоко забралась внучка.
– Довольно! Слезай! Да не торопись, осторожно! Вниз трудней, чем вверх!
Боясь, чтоб Сашенька от нетерпения не сорвалась, Катина напряженно смотрела вверх.
Оттого и не слыхала, как те подошли.
Глава XXIII
Долг платежом красен
Только раздался вдруг сзади голос, спокойный, насмешливый:
– Твоя правда, Агаша.
Помещица обернулась – и замерла.
В десяти шагах, на тропинке, что вела от мельницы, стояли Лиховы, муж и жена. Агафья в новом шелковом платье, с цветной шалью на плечах, Кузьма – вовсе селезнем: мундир с золотым галуном на вороте, кивер с черно-белым султаном, на груди медали-кресты. Борода исчезла, усы молодецки подкручены – не сразу и узнаешь.
– Уж и пуговку свою забрал. И девку ты на леднике месяц продержала, а всё одно: донюхалась, докопалась старая, – продолжал Лихов как ни в чем не бывало.
Первое, что сделала Катина – крикнула внучке:
– Не слезай!
Та, успевшая спуститься до нижней ветки дуба, застыла.
– Ох, хороша стала барышня, – улыбнулся Лихов, разглядывая Сашу. – Белокожа, кудрява. Как я люблю. Кабы я давеча не разговелся, прямо слюнки бы потекли.
Даже не отпирается, не таится, подумала помещица, холодея. Никогда прежде не видела она мельника таким. Будто обманчиво медлительный кот, который загнал мышонка в угол, но закогтить добычу не спешит – куда ей деться?
– Здравствуй, Кузьма Иванович, – сказала она вслух, будто не поняв смысла его слов. – Экий ты бравый кавалер. Агафья сказывала, что ты вернулся.
Лихов похлопал себя ладонью по наградам.
– Да, ныне я гвардии подпрапорщик. Чествован в городе звенигородским начальством и дворянством. А скоро будет царский указ о награждении наиотличных воинов. Тогда сам выйду в дворяне, офицерский еполет получу. А что ж – чай не хуже других. Читать-писать я выучился, барское обхождение знаю. Сулятся к тому же имением одарить, так что тоже помещик буду. Государь меня знает. Вот энтот крест, за геройское ночное дело, сам мне на грудь прицепил, в уста лобызал. – Кузьма подмигнул, оскалился. – Бой как раз на полнолуние пришелся, и такой на меня раж нашел: десять французов штыком поколол, знамя взял. – Продолжил мечтательно: – Эх, кабы мне всякий раз за такое кресты давали да цари лобызали, я бы и девок не подвешивал…
Не получится прикинуться, поняла Катина. Лихов не дурак, его не проведешь. И внутренне приготовилась к наихудшему.
А военный герой всё с тем же добродушным видом повернулся к супруге:
– Веришь ли, Агаш, за поход до города Парижа ни разу меня не прихватило. Было на ком отъяриться, без девок. Это уж на обратной дороге, когда через Германию маршировали и скучно стало, дал я себе отдышку с немками. Долго мы по Неметчине шли, три луны. – Рассмеялся. – Тремя девками попользовался. Одну с моста подвесил, другую с колокольни ихней, «кирха» называется, для третьей сосну приспособил. И что я тебе скажу. Вроде и белокожи, и кудреваты, а хуже наших. Не так их жалко. Веришь ли, скидывал вниз – не заплакал ни разу. Не утешилось сердце, как следовало. Зато над этой, третьеводнишней, что мне в лесу встретилась, изрыдался весь. И хорошо мне теперь, благостно.
Страшней всего был не рассказ маниака, а то, как сочувственно слушала его жена. И вздыхала, и головой качала, и радовалась мужнину облегчению.
– Агафья, он-то ладно, он изверг! – не выдержала Катина. – Но ты, ты! Ведь в бога веруешь, с утра до вечера молишься, по святым обителям ходишь!
– Не изверг он! – сердито закричала на барыню мельничиха. – В него, болезного, бес вселяется, мучает! Иначе как через полнолунную страсть того беса не выгонишь! Зато после Кузьма Иваныч так-то ласков, так-то светел! А грехи его я на себя заберу. О том Матушку-Богородицу вседневно и молю. Бог – Он не простит, а Она любовь понимает, Она заступится.
Горбунья прильнула к мужу.
– Далёко летал, сокол мой, да слава Господу вернулся. Живой, целый!
– Был живой-целый, – сказала тогда Полина Афанасьевна, решив, что услышала достаточно. – Саша, глаза закрой!
Сбоку из платья, где карман, она вынула малый пистолетец, прихваченный из дому. Пальнула злодею прямо в сердце. Вроде и движение было быстрое, и рука тверда, а все же чуть-чуть припозднилась. Не надо было внучке кричать – не кисейная, в обморок бы не бухнулась.
Кузьма-то не догадал, с места не тронулся, но Агафья кинулась вперед, растопырив руки – как птица крылья, когда защищает птенца. Приняла пулю грудью, и без крика, без стона повалилась.
Опомнившийся Лихов перепрыгнул через тело, вырвал у помещицы пистолет, другою ручищей схватил ниже подбородка, прижал к дубу.
Полина Афанасьевна много прожила на свете и думала про себя, что смертного страха не ведает. Но в этот миг ощутила морозный ужас. Не от того, что могучие пальцы вот-вот раздавят горло, а от близости усатого лица. От того, что не было в нем ни ярости, ни злости, одно лишь веселье. Вот что было страшно.
– Ах, спасибочко-то, – тихо засмеялся нелюдь. – А я ехал домой, мучился – как бы мне от моей горбатой избавиться. Придушить во сне подухой легко, но ведь жалко ее, уродку. Всё для меня делала. Однако на кой мне такая супруга в будущей барской жизни? Герою, которого сам царь жалует, можно и получше жену сыскать. Кабы не твоя милость, прикончил бы я, конечно, мою Агафьюшку, а после казнил бы себя – как из-за Фирки. – Он тряхнул головой. – Да только хватит мне себя терзать. Будет! Пора себя помиловать.
– А за что ты себя терзал? – просипела Катина, едва дыша.
Лиховское лицо посуровело.
– За то, что слаб был. Разжал пальцы. Напугался, что не сдюжу и вместе с сестрой вниз сорвусь. Глядел, как она падала. Всё на меня смотрела. И ни звука… А после над нею, ломаной-переломанной, слезы лил, еле отец-мать меня оттащили. Поклялся я тогда, что всю жизнь буду себя за трусость и паскудство муками мучить. В наказание на горбатой женился, с рассвета до ночи работой себя изводил. И каждую ночь, каждую, во всю мою жизнь, снилось мне, как Фирка падает и молчит. Смотрит снизу – и молчит…
Он передернулся, и на устах снова появилась улыбка.
– А только поменялось что-то. Может, вышла мне послабка – оттуда или оттуда, – он показал сначала вверх, потом вниз, – с небес ли, из преисподни ли, не ведаю. Поп наш полковой, когда я отпуск брал, сказал: «Героям все грехи прощаются. Такие как ты, сыне, отечеству надобны. От вас народу поучение и пример».
Улыбка растянулась шире, в ухмылку, голос сделался насмешлив.
– Кто и герой, ежели не я? А коли от меня народу поучение и пример, льзя ль мне дур-девок подвешивать, а после вниз кидать? Не геройское это дело. И решил я твердо-натвердо: последний раз себя потешу, и хватит. Наградит меня царь поместьем с крестьянами. Ежели прихватит меня на полнолуние – возьму какую-нито девку кудрявую, придумаю ей провинность и зачну сечь. Подвешу, в рот кляп засуну, чтоб молчала. Попробую удержаться, не до смерти запороть. А хоть и запорю – кто ж герою Отечественной войны это в вину поставит? Героям всё можно. Я и вас двоих порешу не потому, что вы на меня в суд-полицию донесете, – сказал он как о чем-то маловажном. – Вини меня перед кем хошь в чем хошь, ничего мне не будет. Сами концы в воду спрячут, чтоб великого звенигородского героя не зачернить. А верней всего, и слушать тебя, старую ненужницу, не захотят.
– Зачем же тебе нас убивать, если ты не страшишься? Что я жену твою застрелила – ты вроде сам тому рад. А если все же хочешь отомстить, убей меня одну. Внучка тебе ничего не сделала. Ее, юную девицу, в суде уж точно слушать не станут. Что же ей из-за меня погибать?
Страшно Полине Афанасьевне уже не было. Только противно. Очень уж погано безумец дышал ей в лицо чесноком и табачищем.
– Не-ет, – Кузьма поднял голову вверх, на Сашеньку, и сглотнул. – Я не барышню из-за тебя убью, а тебя из-за барышни. Больно хороша она стала. Оскоромлюсь еще разочек, уж совсем напоследок. Сделаю себе такой подарок. Тебя, стерву старую, прямо сейчас кончу, а ее подержу в погребе месяцок, до следующей луны. Посидишь, поскучаешь, кудрявая? – крикнул он. – Буду тебя сладко кормить-поить. Хошь, книжек из города привезу.
Александра стала карабкаться выше.
– Полазай, полазай! – хохотнул Лихов. – Никуда не денешься. Я, милая, по моему дубу сызмальства шастаю, быстрее белки. Ну побудь там покудова, незачем тебе плохое видеть.
Придвинулся к Полине Афанасьевне.
– Все, старая, прощаюся с тобой. Барыня ты была хорошая. Справедливая, башковитая. Зря только пистолет свой двухствольный тогда англичанину подарила. То-то вторая пуля тебе сейчас пригодилась бы.
– А он отдарился, Фома Фомич, – ответила Катина. – Хорошего двухствольного не нашел, но привез из Швеции пару карманных, одноствольных. Преподнес с пословицей: долг-де платежом красен.
И прямо через карман платья, левою рукой, выстрелила извергу под вздох. Вышло негромко, потому что в упор.
Глядя Лихову прямо в выпучившиеся глаза, помещица со всей мочи пихнула его в грудь. Он плюхнулся на задницу, зажимая руками рану. Рот разинул, но ни слова сказать не мог – перешибло дух.
– Прав ты, – сказала Полина Афанасьевна, глядя сверху. – Героя никто судить не захочет, они державе для примера нужны. Но про героя вот что понимать следует. Он много полезней не живой, а мертвый. Герои навроде тебя, они только на войне хороши. А для мира и для мiра вы такие не надобны. От вашего бесонеистовства одно зло. Как и отчего ты помер, кроме начальства, никто не узнает. Похоронят тебя с почестью и будут потом в книжках писать, какой геройский герой был Кузьма Лихов.
Она постояла еще минуту-другую, подождала. Умирающий завалился, немного похрипел, подергался. Наконец затих.
Тогда Полина Афанасьевна крикнула внучке, добравшейся уже почти до самой верхушки дуба:
– Саша, остановись! Успеешь еще на небо! Спускайся на землю!
Тем история вымираловского селенового маниака и закончилась, а жизнь продолжилась дальше.
Эпилог
December
Глава XXIV
Любовь к крокодилам
– Devilishly strange, isn’t it, – вполголоса сказал муж. – Why on Earth does it have to take so long?[2]
Супруги между собой изъяснялись то по-русски, то по-английски, то по-французски, иногда перескакивая с одного языка на другой и сами того не замечая.
– Ммм? – рассеянно переспросила Александра. Мысли ее были далеко. Опять волновалась о бабушке. Четыре с лишком месяца – долгий срок.
В конце октября из Вымиралова пришло письмо, обычное по своей краткости, но необычное по известию:
«Друг мой Сашенька,
Сколь веревочке ни виться, а конца не избежать. Сама же я, старая дура, и виновата, в семьдесят пять лет гонять верхами по скользкой дороге. Оступилась моя Земфирка, тоже старушка, на косогоре близ паромной переправы, упала, переломила себе хребет, а мне кость в верху бедра. Доктора говорят, не заживет и сделать ничего нельзя. Теперь до гроба только лежать в креслах, в окно глядеть.
Я этак жить не буду. Скушно. Виринея дала мне одну хорошую травку. От нее заснешь и не проснешься. В космическом эфире Луций меня уж заждался. Никто ничего не подумает – померла старая, и померла.
Но очень мне желательно перед тем повидаться с тобою. Не от старческой сантиментальности (хоть и очень хочется взглянуть на тебя еще разок), а по насущной необходимости. Оставляю я тебе большущее хозяйство, в котором без меня ты не разберешься. Кабы жив был Платон Иванович, другое дело, да я тебе писала, его в прошлый год Бог забрал.
Отпиши мне, Сашенька, сделай милость, приедешь ты иль нет. Ежели да, то потерплю, дождусь тебя. А не сможешь – так нечего мне зря и маяться. Составлю тебе подробную меморию по делам, только на бумаге всего не растолкуешь. Тут недели две рассказывать надо, и то мало будет».
И всё. Ни «прощай», ни «целую», ни «храни тебя Господь», ни даже подписи. Бабушка всегда этак писала, не любила пустословия.
Отвечать Александра не стала, а в тот же день спешно собралась ехать в Старый Свет. Не наследство принимать, а спасать дорогое существо. Из описания было ясно, что с Полиной Афанасьевной приключилась обычная для стариков беда – при падении переломилась femoris collum, шейка бедра, которая в преклонном возрасте не срастется. Однако есть метод, разработанный самой Александрой и с успехом опробованный на пожилой арендаторше Салли Франклин-Вашингтон.
Собственно операция нисколько не сложна и теоретически описана еще в старых медицинских трактатах. Надо рассечь плоть, обнажить пораженную кость, укрепить место разлома двумя серебряными спицами либо одной серебряной пластиной, потом зашить, и вся хитрость. Однако на практике никто до Александры сию не столь сложную манипуляцию не осуществлял, поскольку на нее потребно около часа времени, и никакой больной такой долгой муки не выдержит. Всё новшество заключалось в том, что изобретательная операторша придумала использовать зелье «эрбнуар», которым колдуны негритянской религии вуду возвращают себя из экстатического состояния в обыкновенное. Часа два валяются совершенно бесчувственные – хоть пинай их, хоть ножом режь, а потом вскакивают свежие, как огурчики. Старушка Салли под скальпелем лежала смирно, не пикнула, и всё получилось отменно. Потом Александра отправила подробный отчет в бостонский «Монитор Христианской Медицины», но, конечно, не напечатали. Потому что метод не вполне христианский и потому что женщин-хирургов на свете быть не должно. Ну и ладно, не в первый раз.
Если говорить всю правду, усыпление оперируемого посредством «эрбнуара» было не вполне безопасно. В прошлом году один пациент на простейшем вырезании аппендикса уснул и не проснулся. Но у человека была грудная жаба, а бабушка на сердце никогда в жизни не жаловалась. И уж в любом случае, лучше попробовать с негритянским зельем, чем с зельем матушки Виринеи, от которого точно не пробудишься.
Маршрут длинного путешествия состоял из трех этапов. Сначала супруги Ларцевы две недели плыли хлопковым клипером от Нового Орлеана до Нового Йорка, потом почтовым пакетботом пять недель до Лондона и еще десять дней пароходом до Санкт-Петербурга, через Северное море и Балтику. Наконец серым утром, на исходе декабря высадились на берегу Невы, у портовой таможни. А бабушкино письмо отправилось из Вымиралова еще в августе. Оттого Александра и волновалась.
– …Отчего у них всё так докучно и досадно для обывателей? – повторил муж вопрос по-русски, благо медлительный чиновник опять ушел куда-то с паспортами.
– У кого «у них»?
– У русских! – сердито воскликнул Дмитрий. Прожив десять лет в Северо-Американских Штатах, он почитал себя американцем и о прежнем отечестве всегда отзывался немилосердно. На географическом и временнм отдалении родина воображалась ему варварской сатрапией. Ехать в Россию эмигрант очень не хотел и всю дорогу ламентировал, пугая не столько жену, сколько самого себя опасениями: мол въехать-то въедем, да выпустят ли обратно? Надоел ужасно. Кто тебя просил со мною тащиться, сердито говорила Александра, но это для обидности. Супруги были совершенно неразлучны: куда она, туда и он (именно в такой секвенции).
– Я ошибался! – раздраженно шептал Дмитрий. – Сюда и въехать – мука! Второй час багаж смотрят!
Таможенная процедура в самом деле была нудная. Каждый сундук и каждую коробку запечатали и унесли, а перед тем еще велели отдельно выложить книги, и их обмотали шнурами, навесили свинцовые пломбы с двухглавым орлом, будто заковали в кандалы опасных преступников.
Вернулся таможенный. Рожа хмурая, слова еле цедит.
– Коли вы, сударь, русский дворянин, должны иметь какой-нибудь чин, а у вас тут ничего не прописано. Служить изволили?
Ларцев ответил.
– Ну так и надо было вот здесь написать «кавалерии поручик в отставке», а у вас прочерк. Теперь сызнова всё переписывайте!
Чиновник кинул бумаги на стойку. Дмитрий вспыхнул. Он редко выходил из себя, но если уж взорвется, потом не уймешь.
– Поди-ка, принеси шаль, я замерзла, – сказала ему Александра.
И когда сердито пыхтящий супруг удалился, поспособствовала успешному завершению пограничной процедуры посредством золотого барашка. Даже и книги вернули, хотя вначале грозились, что цензура их продержит не менее двух суток. А кроме того чиновник еще научил, где и как выправить подорожную до Москвы: дал адресок, имя и пароль («от Семена Парфеновича»).
– Повесили бы на видном месте, под портретом своего царя, вывеску, что пересечение границы – услуга платная, и всем было бы легче, – ворчал потом Ларцев. – А то пыжатся, чванятся, грубят, а самим бы только карман набить…
Портрет царя в таможне был повязан траурной лентой. Приплыв в Лондон, супруги узнали, что русский император скончался, и Александра даже поплакала, потому что в детстве своего августейшего тезку очень любила. И вообще: сколько себя помнила, столько он и царствовал. Должно быть, портретов нового государя для казенных присутствий еще не понаделали, потому на таможне пока и висел покойник.
Муж, нежелатель добра отечеству, каркал:
– Будет еще хуже. Я Константина, мопса безносого, по армии помню. Хам и дурак.
Он и по дороге в гостиницу, глядя на вполне пристойные каменные дома, всё находил, к чему придраться. И прохожие-де хмуры, и одеты плохо, хоть вроде праздничный день – 25 декабря, рождество.
– Совсем ты обамериканился, – сказала ему Александра. – Россия же отстает на 12 дней, тут пока только тринадцатое.
Но супруг и тут нашел, к чему прицепиться.
– Не на двенадцать дней она отстает, а на двенадцать десятилетий! Там, – он показал в западную сторону, – воссияло Просвещение, отгремели революции, пришли свободы, свершились индустриальные перевороты! А тут всё то же извечное болото!
Жена и слушать перестала. Она об отвлеченных материях не думала. Прикидывала, как побыстрее устроить дальнейшую дорогу.
Нынче же добыть удобный возок – это непременно. Потом зайти в полицейскую часть по указанному адресу, заплатить там за скорость «красненькую». Завтра с утра купить провизии в дорогу. И обязательно меховую полость, укутываться. Хорошо бы во второй половине дня уже и отправиться. По тракту до Москвы всего три дня санного ходу – если не скупиться на станциях. А от Москвы до Вымиралова уже рукой подать. Не было бы только в дороге снежной бури.
В городе-то снегу лежало немного. Копыта извозчичьей лошаденки постукивали немерно – то тихо, по грязно-белому, то звонко, по грязно-серому, полозья противно скрипели по булыжникам.
Ехали на Михайловскую, в «Hotel de Russie», который, по уверению приобретенного в Лондоне путеводителя, являлся самой приличной из петербургских гостиниц.
Должно быть, другие были совсем неприличны, потому что трехкомнатным нумером Александра осталась решительно недовольна. Мебель золоченая, но неудобная: кресла жестки, дверцы в шкафах скрипучи, из окон сквозняк. Особенно нехороша путешественнице показалась постель. Понюхав белье и уловив клопиный запах, миссис Ларцева велела прислуге эту дрянь немедленно убрать. Присыпала матрац гигиеническим порошком, достала из багажа собственные простыни, отменно гладкие и полезные для кожи. Путешествовали Ларцевы без прислуги. Александра придерживалась убеждения, что всякий человек, ежели он не инвалид, должен обслуживать себя сам.
Пока она устраивала краткосрочное обиталище, муж отправил записки двум старинным армейским приятелям, с которыми в Америке не прекращал корреспонденции.
– Я тоже хочу выбирать экипаж! – воскликнул он, когда жена засобиралась на Каретный Двор, но был отвергнут.
– Знаю я, как с тобой покупать. Ты соглашаешься на первую же цену. Нет уж. Сиди тут. Иначе придет кто-нибудь из твоих знакомцев, а тебя нету. И сначала мне еще идти за дорожным документом. Ты хочешь со мной в полицию?
– Нет, – ответил муж и остался.
Обмен «красненькой» на подорожную свершился быстро, зато на торге Александра пробыла долгонько. Осмотрела все крытые сани, пощупала крепежи, поверила упряжь, на нескольких санях велела себя покатать. Выбрала возок неказистый, но легкий, изнутри для тепла обитый медвежьим мехом. С часок порядилась за цену и сбила ее на треть – этому искусству в свое время научилась у бабушки.
Нисколько не утомленная, а наоборот, очень довольная, вернулась в гостиницу уже далеко в сумерках. Зимний день в северном городе был куцый.
У мужа был гость. Один из его армейских сослуживцев, Мишель Бобрищев, оказался дома и незамедлительно явился обнять друга. Когда вошла Александра, объятья еще продолжались, перемежаемые возгласами, смехом, а с Дмитриевой стороны даже слезами – Ларцев был чувствителен.
Бобрищев называл его «Деметрусом», Митя именовал старого товарища собачьей кличкой «Бобик». Возможно, в юности она была и кстати, но применительно к уверенному майору в косых бачках и изрядных усах звучала странно. Бобрищев был остроглаз, речист и, кажется, очень неглуп, однако Александра сразу прониклась к нему несимпатией. Много позже она поймет, что это было предостережение чуткого сердца, но в тот момент у неприязни имелась вполне немистическая причина. Александа протянула новому знакомому руку для пожатия, а он склонился, щекотнул запястье губами и фальшивым галантным голосом, будто идиотке, програссировал:
– Je suis totalement r-r-ravi, madame…[3]
И потом тоже всякий раз, когда разговор поворачивал на что-нибудь серьезное, извинялся перед дамой за «скучную тему» и переключался на пустяки. Одним словом, чистейший образчик досадного подвида masculinus vulgaris.
Из-за этого беседа двигалась как бы скачкми.
Мужчины заспорили, какое крепостничество хуже, русское или американское. Мишель утверждал, что отечественное гаже, ибо торгуют себе подобными, такими же белыми человеками, можно сказать братьями и сестрами. Митя явил себя в необычной роли – бранил Америку: в России хоть запрещено семьи поврозь продавать, а у плантаторов это запросто.
Здесь Александра, не вытерпев, сделала гостю реприманд: при торговле людьми цвет кожи, волос иль глаз не имеет никакой важности, всё это одинаковая мерзость. Чертов майор сразу согласился, всем своим видом выказывая, что с дамами спорить нечего. Ваша правда, сказал, прекраснейшая Александра Ростиславовна, не серчайте, коли прогневал.
Спросил шутливо:
– Ежели вы такие якобинцы, что же ты, Деметрус, писал, будто у вас хлопковое имение? Сам что ли на полях трудишься?
– Плантацию мы, разумеется, купили с рабами, в Луизиане по-иному не бывает, – стал рассказывать Ларцев. – Триста душ. У них считают вместе с бабами, так что по-вашему вышло бы сто пятьдесят. Конечно, всем сразу выписали вольную, нарезали землю, отдали отпущенникам в аренду. Берем в уплату четверть урожая, остальной выкупаем. Продают они нам охотно, поскольку у своих мы берем хлопок с надбавкой. Забот немного, только перепродать весь товар оптом на фабрику. Занимается этим Сашенька, средь многих ее талантов есть и негоциантский.
– Какое необычное увлечение для молодой и прекрасной женщины! – воскликнул Бобрищев. Александра покривилась, но он не заметил.
– О, это еще пустяки, – продолжил Дмитрий. – Собирать-продавать хлопок приходится раз в год. У Сашеньки есть дело поважнее. Она лкарствует, пользует больных по всей округе. Получается лучше, чем у настоящих докторов. Да беднякам и все равно, есть у нее диплом или нет. Мы ведь десять лет назад отправились в Новый Свет, надеясь на тамошнее передовое образование, но увы, Бобик, даже в Америке женщине стать медиком невозможно.
– Ай-ай-ай, – неискренне покачал головой Бобик.
– Сашенька оперирует, принимает трудные роды, спасает покалеченных, – всё хвастался Митя. – Негритянцы зовут ее Каплата-мэм, это по-ихнему «Госпожа Колдунья». И средь пациентов становится всё больше белых. Сначала соседи шептались, не одобряли, а ныне сами просят.
– Ну, это, я полагаю, из-за того, что я не беру платы, – скромно молвила Александра, которой нравилось направление разговора.
Мишель сказал:
– Похвальнейший дивертисмент в сельском уединении. Восхищаюсь вами, мадам. Это отраднее и интереснее, чем вышивать или писать акварельки. А чем красишь свой досуг ты, Деметрус?
Разозленная «дивертисментом» Александра едко ответила за мужа:
– Дмитрий разводит крокодилов.
– Comment? – поразился гость.[4]
– Он объявил, что построит бизнес прибыльнее моего хлопка.
– Что построит?
Она затруднилась объяснить.
– В России такого слова нет. «Бизнес» – это как денежное предприятие или промышленная затея, но только без разрешения начальства. Дмитрий придумал устроить крокодилью ферму, чтобы продавать кожу рептилий в Новый Йорк. Она там в большой цене.
– Превосходная идея. Браво, Деметрус! У нас тоже модники с модницами платят за крокодильи ремни и сумочки неслыханные деньги.
Бедный Ларцев засопел, его жена язвительно улыбалась.
– Идея-то превосходная, да пошла вкривь.
– Что, не разводятся крокодилы?
– Еще как разводятся. Плодятся, будто кролики. Кишмя кишат. Пришлось вырыть второй пруд. Но чтоб взять с кого-то шкуру, нужно ведь сначала его убить, а Дмитрий этого не может. Говорит, что знает каждого крокодильчика с младенства, многих даже по именам. Когда он подходит к воде, твари к нему отовсюду сползаются, ластятся. А что ж им его не любить на спокойном сытом житье? По шесть коров в день сжирают. Уж не знаю, что далее будет, когда они пуще размножатся.
– Мы ведь говорили об этом! – стал защищаться Митя. – Вернемся, всех их на волю выпущу, как рабов выпустили…
– То-то местные обрадуются. Нет уж, я по-другому придумала. Придется мне самцов холостить. Вот ведь докука. Так-то оно просто, чик и – готово. – Александра показала жестом, как это делается – майор поежился. – Но вообразите, каково удержать без движенья саженного ящера. Ему, чай, такая операция не понравится.
Александра вышла в прихожую еще раз дернуть шнур – нерасторопная гостиничная прислуга всё не подавала кофей, а когда вернулась, мужчины вели беседу на вечную русскую тему – как поправить кривды многострадального отечества.
Хозяйка задержалась в дверях, чтобы Бобрищев, завидя ее, снова не принялся болтать пустое.
Наедине с другом Мишель говорил по-другому – увлеченно и серьезно.
– …Послушай меня, Деметрус. Ты ужасно отстал от нашей жизни со своими допотопными сетованиями о русской косности. За годы, что тебя не было, у нас тут решительно всё переменилось. Общество не то, что прежде. Есть люди, много людей, которые не намерены бездеятельно наблюдать, как эти (палец майора показал на потолок) тащат Россию обратно в восемнадцатое столетие. Тебе бы послушать наши обсужденья! Мы знаем, что надобно сделать, дабы наша держава стала великой не только размером, но и довольством своего народа!
– Известно чт, – перебил Ларцев. – Я тебе о том неоднократно писывал. Чтобы страна, раскинутая на тысячи верст, жила здоровой жизнью, а не дожидалась на каждую свою нужду решения из Петербурга, нет иного способа, как переделать ее в Соединенные Штаты России. Пускай каждая область живет своим умом. Местным жителям виднее, в чем их польза. А столица пускай ведает защитой от неприятелей и иностранными делами, как в Америке.
– Так оно и записано в нашей «Конституции»! – вскричал Бобрищев. – Ее составил капитан Генерального штаба Никита Муравьев. Ах, какой это ум! Россия превратится в федерацию из тринадцати держав – по-вашему «штатов» – и двух особых областей, Московской и Донской. Император становится хранителем верховной власти, символом государственного единства, не более. Сама же власть делится на исполнительную, судебную и законодательную. Последнюю являет Народное Вече, куда народ избирает депутатов. Все граждане равны, крепостничество упраздняется. У нас там сказано: «Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным».
– Превосходные слова! – в волнении вскочил Дмитрий. – Ах, как это всё прекрасно! Какие вы молодцы! И как я жалею, что я покинул Россию, что я в ней разверился!
– Но ведь ты вернулся, яко Лазарь с того света, – хлопнул приятеля по локтю майор. – И ты даже не представляешь, в сколь судьбоносный миг. Послушай, я ведь к тебе заглянул по дороге в некое место. Мне уже следовало там быть, мы сговорились, но я не мог не повидать старого друга. Пойдем со мной! Наши там будут всю ночь, до самого утра.
Здесь он заметил стоявшую на пороге Александру, осекся. Лицо снова сделалось приторно-фальшивым.
– Я зову вашего супруга на дружескую мужскую вечеринку. По старой памяти. Многие его помнят и будут рады повидать. Бог весть, доведется ль еще свидеться. Право, Деметрус, идем! Добеседуем по дороге, не будем утомлять твою супругу скучными материями.
Александра действительно не была любительницей разглагольствований об общественном благе, почитала их верхоглядством. Потому что глядят сверху, с облаков, и мир им кажется вроде шахматной доски. Однако всё самое важное, управляемое и исправляемое, находится внизу, на земле, куда может достать рука. Правильно посади правильное семя в правильный момент, и оно само потянется к небу. А наоборот, сверху вниз, отродясь ничего не вырастало.
Но отпустить Митю к приятелям, пожалуй, было бы и неплохо. Вон как он порозовел. Соскучился по мужским разговорам. Пускай развеется.
– К кому вы хотите его вести?
– К Рылееву. Вы не беспокойтесь, Александра Ростиславовна. Там все пристойно. Это превосходнейший человек, примерный семьянин и к тому же отчасти тоже американец. Он служит правителем канцелярии «Российско-американской компании». Тоже всё о русских соединенных штатах толкует, – подмигнул майор Дмитрию.
– Знаю я ваши пристойности. Мужу много пить нельзя, он назавтра болеет, а нам ехать, – явила строгость Александра.
– Саша, это низко – столько лет поминать один случай! – возмутился Дмитрий.
А Бобрищев приложил ладонь к груди:
– Уверяю вас, сударыня, это совсем не такая компания. Пьем умеренно, беседуем мирно – как у Пушкина, «за чашей пунша круговою», но без излишеств.
– Ладно, ступайте, – смилостивилась она. – Мне надо готовиться в дорогу.
Проводила, села к столу, надела очки, принялась за работу: подвела итог дорожных расходов, составила на завтра список необходимых покупок. Было даже кстати, что Митя ушел и не мешает сосредоточиться. А будет маяться завтра похмельем, на то в аптечке есть порошок от дегидратации и мигрени.
Покончив с хозяйственным, Александра еще долго, до глубокой ночи писала дневник – на корабле из-за качки не получалось, а мыслей накопилось много.
Последние строчки, дописывавшиеся уже в полудремоте, с позевыванием, были такие: «Должно быть, это и есть счастье. Быть всегда вдвоем, совершенствоваться в любимом деле, иметь возможность спасти того, кого любишь».
Только бы бабушка меня дождалась, подумала Александра, уже лежа в кровати. Ничего. Если обещала – дождется.