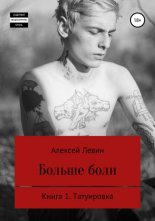Сбитые с толку Штульман Эндрю

Понимание всех пяти принципов приходит не сразу. Сначала дети осознают, что смерть неизбежна (первый принцип) и необратима (второй). Через один-два года они начинают понимать, что смерть касается только живых существ (третий) и полностью прекращает биологическую активность (четвертый). Еще через несколько лет — что смерть вызвана утратой жизненных функций (пятый принцип).
Эта последовательность логична, если подумать, какую информацию детям нужно знать для усвоения каждого из принципов. В первом и втором пунктах достаточно понимать, что смерть — это навсегда и неизбежно, что-то вроде бесконечного сна или неизбежной поездки. При этом необязательно знать по-настоящему биологические факты о смерти. Следующие два принципа требуют более глубоких познаний в биологии. Дети должны уметь отличать живые существа от неживых и знать поддерживающие жизнь процессы, хотя знать об этих процессах что-то конкретное необязательно. Усвоить последний принцип сложнее всего, так как он требует подробностей. Ребенок должен понимать, какие виды процессов поддерживают жизнь, как они связаны между собой, а также знать, как они воплощаются в настоящих телах из плоти и крови.
Большинство детей приходит к биологически зрелому пониманию смерти к десятилетнему возрасту, но все зависит от того, насколько часто окружающие взрослые поднимают эту тему. В современных индустриализированных обществах о смерти обычно разговаривают нечасто, и ребенок редко сталкивается со смертью не только людей, но и животных[212]. В беседах, детских книгах и программах тоже стараются не затрагивать эти вопросы. Если тему все же упоминают, обычно обсуждается не умирание как таковое, а горе. Например, в книгах рассказывают о грусти, гневе, тоске по близкому человеку, но мало рассуждают о смерти как о биологическом процессе[213].
Еще больше усложняет дело религия. Большинство взрослых по большому счету не верят, что человек после смерти прекращает существовать, так как, по их мнению, какой-то элемент человеческой личности переживает смерть физической оболочки. Разговаривая о смерти с детьми, взрослые обычно прикрывают свои рассуждения пеленой духовности и веры и утверждают, вопреки четвертому принципу, что смерть не кладет конец деятельности человека, а просто изменяет ее. Умершие в этих рассказах продолжают думать, чувствовать, двигаться, но в другой форме (например, в виде ангелов) и в другом месте (например, в Раю). Как говорится в одном популярном меме, «мы не люди с духовными переживаниями, а духовные существа, живущие в человеческом теле».
Исследования показывают, что такого рода описания определенно сбивают маленьких детей с толку. Если приучить их думать о смерти с религиозной точки зрения — например, рассказывать истории о священнослужителе, посещающем умирающего на смертном одре, — они значительно реже станут соглашаться, что биологическая активность после смерти прекращается, и считать, что глаза мертвого продолжают видеть, что его сердце все так же бьется[214]. Религиозные свидетельства размывают грань между жизнью и смертью, для понимания которой ребенку и так приходится потрудиться[215].
А ведь такого рода описания невероятно распространены. Большинство взрослых представителей самых разных культур считают смерть одновременно биологическим концом и духовным преобразованием и передают эту двойственность восприятия своим детям. Чтобы понять такие представления, ребенку сначала нужно научиться различать материальную составляющую человеческого существования (тело) и нематериальную (душу).
Сделать это ребенку сложно, потому что он еще не усвоил, что такое организм. Он знает, что такое тело с физической точки зрения — хотя бы на собственном примере, — но при этом не осознаёт, что с биологической точки зрения это слаженно работающая машина, элементы которой согласованно поддерживают функционирование целого. Взрослые представляют себе душу как «духа в машине»[216], а у детей нет представления о машине, и они не могут отличить ее от «духа».
Понятие организма — это клей между концепциями жизни и концепцией смерти. Организм есть у всех живых существ, и он всегда в конце концов приходит в негодность. Организмы бывают довольно простыми, например одиночная клетка, и сложными, состоящими из триллионов клеток, образующих ткани и органы. Однако у всех организмов есть общая черта: они имеют внутренние элементы, которые служат для функционирования целого.
Рассмотрение живых существ с точки зрения организма позволяет детям осмыслить биологические факты. В частности, это позволяет понять следующее:
1. Живо только то, что имеет организм (например, солнце и ветер не живые).
2. Все сущности, имеющие организм, живые (значит, цветы и деревья живые).
3. Внешние биологические функции подчинены внутренним биологическим функциям (мы едим, потому что организму нужна энергия, и дышим, потому что он нуждается в кислороде).
4. Смерть происходит в результате нарушения функционирования организма (значит, после смерти биологическая активность прекращается).
5. Нарушения функционирования бывают разные (а значит, существует возможность ненасильственной смерти).
6. Все организмы в конечном счете приходят в негодность (поэтому смерть неизбежна и необратима).
В пользу этого свидетельствует то, что дети, которые знают названия, функции и расположение внутренних органов человека, обычно знают целый ряд других биологических фактов. Они знают, что цветы и деревья живые, а ветер и Солнце — нет, что у биологической активности есть метаболические функции, что биологическая активность прекращается после смерти и что смерть вызвана потерей жизненных функций[217]. Эти корреляции можно было бы объяснить общей эрудицией, то есть тем, что дети, много знающие об организме, имеют в целом более широкие знания, в том числе о жизни и смерти. Однако другие научные работы показали, что это не так.
В частности, об этом свидетельствуют результаты исследования, которое психолог Вирджиния Слотер и ее коллеги провели в детских садах[218]. Сначала они оценивали понимание вопросов жизни, смерти и организма, а затем объясняли детям биологические факты об организме. Предполагалось, что чем больше дети знают о нем, тем лучше они будут понимать жизнь и смерть. В качестве пособия использовали «анатомический фартук» из ткани, на который прикрепляли модели различных органов. Детям предлагали снимать и присоединять органы и попутно узнавать, где они расположены, что делают и как связаны между собой.
Рис. 8.4. Обучение расположению и функциям внутренних органов помогает детям усвоить концепции более высокого уровня — понятия жизни и смерти
Перед обучением дети демонстрировали минимальное понимание смерти, что показывала беседа о пяти принципах, а также умеренное понимание жизни, которое оценивалось по способности объяснить, как ее поддерживают различные биологические действия (например, «мы дышим, потому что организму нужен кислород»). После обучения у детей складывалось значительно более емкое представление об этих вопросах. Во время беседы о смерти, в частности, они перешли от мнения, что мертвые продолжают есть и дышать, к утверждению, что после смерти вся биологическая активность прекращается. Они уже не считали, что смерть вызывают только яды и пистолеты, и говорили, что смерть наступает всегда, когда отказывает жизненно важный орган. Дети делали успехи, хотя им не рассказывали о смерти конкретно: полученных знаний об организме было достаточно.
Вы можете спросить, как на исследование Слотер отреагировали родители: ребенок пошел в сад, чтобы узнать о человеческом организме, а вернулся с более глубоким пониманием того, что когда-нибудь умрет. Исследование чем-то напоминает выпуск сатирических новостей в программе Onion[219]. Репортер посещает лабораторию, где пара приматологов учит гориллу Квигли концепции смертности:
Исследователь: Прежде всего, мы научили нашу гориллу последовательности «красный кубик — синий кубик — зеленый кубик», повторяя ее раз за разом. Потом мы перешли к последовательности «горилла родилась — горилла растет — горилла умирает».
Репортер: Ученые затем показывали Квигли фотографии мертвых и умирающих горилл, сопровождая их фразами «ты тоже» и «выбора нет».
Исследователь: Потребовались тысячи повторений, чтобы Квигли поняла связь между собой и разлагающейся кучей волос и мяса на фотографии.
Репортер: По словам исследователей, сначала Квигли выражала лишь элементарный страх перед собственной смертью, но вскоре перешла к более сложным эмоциям, например безразличию и ненависти к себе. Всего два дня назад они даже стали свидетелями поведения, которое считают приступом паники.
Исследователь: Она испуганно кричала и билась головой о стену. И я подумал: «Ура! У нас получилось!»
Усиливает ли знание о смерти страх ребенка перед смертью, как это произошло в случае Квигли? Группа Слотер разобралась и в этом вопросе[220]. В последующем исследовании они беседовали о пяти принципах смерти с детьми в возрасте от четырех до восьми лет, измеряя, насколько сильно те боятся связанных со смертью слов, например «покойник», «умирающий», «похороны» и «гроб». Результаты беседы коррелировали со страхом, но не так, как может показаться. Чем лучше дети понимали смерть, тем меньше они ее боялись.
Знания оказались не вредны, а полезны для эмоционального благополучия ребенка. Это давно известно и психологам, консультирующим детей, переживших утрату[221]. Они почти всегда советуют родителям разговаривать с детьми о смерти без обиняков, прямыми и конкретными словами, а не ходить вокруг да около и затуманивать вопрос эвфемизмами. Биологическое объяснение смерти может вызвать замешательство, но это лучше, чем отсутствие объяснения.
Дети узнают о смерти задолго до того, как начинают ее понимать, и воспринимают смерть как измененную форму жизни. Как же страшно им должно быть при мысли, что можно закопать в землю человека, который по-прежнему нуждается в пище и воде, или что во время кремации человек по-прежнему думает и чувствует боль. И как грустно думать, что любимого человека больше нет дома, но он живет где-то в другом месте. Биологическое понимание смерти снимает эти необоснованные страхи, которых нет у гориллы, но которые, безусловно, есть у наших детей.
Возможно, мы, взрослые, понимаем смерть лучше, чем дети, но внутренний конфликт возникает и у нас. Отличный пример — решение Пентагона эксгумировать останки почти 400 моряков и морских пехотинцев, погибших во время налета японцев на Перл-Харбор более 70 лет назад[222]. В рамках этой программы планируется идентифицировать по ДНК личность захороненных в нескольких братских могилах в Гонолулу. После этого останки будут переданы семьям, хотя, по оценке Пентагона, анализ даст результаты лишь в половине случаев.
Это будет очень дорогое мероприятие — десятки миллионов долларов, — и далеко не факт, что польза от него превысит затраты. Смысл в том, чтобы принести облегчение семьям погибших, но ведь нет никаких сомнений, что военнослужащие давно мертвы. Большинства ближайших родственников тоже уже нет на этом свете. Как же в таком случае перенос останков из одной могилы в другую может повлиять на знания об умершем или на эмоциональную связь с ним?
На каком-то уровне мы признаём, что кости и есть кости. Однако при этом мы видим в них нечто большее — часть нас самих, которая переживает распад нашего тела. Большинство людей так и не могут до конца смириться с мыслью, что смерть означает полное прекращение всей человеческой деятельности, особенно психологической, хотя прямых доказательств обратного у нас нет[223]. То, что мы отказываемся считать смерть концом биологического существования, связано, скорее всего, с эмоциональной реакцией на идею небытия. Однако некоторую роль может играть и недостаточное понимание самой природы жизни и смерти. Может быть, оно не проявляется так явно, как у детей, но в глубине души оно продолжает существовать.
Давайте посмотрим на понимание взрослыми факта, что растения — живые существа. Растения соответствуют самым строгим критериям жизни (в отличие, например, от вирусов и отдельных органов), и тем не менее рассуждают о них не так. В разговорах о растениях взрослые используют слова «жизнь» и «живой» в пять раз реже, чем в разговорах о животных, — не чаще, чем дети[224]. О растениях мы знаем намного меньше. Люди способны перечислить сотни видов млекопитающих и при этом вспомнят совсем немного деревьев[225]. А если прямо спросить о свойствах растений, люди обычно не считают, что те, например, чувствуют среду, общаются друг с другом или самостоятельно двигаются[226].
Любимый пример скудости наших познаний о растительном мире я почерпнул из курса экологии в колледже. На первом занятии было проведено анкетирование, чтобы оценить исходные знания студентов о предмете. В первом вопросе надо было перечислить пять взаимодействий животных друг с другом, а во втором — пять взаимодействий растений. Первым пунктом один студент написал: «поедают друг друга», «дерутся», «общаются», «преследуют» и «спариваются». Во втором — он ответил: «они НЕ взаимодействуют».
Может быть, самым вопиющим образом интеллектуальное равнодушие к растениям проявилось в исследовании среди учителей биологии[227]. Им показывали на экране компьютера слова и просили как можно быстрее определить, обозначают ли они что-то живое. В списке были животные (попугай, морж), растения (петунья, ива), подвижные предметы (часы, ракета), неподвижные предметы (карандаш, чайная ложка), подвижные природные объекты (гейзер, цунами) и неподвижные природные объекты (галька, раковина).
Учителя биологии всю свою карьеру изучают свойства жизни, поэтому кто, как не они, должен уметь отличать живое от неживого? Тем не менее в условиях нехватки времени преподавателям было сложно отнести растения к живой природе, и они делали в этом случае больше ошибок, чем в отношении животных. Им было непросто правильно классифицировать и движущиеся природные объекты (например, гейзеры и цунами): ошибок было больше, чем в случае неподвижных (гальки и ракушки). Даже если ответ был правильный, классификация растений занимала значительно больше времени, чем животных, а подвижных объектов — больше, чем неподвижных.
Детские представления, связывающие жизнь с движением, явно сохраняются, когда человек начинает понимать биологический мир точнее и даже на профессиональном уровне. Эти представления скрыты, но не исчезают полностью, как не исчезают и детские представления о материи (вторая глава), тепле (третья глава) и форме Земли (шестая глава). В моменты нехватки времени и большой нагрузки они снова дадут о себе знать. Они проявляются и у людей с когнитивными нарушениями, например у пациентов с болезнью Альцгеймера, вызывающей ухудшение памяти и суждений.
Исследователи давно заметили, что при болезни Альцгеймера утрачиваются некоторые аспекты биологических знаний: названия распространенных животных, где эти животные живут и что делают. Раньше считалось, что этот процесс затрагивает исключительно фактическую информацию, но теперь известно, что страдает и концептуальное понимание биологии. Задачи на рассуждения, описанные в этой главе, такие пациенты выполняют на уровне дошкольника[228].
Отвечая на вопрос, что такое быть живым, они редко называют метаболические функции (еду, дыхание, рост), но часто упоминают способность двигаться. Если попросить привести примеры живых существ, они почти всегда называют животных, но редко растения. Больные редко считают живыми цветы и деревья, но часто наделяют жизнью дождь, ветер и огонь. Эти результаты нельзя списать на то, что болезнью Альцгеймера обычно страдают пожилые: взрослые того же возраста, не имеющие этого заболевания, дают биологически точные ответы.
Таким образом, болезнь Альцгеймера, видимо, уничтожает метаболическое понимание жизни, к которому человек приходит примерно в десятилетнем возрасте, и возвращает больного в то наивное состояние, с которого он когда-то начал исследовать биологический мир. Это вполне может иметь психологические последствия. Если заболевание нарушает биологическое осмысление смерти, непонимание ее может породить страх. Однако если знание о смерти исчезает окончательно, возможно, появляется утешение. Если природа милостива, больной присоединяется к маленьким детям «в королевстве, где никто не умирает».
===================================
«SlivUp.me - Палим приватные темы»
Приглашаем на форум по обмену приватной информацией и схемами заработка
Свежие и актуальные материалы в ежедневном режиме!
• Схемы заработка • Онлайн- и Офлайн-бизнес • Инфобизнес • Базы • SMM • Инвестиции • Сайтостроение • Администрирование • Психология • Спорт • Здоровье • Пикап • Эзотерика • и многое другое...
===================================
Глава 9. Рост
День рождения — значимое и большое событие для маленьких детей. Уже за много недель они начинают обсуждать, где его проведут, кого пригласят, что будут делать. На то есть веские причины. В день рождения в жизни ребенка происходит много важных событий. Это возможность получить признание и уважение общества, съесть что-то особенное (торт!) и получить материальное поощрение (подарки!). В день рождения меняется статус среди сверстников. И конечно, меняется возраст.
Последнее — самое загадочное. Дни рождения отмечают в память о появлении человека на свет, но дети не помнят этого события и не понимают смысл рождения как биологического начала. В своем сознании они всегда были отдельной личностью, и у них нет представления, что возраст обозначает число лет, прошедших с того момента, когда они не существовали в таком качестве.
Дети понимают, что в четыре года человек выше, умнее и может больше, чем в три, а трехлетние больше, умнее и способнее двухлетних. Однако значение числовых ярлыков от них ускользает. Для ребенка возраст — это просто социальный идентификатор, как имя или адрес. Когда моему Тедди исполнилось четыре года, он пару месяцев не мог запомнить, что ему больше не три. Когда его спрашивали, сколько ему лет, он отвечал «три», а я напоминал, что теперь ему четыре. Однажды, когда ему задали этот вопрос, он повернулся ко мне и спросил: «Пап, я забыл. Каким числом меня зовут?»
Возраст по своей сути — биологическая концепция, числовое обозначение взросления, и чтобы понять, почему люди становятся старше, дети сначала должны разобраться, как и почему люди растут. На дне рождения эти отголоски изменения возраста вызывают у дошколят большое любопытство. Процесс взросления часто ассоциируется у них с самим мероприятием: дети думают, что, если его пропустить, потеряешь возможность стать старше.
Ученые изучили эту тему при помощи психологического эксперимента: «Представь, что у одного мальчика заболела мама и из-за этого не получилось устроить ему день рождения. На следующий год она решила сделать ему день рождения не один раз, как у всех, а несколько, пока он не станет старше, чем все остальные. Один день рождения для пяти лет, как у его друзей, вскоре еще один для шести лет, через несколько дней — для семи. Как ты думаешь, получится?» Этот эксперимент предлагали детям от четырех до семи лет[229]. Старшие в основном сомневались, что принцип сработает, но почти все младшие дети считали, что все так и будет.
Детям, соглашающимся, что пропуск дня рождения задерживает взросление, а лишний день рождения — ускоряет, не хватает того, что психологи называют виталистической теорией биологии. Витализм — это представление, что живые существа обладают внутренней энергией, жизненной силой, которая позволяет им двигаться и расти. Повседневная деятельность истощает эту энергию, но ее можно восполнять с помощью еды, питья и сна.
С научной точки зрения витализм — это не более чем оболочка для работы метаболизма (жизненная сила — это биохимическая выработка энергии), не требующая понимания тканей и органов, воплощающих метаболические функции. В истории биологии витализм возник за тысячи лет до материалистических (механистических) представлений о жизни[230]. В разных культурах жизненную силу называли разными именами (spiritus animus, чакра, ци, душа, гумор), но она всегда была призвана объяснить необъяснимые на вид процессы: здоровье, движение, заживление, восприятие, рост и развитие.
Витализм в его крайней форме несовместим с биохимическим взглядом на жизнь, так как подразумевает, что жизнь не сводится к одной лишь материи. Однако в более мягких формулировках он означает только то, что внешняя деятельность зависит от какой-то внутренней энергии, и поэтому вполне совместим с биохимией. Витализм дает общее представление о работе живых систем, а наука добавляет необходимые подробности.
В ходе человеческого развития витализм является ступенькой к более сложным представлениям о жизни. Виталистические объяснения биологических явлений появляются на много лет раньше механистических[231], которые обсуждались в восьмой главе. Если предложить дошкольникам и младшеклассникам выбор между виталистическим объяснением питания («мы едим, потому что желудок получает энергию из пищи») и механистическим («мы едим, потому что организм усваивает пищу после того, как ее преобразует желудок), они предпочтут первое.
То же самое касается и других функций организма. Если спросить маленького ребенка, зачем человеку сердце, он обратится к витализму («потому что сердце переносит энергию с кровью»), а не к механистическим толкованиям («потому что сердце — насос, который перекачивает кровь по телу»). То же самое с вопросом, почему мы дышим воздухом: виталистическое «потому что грудь получает энергию из воздуха» побеждает материалистическое «потому что легкие принимают кислород из воздуха и отдают углекислый газ из крови». Старшим детям и взрослым механистические объяснения кажутся правдоподобнее, а витализм они считают недостаточно глубоким.
Есть и другой признак того, что виталистические представления о жизни вырабатываются раньше: представления о жизненных функциях не совпадают с представлениями о том, что живое, а что нет. Подумайте о следующих сущностях: люди, медведи, белки, птицы, рыбы, жуки, черви, деревья, кусты, одуванчики, камни, вода, ветер, Солнце, велосипеды, ножницы и карандаши. Что из перечисленного может расти? А что живое? Для взрослых оба вопроса равнозначны: мы знаем, что все, что может расти, — живое, а все живое растет. Но для дошкольников и младшеклассников ответы различаются[232]. Они считают, что первые десять сущностей (от людей до одуванчиков) растут, а последние семь (от камней до карандашей) нет, но при этом думают, что деревья, кусты и одуванчики не живые, а ветер и Солнце — живые. Лишь к девяти годам дети начинают признавать, что жизнь и рост тесно связаны.
Рис. 9.1. Древнекитайская медицина основывалась на представлении, что все функции организма проистекают из внутренней жизненной силы — энергии ци
То же самое касается потребности в воде и питательных веществах и болезней. Дети наделяют растения этими чертами за несколько лет до того, как начинают считать их живыми[233]. Для определения жизни необходимы механистические представления, в то время как для признания, что существо ест, пьет, растет и болеет, достаточно только виталистических. Ребенок признаёт, что у растений есть жизненная сила, задолго до того, как узнает, где и как эти силы физически воплощены.
Различие между виталистическими (основанными на энергии) и механистическими (основанными на строении организма) представлениями о жизни важно для усвоения детьми биологических понятий. Например, во многих детских садах специально выращивают растения, однако это едва ли убеждает детей в том, что растения живые[234]. К такому возрасту дети уже знают, что растения растут, развиваются и, подобно животным, нуждаются в воде и питательных веществах. Однако непосредственное наблюдение за этими процессами не помогает ребенку понять, что растения на фундаментальном уровне похожи на животных тем, что их жизненные силы воплощены в тканях и органах. На этом этапе жизненные силы не являются для детей однозначно биологическими.
Подумайте о концепции роста еще раз. Маленькие дети понимают, что он влечет за собой изменение формы и размеров, но не понимают, что рост означает: объект живой. Для них рост похож на увеличение кристалла или тучи. И то и другое действительно растет — в буквальном, а не переносном смысле, — но это является побочным продуктом небиологических процессов и имеет другие последствия. Кристаллы и тучи становятся больше, но не усложняются и не начинают по-другому функционировать. Когда дети говорят, что растения растут, они просто имеют в виду, что растения увеличиваются в размерах.
Витализм может создать предпосылки для того, чтобы ребенок связал процесс роста с жизнью, однако рост не будет рассматриваться как следствие жизни, пока сама жизнь не станет восприниматься как следствие внутреннего функционирования организма. Рост можно наблюдать и при этом не интерпретировать. Дети должны понять еще один скрытый слой реальности — организм и его внутренние органы.
Лакмусовая бумажка наличия у детей виталистической теории жизни, кроме их представлений о растениях, — это то, понимают ли они питательную ценность пищевых продуктов. Питание — не только неотъемлемая часть роста и здоровья, но и важнейший элемент социальных обычаев и норм.
То, что человек ест, определяется социальными факторами не меньше, чем биологическими. Это и повседневная рутина (сухие завтраки едят утром, а не вечером, а гамбургеры — вечером, а не утром), культурными табу (американцы едят свернувшееся молоко в виде сыра, но не едят квашеную капусту, а корейцы едят квашеную капусту кимчи и не едят свернувшееся молоко), религиозными табу (мусульмане едят говядину, но не едят свинину, а индусы наоборот), а также диетологическими ограничениями (вегетарианцы едят молочное, но не мясное, а люди с непереносимостью лактозы — мясное, но не молочное).
На эти социальные соображения наслаиваются модные термины, связанные с пищей: «углеводы», «глютен», «антиоксиданты», «добавки», «консерванты», «переработанные продукты», «пробиотики», «органические продукты», «свободный выпас», «цельнозерновые». У этих слов есть строгие определения, но они приобрели и моральный оттенок, стали синонимами «хорошего» и «плохого». В этой трясине социальной и оценочной информации детям сложно понять, зачем нужна пища, не говоря уже о том, что есть надо, а что не следует.
Когда моей дочке Люси было четыре с половиной года, она очень озаботилась одним свойством пищи — содержанием белков. Эта фиксация проявлялась у нее неожиданным образом, например в следующем разговоре о плохом сне:
Люси: Мне приснился кошмар. За мной гнались пираты.
Я: Попробуй подумать о чем-нибудь другом, веселом.
Люси: Я хотела подумать о хорошем, например русалках и дельфинах, но мозг мне не дал.
Я: Ты сама управляешь мозгом. Прикажи ему думать о дельфинах и русалках.
Люси: Не получается. Я съела мало белка.
Люси стала считать белок таким важным для работы организма, потому что воспитательница посоветовала ей есть за обедом сначала белковые продукты (например, курицу), а потом остальные (например, крендельки). В четырехлетнем возрасте Люси часто объясняла нам, что в ее тарелке содержит белок, а что — нет, и в большинстве случаев ошибалась. Ее анализ зависел от того, что ей хотелось есть («в пончиках есть белок»), а что не хотелось («в яйцах белка нет»).
В целом дети в четыре года на удивление плохо определяют пищевую ценность продуктов. Им еще предстоит отграничить биологическое измерение еды (что нужно есть) от социального (что едят другие) и психологического (что хочется есть). В одном из исследований ученые спрашивали четырехлетних малышей, полезны или нет следующие продукты: бекон, фасоль, брокколи, пирожное, морковь, сельдерей, чипсы Cheetos, кукуруза, пончики, помадка, картофель фри и красный перец[235]. Половину списка составляли овощи, а половину — так называемые мусорные продукты. Дети в основном не видели разницы. Овощи они относили к полезным всего в 70% случаев, а «мусорную» еду — в 47%. Очевидно, что многие из них полагали, что бекон и картошка фри не менее полезны, чем сельдерей и красный перец.
Однажды я столкнулся со схожим заблуждением у собственных детей: сыну тогда было семь лет, а дочери — три. Мы пришли на профилактику к педиатру, и тот спросил дочку, какой ее любимый овощ. «Арбуз!» — закричала она. «Это не овощ, а ягода», — поправил ее врач. Затем он повернулся к сыну и задал тот же вопрос. «Макароны», — заявил тот. «Господи! — воскликнул педиатр. — Это плохо говорит о твоих родителях».
К счастью для нас, представления детей о пище можно скорректировать. Продолжая описанное выше исследование, ученые давали четырехлетним детям один из двух вариантов руководства по здоровому питанию: предписывающий или виталистический. В первом случае детям рассказывали, что они должны и не должны есть: «Полезные продукты дают организму то, что ему нужно. Существует множество полезных продуктов, которые лучше есть в больших количествах. Например, овощи — фасоль, сельдерей, морковь, брокколи и кукурузу — надо есть каждый день»[236].
Второе руководство облекало ту же информацию в рамки витализма (исследователи отметили такие вставки курсивом): «Полезные продукты дают организму то, что нужно, потому что внутри них много витаминов. Витамины дают энергию и помогают расти и не болеть. Существует много видов полезной еды, которую лучше есть в больших количествах. Например, овощи — фасоль, сельдерей, морковь, брокколи и кукуруза — полезные, потому что в них много витаминов. Они дадут много энергии и помогут вырасти и не заболеть. Надо есть их каждый день». Вредные продукты тоже были затронуты либо в предписывающем контексте («очень жирные продукты нельзя есть каждый день»), либо в виталистическом («в очень жирных продуктах нет нужных для роста витаминов»).
Обучение в обоих случаях имело одинаковую продолжительность и давало детям основу, чтобы отличать полезные продукты от вредных. Однако эффективным оказалось только виталистическое руководство. Дети в этой группе значимо лучше оценивали пользу пищи, причем как непосредственно после обучения, так и спустя пять месяцев. Подчеркивание виталистических характеристик продуктов позволило им переосмыслить еду и увидеть в ней не только источник наслаждения или недовольства, но и источник питательных веществ (или определить их отсутствие).
Пищевая промышленность, видимо, тоже осознала эффективность виталистических аргументов, и реклама полезных продуктов для взрослых все больше акцентирует пищевую информацию. Теоретически взрослые должны понимать, что овощи полезнее «мусорной» пищи, однако Whole Foods, Trader Joe’s и другие компании считают полезным и выгодным напомнить о влиянии своей продукции на здоровье. Из-за этого капуста кале, водоросли и асаи из скромных растений поднялись до ранга «суперпищи», а Twinkies, бигмаки и апельсиновая газировка превратились из вкусных лакомств в «молчаливых убийц».
Еще более сильный показатель наличия у детей виталистической теории жизни — это то, признают ли они, что пища в биологическом мире может иметь разные формы и что несъедобные для человека вещества могут иметь пищевую ценность для других организмов. В конце концов, люди употребляют в пищу лишь малую долю органического мира. Они не приспособлены, например, есть древесину (ей питаются, например, термиты и жуки), планктон (его едят киты, медузы и другие животные) и навоз (пища для мух, грибов и не только).
Мысль, что что-то несъедобное для человека может оказаться съедобным для других существ, имеет смысл, только если воспринимать продукты как источник питательных веществ. Когда Тедди было три с половиной года, он еще этого не понимал. Это проявилось в таком разговоре о комарах:
Тедди: Как выглядит комариный укус?
Я: Он круглый, красный и чешется.
Тедди: А у комаров большие зубы?
Я: Нет. Вместо зубов у них длинный маленький хоботок, через который они сосут кровь.
Тедди: А зачем они сосут мою кровь?
Я: Потому что они ей питаются.
Тедди: Но ведь кровь несъедобная! Вот курицу можно есть.
Я: Ты ешь курицу, а комары — кровь.
Тедди: А комар укусит моего трансформера?
Я: Не укусит, потому что у трансформеров нет крови.
Определение еды у Тедди было основано на вкусе, а не на питательной ценности. Впоследствии это изменилось, но сначала ему пришлось научиться рассуждать о биологических процессах в виталистических рамках.
Такие рамки формируются не у всех. Иногда они отсутствуют, например у умственно отсталых людей. Это показали исследования одной из форм задержки интеллектуального развития — синдрома Вильямса[237]. Это редкое генетическое заболевание приводит к снижению умственных способностей, но не влияет на языковые навыки. Взрослым больным не хватает большинства знаний, которые человек обычно приобретает в детстве, но их речь не нарушена, и поэтому, в отличие от людей с другими когнитивными нарушениями, они свободно разговаривают о своих знаниях.
Психолог Сьюзан Джонсон, заинтригованная этим необычным сочетанием способностей, попыталась определить, складывается ли у больных синдромом Вильямса виталистическая концепция живого мира. Она и ее сотрудники побеседовали с такими пациентами об их понимании ряда биологических понятий, в том числе о жизни, смерти, росте, метаболизме, размножении и наследственности.
В процессе бесед ученые узнали, что одну из участниц — девушку в возрасте 21 года с IQ ниже среднего, но средними вербальными способностями — захватывали легенды о вампирах. Она прочла несколько романов на эту тему и с радостью делилась полученными знаниями с Джонсон и ее сотрудниками. Те в свою очередь охотно ее слушали, так как вампиры противоречат именно тем биологическим принципам, которым было посвящено собеседование.
«Что конкретно означает слово “вампир”?» — спросили ее.
«О! Вампир — это такой человек, который посреди ночи забирается к женщинам в спальню и кусает их за шею».
Когда исследователи спросили, зачем вампиры это делают, собеседницу это очень озадачило.
«Никогда об этом не думала», — призналась она. После долгой паузы она предложила свою версию: «Наверное, вампирам просто нравятся шеи и они не могут себя сдержать».
Несмотря на давний интерес к теме вампиров, у девушки не сформировалась виталистическая интерпретация их главной черты — сосать кровь. Она не могла сформулировать ее даже тогда, когда ее к этому подталкивали. Вместо этого она рассмотрела это действие с точки зрения психологии и предположила, что вампиры пьют кровь потому, что им хочется, а не потому, что нуждаются в ней.
В целом Джонсон пришла к выводу, что взрослые с синдромом Вильямса редко имеют виталистическую интерпретацию биологических феноменов — любых, а не только связанных с вампирами. Они знают десятки животных, знают, что эти животные делают, но плохо понимают цель этих действий: зачем они едят, растут, умирают. Осознание этих тем находится на уровне скорее четырехлетнего ребенка, чем девятилетнего, не говоря уже о взрослых.
Само знание множества биологических фактов не гарантирует ни виталистического, ни более подробного механистического их понимания. Оба подхода нужно активно формировать, и взрослым с синдромом Вильямса, видимо, просто не хватает для этого когнитивных способностей.
Как было показано выше, биологические теории формируют наши взгляды на то, что является пищей, почему мы ее едим и как она способствует росту и здоровью. Кроме того, эти теории уже в детстве влияют на выбор пищи: что можно есть, а чего лучше избегать. Дети исключительно привередливы в этом отношении. Они воротят нос от богатых витаминами и микроэлементами овощей и налегают на продукты, насыщенные углеводами (хлеб) и жирами (молочное). Заставить детей есть овощи — вечная проблема. Но если показать ребенку виталистическое обоснование этого действия, можно убедить его есть овощи по собственному желанию[238].
Психолог Сара Грипшовер и ее коллеги пришли к такому выводу благодаря сопоставлению выбора продуктов дошкольниками и их понимания пищевой ценности. Детей, участвовавших в исследовании, знакомили с пятью виталистическими принципами:
1) людям нужна разнообразная пища, а не какой-то один ее вид;
2) пища одного типа может принимать разные формы;
3) пища содержит микроскопические элементы, называемые питательными веществами;
4) питательные вещества извлекаются из пищи в кишечнике, а затем кровь переносит их в другие части тела;
5) питательные вещества нужны для всех видов биологической активности — от энергичных (например, бега и скалолазания) до спокойных (например, способности думать и писать).
Усвоив эти принципы, дети меняли свои пищевые привычки. Во время перекуса они добровольно брали целых девять кусочков овощей — в два раза больше, чем те, кто не прошел обучение витализму. Более того, результат был лучше, чем после обучения по программе, разработанной Министерством сельского хозяйства США. В отличие от руководства Грипшовер, ведомство акцентировало внимание не на биологических преимуществах здорового питания, а на удовольствии от такого питания. Оказывается, дети на это не клюют.
Связь между выбором полезных продуктов и убеждениями, связанными с питанием, была обнаружена и у взрослых[239]. Взрослые жалуются, что дети предпочитают овощам жирное и сладкое, но сами в большинстве своем тоже любят злоупотреблять такими лакомствами. Сейчас взрослые американцы весят больше, чем когда бы то ни было. Десятилетиями мы получаем больше калорий, чем нужно (переедаем), а сжигаем меньше (недостаточная физическая активность). И то и другое способствует набору веса. Но спросите себя: в чем главная причина?
Врачи уверены, что важнее переедание[240]. Физическая активность сама по себе — если одновременно не корректировать диету — оказывает на массу тела лишь незначительное воздействие. Тем не менее многие люди полагают иначе, и это сильно отражается на их здоровье. У тех, кто считает недостаток активности главной причиной прибавки в весе, индекс массы тела (ИМТ) на 9% выше.
Этот результат был получен в нескольких странах — в Соединенных Штатах, Франции, Китае, Южной Корее — и не зависит от других факторов, которые влияют на ИМТ, в том числе пола, образования, количества сна, хронического стресса, заболеваний, социально-экономического положения в детстве и в настоящее время, беременности, характера работы, оценки своего здоровья, интереса к вопросам питания, табакокурения и самооценки. Даже с учетом всего этого люди, считающие нагрузку более значимой по сравнению с диетой, имеют более высокий ИМТ, чем те, кто придерживается другого мнения.
Ученые выявили пагубное влияние теории физической нагрузки на массу тела из первых рук. Участников исследования просили заполнить анкету об убеждениях и поведении, связанных с весом, и попутно предлагали перекусить: ставили вазу шоколадок в обертке[241]. Те, кто, по результатам опроса, переоценивал значение физической нагрузки, ели больше шоколада. Другими словами, взрослые с лишним весом, заполняя анкету о прибавке в весе, делали именно то, что ведет к прибавке в весе. Связь очевидна.
До сих пор мы обсуждали представления о том, что способствует росту и здоровью в целом. Однако интуитивные теории роста имеют и второе измерение: они объясняют, как именно меняется организм в процессе. Эти убеждения произрастают не из витализма, а из другого когнитивного искажения — эссенциализма.
Эссенциализм — это представление, что внешний вид и поведение организма определяются их внутренней природой, «сущностью». Когда организм растет, его вид и поведение может измениться, но сущность остается прежней. Более того, именно она служит причиной изменений. Согласно этим воззрениям, организм наследует свою сущность от родителей, тем самым получая потенциал развить типичные видовые черты. Считается, например, что коровы и свиньи от рождения получают фундаментально иную сущность. Из-за этого у коровы появляются рога, вымя и вкус к траве, а свинья приобретает розовую кожу, хвост крючком и начинает любить помои.
В повседневной жизни слово «сущность» используют редко, но сама эта идея буквально пронизывает наши представления о росте и развитии. Подумайте об историях, в которых истинная природа героя оказалась скрыта из-за несчастливого или необычного оборота событий, но в конце засияла всем своим блеском: «Гадкий утенок», «Царевна-лягушка», «Лис и пес», «Золушка», «Аленький цветочек», «Меч в камне», «Принцесса на горошине». Хотя в большинстве случаев в них действуют не животные, а люди, сюжет все равно эссенциалистский. Главные герои по своей сути не такие, какими воспринимают их окружающие, но бросают вызов этому восприятию. Некоторым утятам суждено стать лебедями, а некоторым крестьянкам — принцессами.
Поскольку такого рода сказки нравятся и детям, и взрослым, вполне вероятно, что эссенциализм развивается сам собой, без какого-то специального опыта или обучения. Психологи заинтересовались этой темой, и их исследования подтверждают данную гипотезу. Дети становятся эссенциалистами в тот момент, когда впервые задумываются, как и почему организмы меняются по мере роста.
Пионером исследований в этой области стала Сьюзан Гельман. Ее группа оценивала интуитивный эссенциализм у маленьких детей несколькими способами. Самый прямой подход — это психологические эксперименты, похожие на сказку о Гадком утенке. «Жила-была корова по имени Эдита. Когда Эдита появилась на свет и была совсем маленьким теленком, ее взяли на ферму, где жили свиньи. Много свиней. Свиньи заботились об Эдите. Она выросла среди них и никогда не видела других коров. Когда Эдита повзрослеет, какой у нее будет хвост? Прямой или завитком? А как она будет говорить? Мычать или хрюкать?»[242]
Этот мысленный эксперимент противопоставляет разные причины появления специфичных видовых черт: воспитание и происхождение. Дети обычно выбирают происхождение. К четырем годам они утверждают, что у Эдиты будет прямой хвост и она будет говорить «му». А если историю вывернуть наизнанку — сказать, что Эдита от рождения свинья, но воспитывали ее коровы, — дети будут считать, что хвост должен быть завитком и она будет хрюкать.
Рис. 9.2. Если ребенку рассказать, что животное родилось коровой, но воспитывали его свиньи, он предскажет, что по мере роста появятся черты, характерные для коровы, а не для свиньи. Это касается и анатомии (белый, а не розовый), и поведения (мычание, а не хрюканье)
Конкретные животные и характеристики, включенные в историю, не имеют значения. Четырехлетние дети считают, что кенгуру, воспитанное среди коз, будет хорошо прыгать, а не лазать по горам, воспитанный лошадьми тигр будет полосатым, а не одноцветным, а кролик, которого вырастили обезьяны, будет любить морковку, а не бананы. Четырехлетние дети даже признают, что из лимонного семечка, посаженного в апельсиновому саду, вырастет лимон, а не апельсин. Это впечатляет, учитывая, что дети в этом возрасте даже не считают растения живыми.
Исследователи проводили[243] такие эксперименты с бразильскими, израильскими детьми, с детьми майя в Мексике, народности везо на Мадагаскаре и меномини в штате Висконсин. Все дети считали, что «усыновленные» животные, когда повзрослеют, будут иметь черты биологических, а не приемных родителей. Эссенциалистские убеждения о росте, таким образом, представляются универсальными. Эти взгляды настолько повсеместны, что появляются даже там, где эссенциалистский анализ явно неуместен.
Один из таких контекстов — социология[244]. Такие категории, как раса, национальность, профессия, религия и социально-экономическое положение, мало связаны с биологией или вообще с ней не связаны. Тем не менее многие применяют эссенциализм и здесь, рассматривая эти черты как стабильные, дискретные, единые и дающие информацию о психологии. Этой ошибке подвержены и дети. Они считают, что представители разных социальных категорий отличаются друг от друга не меньше, чем представители разных видов.
Если семилетнего ребенка попросить оценить сходство между членами разных общественных групп — например, арабами и евреями или богатыми и бедными, — они видят между ними лишь немного большее сходство, чем между разными животными. Они утверждают, в частности, что богатые отличаются от бедных предпочтениями, внешним видом, поведением и физиологией так же, как по тем же характеристикам слоны отличаются от львов. Это значит, что дети относятся к социальным категориям так же, как к биологическим, и наделяют их членов разным врожденным потенциалом.
Другой контекст, в котором эссенциалистские представления о росте применяются неуместно, это пересадка органов. Как и целым организмам, органам приписывают сущность — сущность донора[245]. В качестве иллюстрации представьте себе следующий сценарий. Врач обнаружил у вас порок сердца и пришел к выводу, что без пересадки неизбежны тяжелые последствия для здоровья. К сожалению, список доноров невелик и доступно только сердце серийного убийцы. Вы примете сердце убийцы? А как насчет сердца шизофреника? А сердца свиньи?
Большинство людей не горят желанием принимать сердце любого из этих доноров, поскольку наделяют орган сущностью прежнего хозяина. Если попросить представить, как после операции изменится личность и поведение реципиента, большинство скажут, что их черты претерпят значительные изменения и станут похожи на соответствующие черты донора. Такое восприятие не ограничивается трансплантацией сердца. Переливание крови и генная терапия тоже воспринимаются как вмешательства, способные изменить поведение. Женщина средних лет, получившая сердце и легкие от восемнадцатилетнего юноши, любившего пиво и мотоциклы, даже написала мемуары о том, как ее личность и интересы постепенно начали совпадать с его. Она назвала книгу довольно метко: «Перемена чувств»[246].
С научной точки зрения представления о переносе сущности от человека к человеку и от вида к виду просто нелепы. Но эссенциализм — это не наука, а донаучное представление о наследственности, так же как витализм — донаучное представление о метаболизме. Он вносит беспорядок не только в представления о росте и развитии, но и в другие области биологии, которые мы рассмотрим в следующих главах: генетику (десятая глава), эволюционную адаптацию (двенадцатая глава) и происхождение видов (тринадцатая глава).
При всех своих недостатках эссенциализм позволяет увидеть развитие организма от одного физического состояния к другому: от теленка к корове, от поросенка к свинье, от гусенка к гусю. Можно нанести на карту даже совершенно непохожие стадии: от гусеницы к куколке и бабочке, от икринки к головастику и лягушке, от семечка к ростку и дереву. Эссенциализм признаёт не только то, что организм сохраняет видовую идентичность по мере роста, но и то, что идентичность раскрывается со временем, влияя на внешний вид и поведение.
Как ни странно, проследить развитие личности, в том числе собственной, человеку намного сложнее. С точки зрения дошкольников, люди не меняются — по крайней мере не слишком. Им кажется, что некоторые оказались на земле как дети, а другие — как взрослые. Мысль, что дети вырастают, не так очевидна, как может показаться. Посмотрите, например, следующий разговор психолога Сьюзан Кэри с ее дочерью Элизой, которой тогда было три с половиной года:
Дочь: Когда я вырасту, больше не будет маленькой девочки по имени Элиза.
Мама: Да, так и есть.
Дочь: И тогда ты пойдешь и купишь другую?
Мама: Нет. Мы любим ту Элизу, которая у нас есть, и другая нам не нужна. А как ты думаешь, что с тобой случится, когда ты вырастешь?
Дочь: Я стану учительницей.
Мама: А как тебя будут звать?
Дочь: Сату [имя ее любимой воспитательницы][247].
Они несколько недель разговаривали на эту тему: дочь пыталась осмыслить, как можно превратиться из ребенка во взрослого и остаться при этом тем же человеком. Кэри поняла, что загадка разгадана, когда дочь наконец спросила: «Мам, когда ты была маленькая, тебя тоже звали Сьюзан?»
Я помню такой же случай с моим Тедди. Все началось, когда ему было четыре с половиной года. Мы играли в игру, смысл которой был в том, чтобы разложить в хронологическом порядке карточки, образуя причинно-следственную цепочку. На карточках был изображен яблочный пирог, яблоки на дереве, нарезанные яблоки и яблоки в корзине, нужно было догадаться, что все это шаги к яблочному пирогу, и правильно их расположить (яблоки на дереве — в корзине — нарезанные — пирог).
Для взрослого игра банальна, но для дошкольника она сложная. Один набор карточек вызвал у Тедди особенные затруднения: младенец, ребенок, юноша, старик. Он никак не мог догадаться, что причинная связь здесь — это рост. Когда я сложил последовательность за него, он очень удивился. «А почему так правильно?» — спросил он, а потом внимательно посмотрел на карточки и выпалил: «Я что, стану стариком?!»
В следующие несколько месяцев Тедди несколько раз спрашивал о росте и старении. Однажды, когда он ложился спать, я понял причину страха:
Я: Иди спать. Тебе надо как следует выспаться, чтобы расти.
Тедди: Я буду все больше и больше, а потом… я вырасту и стану старый?
Я: Это будет очень, очень не скоро. Тебе сначала надо вырасти в большого мальчика, потом в подростка, потом ты станешь молодым мужчиной, потом папой.
Тедди: А когда я состарюсь, как мне вернуться в настоящего себя?
Я: В настоящего себя?
Тедди: Как мне вернуть свои руки? И ноги?
Тедди не мог понять, как его тело может стать таким, как у старика. Куда денется то тело, которое у него уже есть? Постепенность и непрерывность процесса старения от него ускользала, так как за свою короткую жизнь он мало с ним сталкивался: пожилые люди вокруг всегда были такие. Какая жестокая шутка природы может состарить молодого человека?
У моей дочки Люси в пятилетнем возрасте проявилось другое, но не менее любопытное заблуждение. В музее естествознания ей предложили нарисовать себя в будущем. Она нарисовала целых три картинки: «Я богатая», «Я богатая и старая» и «Я умерла». Каждый раз она рисовала всю семью — на картинке «Я умерла» мы все были в гробах. При этом себя она всегда изображала вполовину роста родителей — ребенком. Она уже знала, что когда-нибудь состарится и умрет, но еще не разобралась, что это значит с точки зрения биологии. Еще она не осознавала, что родители, скорее всего, умрут задолго до нее.
Смущение, которое вызывает у детей взросление, связано с непониманием биологических процессов в целом: им еще только предстоит связать взросление и рост. Эта связь становится очевидной в раннем школьном возрасте, но бывает, что осознание ее последствий в полной мере так и не приходит. Даже будучи взрослыми, нам сложно принять неизбежные возрастные изменения, как физические (седина, обвисшая кожа, раздавшаяся талия), так и психические (новые взгляды, ценности, интересы)[248]. Психологи пришли к выводу, что психологического развития люди практически не осознают.
Рис. 9.3. Старение непрерывно, но мы воспринимаем его как поэтапный процесс. Детям, в частности, сложно уловить непрерывность перехода к текущей стадии жизни от предыдущей (младенчества) и от текущей стадии к будущей (взрослому возрасту)
Если спросить двадцатилетнего, насколько изменились его предпочтения — любимая музыка, еда, увлечения и друзья — за последнее десятилетие, он, скорее всего, ответит, что довольно существенно (в среднем 40%). Если затем поинтересоваться, насколько, по его мнению, его текущие предпочтения изменятся в следующее десятилетие, он скажет, что еще меньше (в среднем 25%). Другими словами, люди в этом возрасте соглашаются, что не всегда предпочитали Тейлор Свифт другим музыкантам, суши — другим видам пищи, а йогу — другим хобби, но думают при этом, что все эти предпочтения сохранятся следующие десять лет.
Может быть, их размышления о том, что вкусы становятся все стабильнее, верны: в конце концов, подростковый возраст — это время быстрого развития, и взгляды, сформировавшиеся к концу этого периода, могут быть стабильнее, чем были до этого. Проблема в том, что тридцатилетние точно так же считают, что их предпочтения в следующее десятилетие изменятся намного меньше, чем за прошедшие десять лет. То же самое наблюдается в 40 и 50 лет.
Оказывается, люди всех возрастов считают текущие предпочтения более стабильными, чем предыдущие. Мы убеждены, что последнее десятилетие жизни сформировало нашу личность в большей степени, и обобщаем это представление на разные сферы, в том числе на черты характера (например, открытость, добросовестность, экстравертность, покладистость и нервность) и ключевые ценности (например, важность достижений, наслаждений, независимости, доброжелательности, соблюдения традиций, соответствия окружению, безопасности, власти).
Таким образом, даже взрослые имеют неправильное представление о том, в какой степени меняется со временем человеческая личность. Мы, взрослые, много раз видели такое развитие своими глазами и все равно хронически недооцениваем перемены, которые ждут нас в будущем. В любой момент времени нам кажется, что достигнута конечная стадия формирования идентичности, кульминация развития нашего характера. Вероятно, мы лучше детей осознаём вероятность физических возрастных изменений, но гораздо хуже — психологических изменений с возрастом. Наше текущее «я» всегда кажется «настоящим», единственным и неизменным.
Глава 10. Наследственность
Если поискать в интернете картинки по запросу «клон», вашим глазам предстанут всевозможные ужасы: двухголовые коровы, шестиногие собаки, одноглазые котята, люди-киборги и младенцы в колбах. Запрос «генная инженерия» откроет другие кошмары: светящихся в темноте котов, оскаленную клубнику, кровавые яблоки и помеси бурундуков с тарантулами. Такие картинки, вообще говоря, не имеют ничего общего ни с клонированием, ни с генной инженерией. Это либо фотомонтаж (например, клубника с клыками), либо естественные уродства (например, двухголовая корова).
В воображении людей клонирование и генная инженерия намного страшнее, чем в реальности. Клоны — это всего лишь генетически идентичные организмы. Они существуют с тех пор, как организмы начали размножаться. Все мраморные раки — это клоны своих матерей, равно как и браминские слепуны, пенангские чешуепалые гекконы и ящерицы-бегуны. Эти виды размножаются бесполо, то есть без участия генетического материала второго родителя. Их представители — клоны своих предков. Кроме того, однояйцевые близнецы тоже клоны, будь то коровы, котята или (о ужас!) люди.
Генной инженерией человечество занимается тысячелетиями. Технологии, позволяющие непосредственно переносить гены из одного генома (скажем, от рыбы) в другой (например, помидору), появились недавно, но с геномами других видов мы химичим испокон веков. Кукуруза не существовала бы, если бы люди не выращивали отобранные дикие травы, получая всё более налитые, питательные зерна. То же самое верно для яблок, апельсинов, клубники, миндаля, свиней, кур, лошадей и собак. Большинство организмов, которые мы выращиваем ради пищи, труда и в качестве компаньонов, подвергалось генной инженерии в форме селекционного разведения. Никто не приручал пуделей, бродящих по диким местам в поисках хозяина: эта порода была выведена из волков путем генной инженерии.
На генетике основаны технологии, которые в современном обществе вызывают самые противоречивые эмоции: клонирование, трудоустройство по генетическим признакам, генетический скрининг эмбрионов, генетическое исследование родословной, генетическая модификация бактерий для использования в промышленности, генная модификация злаков и скота, продажа генетически модифицированных продуктов питания. Большинство людей как в Соединенных Штатах, так и в других странах всего этого опасаются. При этом лишь немногие по-настоящему понимают, что такое гены и какую функцию они выполняют[249].
В недавно проведенном исследовании 82% американцев поддержали обязательную маркировку продуктов, полученных с использованием генной инженерии[250]. Однако примерно столько же (80%) поддержали и обязательную маркировку «продуктов, содержащих ДНК». Если 80% общества не знают, что практически все продукты животного и растительного происхождения содержат ДНК, разве можно доверять их мнению в отношении генетически модифицированной пищи?
Откровенно говоря, генетика — сложная тема, и многих взрослых не учили ей в школе в достаточном объеме. Для проверки знаний в этой области попробуйте определить, истинны или ложны следующие утверждения:
1. Однояйцевые близнецы при рождении имеют одинаковые гены.
2. У человека в среднем половина генов такая же, как у его братьев и сестер.
3. Два представителя одной расы генетически более схожи друг с другом, чем два представителя разных рас.
4. Две женщины всегда генетически больше похожи друг на друга, чем мужчина и женщина.
5. В разных частях организма разные гены.
6. Отдельные гены прямо контролируют определенные виды поведения.
Рис. 10.1. Практика маркировки продуктов, не полученных из живых организмов (например, соли, пищевой соды и воды), как «не содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО)» — это признак повсеместной генетической безграмотности
Большинство людей считают, что все шесть пунктов верны[251]. В реальности верны лишь первые два, а остальные ложны.
Связь между генами и физическими чертами намного сложнее, чем может показаться. У человека приблизительно 20 тысяч генов, и их экспрессия происходит благодаря каскаду взаимозависимых биохимических реакций. Нет какого-то одного гена, который определяет расу и даже половую принадлежность, а генов, общих у двух людей одной расы и пола, исчезающе мало по сравнению с тысячами разных[252]. Вообще, генетическое разнообразие в рамках одной расы обычно не меньше, чем между расами, поэтому большинство ученых считают расу социальным конструктом[253].
Отчасти людям не хватает знаний о генетике из-за плохого образования, но есть и другая причина — склонность человека к эссенциализму[254]. Как уже отмечалось в предыдущей главе, эссенциализм — это представление о том, что наблюдаемые черты организма определяются его внутренней ненаблюдаемой «сущностью». Сущности считаются неизменными (тигр всегда останется тигром), однозначными (тигры в своей основе одинаковые), дискретными (тигры фундаментально отличаются от других животных) и врожденными («тигриная сущность» приобретается при рождении).
Дети верят, что рост и развитие организма определены его сущностью, но не знают, где именно она расположена — просто «что-то внутри»[255]. У взрослых же сущность ассоциируется с генами. Раз черты организма определяются генами, значит, гены — это вместилище его сущности. Однако подобная ассоциация порождает проблемы, поскольку большинство наших убеждений о сущностях к генам не применимо.
Гены не остаются неизменными: они мутируют под действием канцерогенов и из-за ошибок при копировании. Гены не однозначны: они участвуют в экспрессии множества потенциально различных черт. Гены не дискретны: они работают сообща с рядом других генов. И гены, хотя и передаются по наследству, меняются на протяжении жизни организма путем химической модификации (метиляции), из-за чего меняется их экспрессия.
Привязывание сущностей к генам порождает целый ряд неправильных представлений о поведении[256]. Мы переоцениваем роль генов в формировании свойств, которые кажутся наследственными (ум, импульсивность, психические заболевания), и полагаем эти черты жесткими и запрограммированными. Мы слишком акцентируем непохожесть представителей разных социальных категорий, если считается, что эти категории заданы генетически (раса, половая идентификация, половая ориентация). Мы недооцениваем моральную ответственность преступников, если их поступки кажутся связанными с генетикой (наркомания, домашнее насилие, изнасилования). А еще нам не нравится пища, созданная путем трансгенной модификации — переноса генов от одного вида другому, — хотя доказано, что такие продукты безопасны[257].
Эссенциалистские трактовки генетической информации не только неточны и непродуктивны, но и сильно мешают правильной интерпретации. При этом эссенциализм — универсальная отправная точка для рассуждений о наследственности. Даже генетики когда-то были дошкольниками и видели в биологическом мире дискретные, неизменные сущности.
Эссенциализм совсем не так плох. Как уже отмечалось в девятой главе, он позволяет отслеживать идентичность организма в процессе изменений внешнего вида и среды, а также делать предсказания о появлении специфичных видовых черт. Но эта теория никак не объясняет передачу этих черт из поколения в поколение. Дети знают, что у родителей появляется потомство того же вида, наделенное специфичными для этого вида особенностями, но не знают, почему так происходит[258]. Им непонятно, откуда у одних организмов берется врожденный потенциал, чтобы стать уткой, а у других — чтобы стать лебедем.
Иначе говоря, эссенциализм снабжает детей интуитивной теорией роста, но не теорией наследственности. Из-за этого пробела у них появляется несколько заблуждений, в том числе:
1) убеждение, что психические черты такие же наследуемые, как и физические;
2) убеждение, что сходство распространяется на социальные отношения, а не на репродуктивные;
3) убеждение, что организм может изменить видовую принадлежность, если достаточно сильно изменить его физиологию.
Начнем с первого пункта. Вспомните, что, по мнению дошкольников, у детенышей будут развиваться черты биологических родителей, даже если они выращены животными другого вида. Если сказать, что поросенок вырос в окружении коров, дети выразят уверенность, что хвост у него будет крючком и он будет хрюкать. Выращенный свиньями теленок, соответственно, должен мычать, и хвост у него должен быть прямым. В четыре года дети во всем мире отдают предпочтение биологическим, а не приемным родителям, но при этом не понимают, почему биологические родители так важны. Они не догадываются, что черты биологических родителей физически запрограммированы и эта программа передается потомству благодаря механизмам, которые действуют до рождения.
Непосредственно проверить, насколько дошкольники понимают процесс передачи черт, довольно сложно, но можно действовать косвенно, предлагая эксперименты о чертах, которые не запрограммированы в организме и поэтому не передаются от родителя ребенку до рождения. Психические качества хорошо подходят под это описание. Они передаются по наследству — дети обычно разделяют взгляды, ценности и обычаи своих родителей, — но это достигается путем обучения, а не передачей генетического материала при зачатии. Физические же черты есть уже при рождении, а психические — формируются воспитанием.
Психолог Грег Соломон и его коллеги рассмотрели эту возможность[259]. Они предлагали детям от четырех до семи лет сценарии усыновления, аналогичные историям коров и свиней, но главными героями на этот раз были люди. Вот пример: «Жил-был король. У него не было детей, но ему очень хотелось иметь наследника. Поэтому он стал путешествовать по своему королевству и однажды встретил пастуха, у которого детей было много. Король решил усыновить маленького ребенка и вырастить его как собственного сына. Пастух согласился, и король взял мальчика к себе. Король любил приемного сына, а тот любил короля. Ребенок вырос во дворце и стал принцем».
Рассказав эту историю, Соломон спрашивал, на кого будет внешне и психически похож принц — на короля или на пастуха. Детям говорили, например, что у короля зеленые глаза, а у пастуха — карие, и интересовались, какие глаза будут у принца, когда он вырастет. Еще были вопросы про волосы (курчавые или прямые), голос (высокий или низкий), рост (высокий или низкий), а также психические черты.
Дети старше семи лет различали эти характеристики и считали, что физически принц будет похож на пастуха (своего биологического отца), но психические черты получит от короля (приемного родителя). Дети в возрасте до семи лет склонялись в некоторых случаях к родному отцу, а в некоторых — к приемному, то есть их суждения были смешанными. При этом не наблюдалось последовательного соотнесения биологического отца с физическими чертами, а приемного — с психическими.
Таким образом, дети до семи лет не проявляют понимания, почему потомство похоже на родителей. Убеждения в существовании врожденного потенциала в этой ситуации было мало, так как и биологический, и приемный родитель принадлежали к одному виду, а физические и психические черты специфичны для вида.
В последующем исследовании Соломон привел еще более веские доказательства того, что первые ожидания детей в отношении наследственности не являются четко биологическими[260]. В данном случае ученый сопоставлял физические черты не с психическими, а с совершенно произвольной чертой — цветом рубашки. Сценарий усыновления был следующий: «У этой пары — мистера и миссис Смит — есть маленькая дочка. Она родилась из живота миссис Смит. После появления на свет она стала жить вот с этими людьми, мистером и миссис Джонс. Девочка постоянно жила с ними. Они заботились о ней: кормили, покупали ей одежду, обнимали и целовали ее, когда ей было грустно. Они очень ее любили, а она любила их. Они называли ее “дочка”, а она их — “мама” и “папа”. Теперь она подросла. Вот две фотографии девочек. Можешь сказать, на какой из них она?»
Рис. 10.2. Маленькие дети смотрят на наследование примерно так, как показано на этой иллюстрации. Они не различают черт, передаваемых физически и передаваемых социально
В одном из вариантов у Смитов была светлая кожа, а Джонсов — темная, и детям предлагали решить, какого цвета кожа будет у девочки, родившейся у Смитов и воспитанной четой Джонс. В другом варианте цвет кожи был одинаковый, но при этом Смиты носили красные рубашки, а Джонсы — синие. В данном случае детям надо было определить, какую рубашку будет носить девочка — красную или синюю. Формально на второй вопрос нельзя ответить однозначно, однако дошкольники в исследовании Соломона так не считали. Они всегда вставали на сторону биологических родителей (Смитов), полагая, видимо, что цвет рубашки наследуется так же, как цвет кожи.
Учитывая детскую убежденность в том, что цвет рубашки передается по наследству, было бы неуместно приписывать им биологическое понимание наследования цвета кожи и вообще любой физической черты. Они не видят различий между чертами, приобретаемыми биологически и социально.
Это верно независимо от того, как ребенок контактирует со свойствами, приобретаемыми социально. Например, дети, которые очень рано начали учить иностранный язык из-за переезда в другую страну или на занятиях с погружением, на своем опыте испытали передачу характеристики (язык) посредством общения и могли бы уяснить разницу, но этого не происходит[261].
Последовательно двуязычные дети (выучившие сначала один язык, а затем другой) проваливают задачи на усыновление точно так же, как их одноязычные сверстники, но проявляют при этом уникальную особенность. Вместо того чтобы в обоих случаях вставать на сторону биологических родителей или непоследовательно колебаться, они в основном выбирают приемных родителей. Понимание социального происхождения языка явно подталкивает их к убеждению, что все черты, в том числе цвет глаз и характер волос, передаются социально. Культурный релятивизм у них доходит до крайности.
Другой контекст, в котором у маленьких детей проявляется отсутствие биологической теории наследственности, — это родство. Родственные отношения — врожденные, как физические черты. «Титул» сына положен от рождения, его нельзя получить со временем. Мужчина становится сыном в момент появления на свет и тогда же может приобрести другие «звания», например родного брата, двоюродного брата, племянника.
Эти титулы по своей сути биологические и размечают отношения между членами одной семьи: кто у кого родился, кто чей потомок, у кого с кем общие предки. Однако дети изначально понимают термины родства совсем не так и интерпретируют их только с точки зрения социальных отношений.
Конечно, социальные аспекты родства более заметны, чем биологические. Дети очень редко своими глазами наблюдают рождение младших братьев, сестер и кузенов, во всяком случае в обществах, где роды проходят в больнице. Ни один ребенок не видел рождения старших братьев и сестер — родных или двоюродных, не говоря уже о появлении на свет родителей, дедушек и бабушек. Дети, таким образом, окружены людьми, обозначенными как «брат», «дядя» или «двоюродный брат», и придумывают собственные социальные объяснения этих ярлыков. Дядя становится другом мужского пола примерно в возрасте родителей, а брат — другом мужского пола приблизительно схожего возраста. Подразумевается, что два брата живут в одном доме, а дядя — в другом. С братом должны быть общие интересы, а с дядей — нет. И так далее.
Когда Тедди только исполнилось четыре года, мы заметили, что он начал называть самых близких друзей «братьями». В то время у него еще не было братьев и сестер, но ему отчаянно хотелось их иметь, особенно братика, и он не хотел ждать, пока родители его «найдут». Особенно охотно он считал своими братьями двоюродных братьев. Их было трое: Мэтт и Чарли на несколько лет старше него и Кевин на несколько лет младше. Я обратил внимание, что Тедди называет братьями только Мэтта и Чарли, и спросил почему.
Я: У тебя есть братья?
Тедди: Да! Мэтт и Чарли.
Я: А разве они не двоюродные братья?
Тедди: Нет, просто братья.