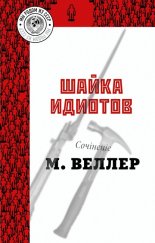Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах Эппле Николай
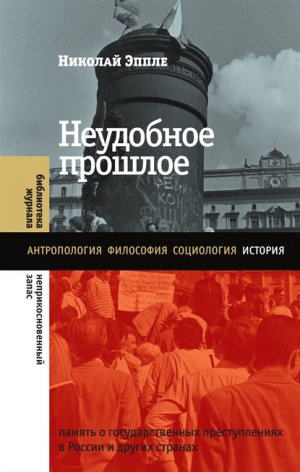
В апреле и октябре 1991 года, после стремительного распада СССР, принимаются законы «О реабилитации репрессированных народов» и «О реабилитации жертв политических репрессий». Они стали основанием для реабилитации еще 650 тысяч человек. Последний закон и до сего дня остается единственным российским законодательным актом, где напрямую осуждаются преступления советского режима, а также обозначаются начало и конец советской власти.
Один из депутатов во время слушаний заявил не без иронии, что это первый официальный документ, в котором узаконивают начало и конец советской власти. И он был недалек от истины[69].
Преамбула закона в своем роде уникальна:
За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Верховный Совет Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека.
Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба (выделено мной. — Н. Э.).
(Упоминание морального ущерба было исключено из закона поправками 2005 года.)
В 1990е годы происходит всплеск поисковой и исследовательской работы. Именно в это время обнаруживаются крупнейшие места захоронений жертв советского государственного террора — Медное (1991), Коммунарка (1991), Бутовский полигон (1992), Сандармох (1997), Красный бор (1997) и другие места. Помимо Соловецкого камня в Москве, устанавливаются мемориалы жертвам репрессий в Ростове-на-Дону (1994), Санкт-Петербурге (Кресты, 1995; Левашово, 1996), Магадане (1996), Перми (1996); мемориалы жертвам депортаций в Грозном (1994) и Назрани (1997). Параллельно с поиском захоронений в России и других странах бывшего СССР силами активистов и историков начинается работа по составлению Книг памяти жертв репрессий. Заметная часть этой работы ведется в рамках подготовки материалов для канонизации новомучеников[70].
Распад СССР запускает процессы формирования памяти о жертвах репрессий в бывших республиках, а теперь независимых государствах. Для всех них 1990-е годы оказываются временем всплеска интереса к истории советского государственного террора как основанию для новой коллективной идентичности. В одних постсоветских государствах память о репрессиях оказывается основанием для выстраивания исторической политики с акцентом на советской оккупации, как в странах Балтии[71], в других — на нарративе о многоэтничной нации «плавильном котле», как в Казахстане[72], в-третьих — на памяти о жертвах Голодомора, как на Украине[73]. В эти годы мемориалы жертвам советского государственного террора открываются на Украине (в том числе мемориал в Быковнянском лесу под Киевом), в Беларуси (урочище Куропаты под Минском, мемориалы расстрелянным на «Шоссе смерти» в районе г. Червень и другие), в Казахстане (в Астане и многих других местах, в 2000х открылись музейные комплексы, посвященные истории Карлага и Акмолинского лагеря жен изменников Родины), Латвии (мемориалы в Риге, Елгаве, Юрмале и других городах), Эстонии (в Таллинне, Тарту, Нарве), Литве (мемориалы ссыльным и политзаключенным в Вильнюсе и Каунасе), Грузии, Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Узбекистане.
Путч 1991 года, последовавший за ним распад СССР и победа на выборах демократических сил придают разговору о советском прошлом новые акценты. Впервые в центр государственного дискурса выходит обсуждение и осуждение революции 1917 года и коммунизма, а государственный террор начинают рассматривать как прямое следствие этого исторического перелома. Борис Ельцин, первый президент России, в первом же послании Федеральному собранию предложил рассматривать новую власть как восстановление «естественной исторической и культурной преемственности» с дореволюционной Россией, нарушенной в 1917 году. Критика октябрьской революции усилилась в 1996 году с началом новой предвыборной кампании, на которой реальную угрозу Ельцину представлял кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов. В послании Федеральному собранию 1996 года Ельцин говорил:
Важно до конца осознать, что трагические последствия коммунистического эксперимента были закономерны ‹…› И массовые репрессии, и жесткий политический монополизм, и классовые чистки, и тотальное идеологическое «прореживание» культуры, и отгороженность от внешнего мира, и поддержание атмосферы враждебности и страха — все это родовые признаки тоталитарного режима. И все это означает, что путь назад — это путь в исторический тупик, к неизбежной гибели России.
Стремление во что бы то ни стало дискредитировать КПРФ и Зюганова лишило Ельцина и его сторонников возможности дать компромиссную трактовку октябрьской революции, отмечает политолог Ольга Малинова в книге, посвященной символической политике российской власти с 1991 по 2014 год[74]. Такая трактовка позволила бы увидеть в революции трагическое, но «великое» событие отечественной и мировой истории. Отказ от легитимации демократических реформ в глазах широкой аудитории через адаптацию революции как мифа основания «старого режима» к новому контексту фактически отдавал важный исторический символ, основательно укорененный в коллективной памяти, в безраздельное пользование политическим оппонентам.
Переопределение Октября в качестве «трагедии» и «катастрофы» означало резкую трансформацию смыслов: то, что прежде воспринималось через фрейм «национальной славы», теперь стало рассматриваться согласно логике «коллективной травмы». Это должно было повлечь за собой радикальное переформатирование сложившихся практик коммеморации и инфраструктуры памяти: нужно было не только перенести акцент с «героев» (которые перестали быть героями) на «жертв», но и воздать по заслугам «палачам». Эта работа требовала ресурсов и была сопряжена со значительными политическими рисками. И дело не только в том, что выяснение «истинных» ролей «героев», «палачей» и «жертв» в обществе, прошедшем через гражданскую войну, — неизбежно болезненный процесс. Столь резкое изменение смысла исторического события, выполнявшего функцию мифа основания, затрагивает всю конструкцию коллективной идентичности. Заменить «национальную славу» «коллективной травмой» не так просто…[75]
После выборов, на которых за кандидата от КПРФ в первом туре проголосовали 32 % избирателей (всего на 3 % меньше, чем за Бориса Ельцина[76]), власти начинают искать пути смягчения конфронтации. В 1996 году Ельцин издает указ, объявляющий 7 ноября Днем согласия и примирения, а следующий год 80-летия октябрьской революции — «годом согласия и примирения».
По словам Любови Пихоя, тогдашнего спичрайтера Бориса Ельцина, идея переименования праздника возникла в октябре 1996 года на одном из совещаний у руководителя президентской администрации А. Чубайса:
После Великой Октябрьской революции прошло более 70 лет, и можно изменить символику. Почему бы не переименовать праздник Великой Октябрьской революции в праздник, объединяющий всех, в День согласия и примирения? То есть Октябрьская революция всех разделила, но мы не отменяем этот праздник, а переименовываем[77].
В том же указе предусматривалось проведение конкурса на создание памятника, увековечивающего жертв «революций, гражданской войны и политических репрессий». Эта идея так и осталась нереализованной. И хотя представители элит высказывались за «преследования фашистско-большевистской идеологии и ее носителей», единодушия не было, и царила скорее растерянность. (Накануне 59-летней годовщины революции бывший соратник М. Горбачева А. Н. Яковлев опубликовал в «Российской газете» статью «Если большевизм не сдается», в которой доказывал, что «путь к торжеству свободы в России может быть прерван в любой день, если не поставить вне закона большевистскую идеологию человеконенавистничества». Автор статьи обращался к президенту России, Конституционному суду, правительству, Генеральной прокуратуре, Федеральному собранию с призывом «возбудить преследования фашистско-большевистской идеологии и ее носителей». Однако Ельцин и его окружение не захотели играть на обострение.)[78] Характерно, что, в отличие от коммеморации победы 1945 года, попыток сформировать сценарии и ритуалы празднования Дня согласия и примирения не предпринималось, в итоге этот день превратился в «праздник со стертым значением».
С отставки Бориса Ельцина и прихода ему на смену Владимира Путина начался новый этап политики памяти о советском прошлом. Подход, почти сразу обозначенный Путиным, некоторые исследователи удачно называют «доктриной тотальной преемственности». В первую очередь это выразилось в комбинировании государственных символов — триколора, с августа 1991 года ассоциирующегося с либерально-демократическим лагерем, герба с двуглавым орлом, отсылающего к символике Российской империи (двуглавый орел был временно утвержден в качестве герба в ноябре 1993 года, соответствующий закон был принят только в 2000 году), и «нового старого» советского гимна. Стремление уйти от ельцинской конфронтационной политики памяти, предпочтя ей политику, интегрирующую представителей разных лагерей, было вполне очевидным решением (вполне аналогичным путем, как мы увидим во второй части этой книги, шли Конрад Аденауэр в Германии и Адольфо Суарес в Испании). Оно оказалось эффективным способом сплотить электорат. Однако такая политика памяти, уходя от формулирования четкого отношения к проблематичным периодам прошлого, неизбежно оказывалась ценностно эклектичной; на месте нового целостного нарратива о прошлом оставалась пустота, которая рано или поздно потребует заполнения. Малинова отмечает:
«Доктрина тотальной преемственности», несомненно, знаменовала новый подход к политическому использованию прошлого. Вместо решения дилемм, с которыми неизбежно связано конструирование целостного нарратива, был взят курс на выборочную «эксплуатацию» исторических событий, явлений и фигур, соответствующих конкретному контексту. Такой подход позволял успешно выполнять тактические задачи (что в условиях жесткой идеологической онфронтации было немаловажно), однако он не решал стратегической проблемы замещения «советского метанарратива» новой смысловой схемой, объясняющей связь между прошлым, настоящим и будущим[79].
Главным недостатком этой конструкции, стремящейся эклектически примирить ценностно противоположные явления, было то, что она держалась «на умолчании о проблемах и ответственности»[80]. Основной задачей было вытеснение негативной памяти о советском прошлом и интеграция позитивной памяти о нем с памятью о победах Российской империи. Возникал сплошной нарратив истории великой державы, объединяющий события дореволюционной и советской истории в сплошное героическое прошлое. День 7 ноября после неудачных экспериментов с «форматами празднования» перестал в 2004 году быть праздником. Вместо него был учрежден День народного единства 4 ноября, формально приуроченный к дате освобождения Китай-города бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Впрочем, изменив формальную историческую привязку, «праздником со стертым значением» он быть не перестал. (По опросам разных лет, две трети россиян не знают, с чем связан праздник, и не помнят его названия.)[81]
Мемориальная политика РПЦ
На мемориальную политику постсоветской России серьезно повлиял Поместный собор Русской православной церкви 2000 года, канонизировавший больше тысячи новомучеников и заявивший о церкви как о важном участнике разговора о прошлом. Это предполагало создание целой культуры почитания новомучеников — разработку стратегии архивной работы, агиографических и иконографических канонов, составление и проведение служб новомученикам, крестных ходов и паломничеств по местам террора, установку поминальных крестов, часовен и храмов.
Центрами такого почитания (конкурирующими со светскими, музейными мемориальными стратегиями) начинают становиться Соловецкий монастырь, подмосковный Бутовский полигон (храм Новомучеников) и Екатеринбург как центр культа царственных страстотерпцев. Церковным аналогом доставки на Лубянскую площадь Соловецкого камня стала доставка летом 2007 года поклонного креста, изготовленного в Соловецком монастыре, на Бутовский полигон[82]. Мемориальная деятельность церкви была регламентирована определением Архиереиского собора РПЦ в 2011 году.
По массовости вовлечения людей и массиву обработанного архивного материала мемориальная активность РПЦ вполне сопоставима с деятельностью «Мемориала», если не превосходит ее. В одних только «Царских днях», посвященных памяти об убийстве царской семьи, ежегодно принимают участие до 100 тысяч человек. Но почитание мучеников так сконструировано, что почти не ставит вопроса о переосмыслении преступного прошлого. Это определяется позицией РПЦ в постсоветской России.
Не будучи политически независимой силой, РПЦ должна была выработать безопасную, свободную от политизации форму почитания новомучеников. Церковь так описывает советский государственный террор, чтобы это описание не касалось вопроса об осуждении виновных и об ответственности за произошедшее. В результате возвеличивание подвига членов церкви смыкается с героическим государственным дискурсом памяти о победе в Великой Отечественной войне. Характерный пример — проповедь патриарха Кирилла на Бутовском полигоне в мае 2015 года:
Подвиг тех, кто погиб на войне, защищая Отечество, и подвиг тех, кто в мирное время погибал за ту же самую духовную сердцевину жизни нашего народа, соединяются воедино. Это некий общий подвиг, и, может быть, без одного не было бы и другого. Если бы новомученики и исповедники отказались от веры, от Христа, от Церкви, если бы они встали в ряды хулителей, то, может быть, и у народа не хватило бы духовной силы сопротивляться врагу. Поэтому с религиозной точки зрения жизнь, отданная за Родину, за ту самую духовную сердцевину, и подвиг новомучеников соединяются в великую жертву Богу, принесенную за спасение нашего Отечества[83].
Сформированная РПЦ память о новомучениках отлично вписывается в государственную стратегию «тотальной преемственности». Она одновременно возрождает преемственность с дореволюционной Россией, разрушенной «богоборческой властью», восстанавливает культ царской семьи, героически трактует подвиг новомучеников, возвышающий РПЦ, и в то же время обращается к ценностям государственности (ведь подвиг новомучеников не был связан с «противостоянием государству как таковому»[84]).
Выступая 22 января 2015 года в Госдуме, патриарх Кирилл заявил, что в основе национальной идентичности россиян лежат пять фундаментальных ценностей:
[1] Древняя Русь, святая Русь — доминанта святости и высоты человеческого духа. И мы обозначили эту ценность словом «вера». [2] Российская империя, превратившая небольшую страну в колоссальную мировую империю от океана до океана. И мы нашли слово, которым покрывается эта реальность, — «державность». [3] Затем революция. <…> Возникает вопрос: а что-то хорошее было? Или только кровь? Только влияние иностранных центров? Только навязывание России иного, не свойственного ей в то время образа жизни? <…> Мы ответили — было. Стремление людей к справедливости. <…> [4] А в советское время <…> было нечто такое, что мы смело можем принять, включить в собственную философию жизни? Было. Солидарность. И никогда не надо забывать подвиг нашего народа. И не только военный подвиг. А те самые комсомольцы, которые на целину ехали, БАМ строили, не получая за это никаких наград и привилегий? Это чувство локтя, чувство желания общими усилиями сделать добро для своей страны. Итак, солидарность. [5] И наконец, новая Россия. <…> Мы стали делать акцент на правах человека, на правах людей, на человеческом достоинстве, на свободах. <…> Мы обозначили эту эпоху словом «достоинство»[85].
Память о советском государственном терроре в других российских конфессиях
На конец 1990х и начало 2000х приходится формирование мемориальной политики других российских христианских конфессий и религий.
В Католической церкви она формируется в виде программы «Католические новомученики России», утвержденной в январе 2002 года[86]. Эта программа интегрирует почитание новомучеников, сложившееся в доминирующей христианской конфессии России, и сложившееся при папе Иоанне Павле II католическое почитание мучеников XX века. Мемориалы памяти католического духовенства и мирян, погибших в тюрьмах, лагерях и ссылках на территории СССР в 1918–1958 годах, установлены на мемориальных кладбищах «Сандармох» (1997), «Левашово» (2010) и в храме Св. Станислава в Санкт-Петербурге (2018).
Мемориальная политика российских протестантов лишена цельности, отличающей память о новомучениках у православных и католиков[87]. Евангелически-лютеранская церковь России, объединяющая верующих преимущественно немецкого происхождения, отмечает День памяти жертв политических репрессий 28 августа, в день издания указа 1941 года о депортации немцев Поволжья. Работа по сохранению памяти о жертвах репрессий среди христиан-пятидесятников (РОСХВЕ) ведется прежде всего в рамках проекта «Духовное наследие подвижников земли русской». В рамках работы над проектом было опубликовано жизнеописание основателя пятидесятнического движения в России Ивана Воронаева, включающее статьи официальных представителей РОСХВЕ с их позицией по вопросу сохранения памяти о жертвах репрессий среди единоверцев[88]. Мемориалы жертвам репрессий среди евангельских христиан баптистов установлены на Левашовской пустоши и на «Золотой горе» в Челябинске. У адвентистов сеьмого дня, которые преследовались и властями Российской империи, память о сталинских репрессиях включена в память о религиозных репрессиях на протяжении всей истории существования общины[89].
Еврейская община России[90] активно участвует в Днях памяти жертв политических репрессий, ее лидеры с начала 2000х годов регулярно выступают с заявлениями о необходимости помнить о репрессиях и не допустить их повторения. Память о репрессиях против советских евреев отражена в экспозициях еврейских музеев: прежде всего, в посвященных истории XX века разделах Еврейского музея и центра толерантности в Москве, музея еврейской общины в Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, музея еврейской общины Костромы. Среди проектов мемориализации памяти жертв репрессий: памятник евреям — жертвам политических репрессий в Левашово (установлен в 1997 году по инициативе Петербургского отделения Российского еврейского конгресса), памятник евреям — жертвам Норильлага в Норильске (открыт в 2005 году на средства главы Международного банка реконструкции и развития Джеймса Вулфенсона), памятный знак евреям, расстрелянным и захороненным в урочище Сандармох (открыт в 2005 году по инициативе еврейской общины Петрозаводска), инициатива по увековечению памяти семьи раввинов Медалье (выставка и презентация книги в Еврейском музее и центре толерантности в феврале 2015 года, открытие таблички с фамилией главного раввина Москвы Шмарьягу-Лейба Медалье в рамках проекта «Последний адрес» в феврале 2017 года), ежегодная церемония памяти расстрелянных членов «Еврейского антифашистского комитета» (отмечается по инициативе президента Фонда «Холокост» Аллы Гербер в годовщину расстрела 12 августа).
Мусульмане России не имеют общей централизованной программы сохранения памяти жертв репрессий среди мусульман изза очень разного характера этой памяти в разных регионах России. Репрессии против собственно верующих (к таковым относятся, например, преследования верующих татар и башкиров в рамках «Дела Центрального духовного управления мусульман» 1936–1938 годов) бледнеют на фоне репрессий по национальному признаку (прежде всего это были депортации). А потому в данном случае стоит скорее говорить о национальных памятях, которые очень различны в разных республиках и включены в разный политический контекст[91]. Мемориалы репрессированным мусульманам установлены в Левашово и в Сандармохе.
Похожим образом обстоит дело с памятью буддистской общины России. Российские буддисты не имеют централизованной структуры. Общины в традиционно буддийских регионах России — Бурятии, Туве, Калмыкии, на Алтае и в Забайкальском крае — не связаны друг с другом ни административно, ни (часто) вероучительно. А потому централизованной и единой программы памяти о жертвах среди буддистов нет и не может быть. Эта память, как и у мусульман, своя для каждой национальной группы. Памятники репрессированным буддистам есть в Левашово, в Улан-Удэ (на территории местной буддистской общины), фигуры буддистских божеств включены в памятник депортации калмыцкого народа «Исход и возвращение» (авторства Эрнста Неизвестного) в Элисте. У этих мемориалов организуются молитвенные поминовения жертв. В 2014 году в московском Музее истории ГУЛАГа прошла выставка «Репрессированный буддизм», подготовленная при участии петербургского буддолога Андрея Терентьева. (Единственным на сегодняшний день изданием, рассказывающим историю репрессий среди буддийского духовенства, является фотоальбом Андрея Терентьева, ставший продолжением выставки «Репрессированный буддизм», прошедшей в 2014 году в Музее истории ГУЛАГа.)[92]
Кристаллизация позиций
Вторая половина 2000х стала периодом активизации исторической политики в странах Восточной Европы, фактически уравнявшей советскую оккупацию с нацистской[93]. В ответ на это в России формируется «оборонительная» историческая политика, сосредоточенная на отповеди внешним и внутренним критикам и апеллирующая к позднему сталинизму как к образцу для подражания. Активизировавшиеся в этих условиях попытки придать этому дискурсу черты «официального» носили по большей части конъюнктурный, а не идеологический характер, и в основном не увенчались успехом.
В ряду этих попыток и наделавшие много шуму пособия по истории Александра Данилова и Александра Филиппова (2007–2008)[94], преследующие задачу «нормализовать» советский террор и диктатуру Сталина и уравновесить «перегибы» «успехами», и президентская «Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» (2009–2012).
Однако и учебники, воспевающие «эффективный менеджмент», и Комиссия, основной задачей которой фактически оказывалось вмешательство в научные исследования, встретили настолько резкую и единодушную критику академического сообщества и общественности, что эти начинания поспешили свернуть. В 2010 году Данилов не был избран директором Института российской истории РАН, позднее был уволен из МПГУ изза выявленного в защищенных при его участии диссертациях плагиата, а в 2012 году была упразднена Комиссия. Фактически обе инициативы умерли естественной смертью, не получив поддержки сверху, на которую были рассчитаны.
В 2011 году рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во главе с Сергеем Карагановым и Михаилом Федотовым в сотрудничестве с «Мемориалом» разработала проект программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении». Наряду с предложениями об увековечении памяти жертв репрессий (памятники, музеи, исследовательские центры, государственные памятные даты), проект предусматривал конкурс на разработку нового учебника истории, государственную поддержку академических исследований этой проблематики, а также важные политические и правовые шаги — юридическую оценку преступлений коммунистического режима, их политическое осуждение, введение запрета для государственных чиновников на отрицание или оправдание преступлений.
Вокруг проекта развернулась дискуссия, позволившая кристаллизовать две противоположные позиции. Одна выражена в проекте программы: по мнению ее составителей, «без освоения общественным сознанием трагического опыта России в XX веке представляется невозможным движение российского общества к реальной модернизации»; осуждение может объединить общество, положив конец развязанной в 1917 году гражданской войне, и укрепить международный престиж России[95].
Другую позиция отчетливее всего выразил политик и общественный деятель Алексей Пушков. По его мнению, программа обострит ситуацию «идейной гражданской войны» в российском обществе, ослабит позиции России в мире (и прежде всего в Восточной Европе), превратив ее из державы-победительницы во Второй мировой в «мальчика для битья»[96]. По словам Пушкова, признание преступлений сталинизма (если они доказаны) не должно быть поводом для пересмотра собственной истории в покаянном ключе, а борьба с тоталитарным сознанием «не должна превращаться в повод для превращения России в унтер-офицерскую вдову, которая в очередной раз с упоением будет сечь себя».
После нескольких лет обсуждений и бюрократических пробуксовок Федеральная целевая программа «Об увековечении памяти жертв политических репрессий» не была одобрена правительством.
Замминистра культуры Владимир Аристархов писал:
Тематике, заявленной в Проекте, уже уделяется достаточное внимание соответствующими ведомствами и структурами гражданского общества, указанные действия не требуют дополнительного финансирования, а реализация представленного Проекта может повлечь излишний формализм и неоправданные бюджетные траты.
Он предложил не принимать отдельную программу, а включить некоторые мероприятия из нее в другие — наприме, в госпрограмму развития культуры и туризма[97].
Вместо Федеральной целевой программы в августе 2015 года решением премьер-министра Дмитрия Медведева была утверждена «Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий» на 2015–2019 годы. В отличие от ФЦП, она имеет лишь декларативное значение и не предполагает целевого государственного финансирования[98]. Примечательно, что слова о тоталитарном режиме и национальном примирении из названия исчезли. Это во многом косметическое решение не изменило расклада сил и не сообщило перевеса одной из позиций.
Соперничество двух этих позиций представляет собой основной сюжет «войн памяти» в России последних лет. Описанное в первой главе посткрымское обострение «сталинского комплекса» не выявило принципиально новых ходов и акцентов, разве только позволило выкрутить эмоции на невозможную прежде громкость. Данные опросов общественного мнения, свидетельствующие о всплеске симпатий к Сталину, важны не как показатель отношения к Вождю как таковому (об этом опросы мало что говорят[99]), а как свидетельство усвоения широкой аудиторией мобилизационного языка, символом которого является Сталин и соответствующий тип управления. Как показали первые годы четвертого президентского срока Владимира Путина, когда язык конфронтации и маленькие победоносные войны перестают отвлекать население от все более остро заявляющих о себе социальных проблем, мобилизационное усилие не может быть долговременным. А значит, поиск «нового равновесия» чем дальше, тем более явственно будет выходить на первый план. И ключевым вопросом этого нового равновесия неизбежно станет вопрос оценки советского прошлого и государственного террора.
4
ПРИМИРЕНИЕ СВЕРХУ: РАВНОВЕСИЕ БЕЗ ВИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ