Естественная история разрушения Зебальд Винфрид
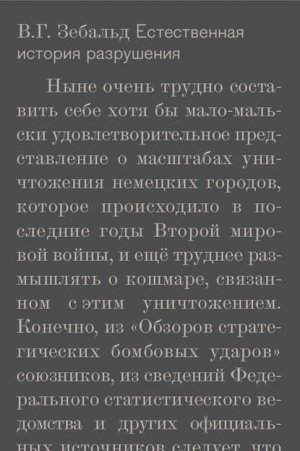
© The Estate of W.G. Sebald, 1999
© Новое издательство, 2015
Предварительное замечание
Вошедшие в настоящую книгу Цюрихские лекции на тему «Воздушная война и литература» публикуются не совсем в той форме, в какой были прочитаны поздней осенью 1997 года. Первая лекция опиралась на сделанное Карлом Зелигом описание прогулки с пациентом клиники Робертом Вальзером в разгар лета 1943 года, в тот самый день, за которым последовала ночь, когда город Гамбург погиб в огне. Воспоминания Зелига, никак не связанные с этим случайным совпадением, прояснили, как мне самому видятся кошмарные события тех лет. Я родился в мае 1944 года в одной из деревень Альгойских Альп и принадлежу к числу людей, фактически не затронутых катастрофой, происходившей тогда в германском рейхе. Но след в моей памяти она все же оставила, и в прочитанных лекциях я пытался продемонстрировать это с помощью довольно пространных пассажей из собственных литературных работ, что в Цюрихе было оправданно, ведь вообще-то предполагались лекции о поэтике. В представленной здесь версии пространные цитаты из собственных сочинений были бы определенно некстати. Поэтому из первой лекции я взял для публикации лишь некоторые выдержки, в остальном же речь идет об откликах на Цюрихские лекции и о присланных мне в этой связи материалах. Многое в них оставляло странноватое впечатление. Однако как раз несовершенство и судорожная скомканность полученных документов и писем свидетельствовали, что беспримерное национальное унижение, выпавшее в последние годы войны на долю миллионов, никогда по-настоящему не находило словесного выражения и люди, непосредственно его изведавшие, не делились пережитым ни друг с другом, ни с теми, кто родился позже. Нередкие сетования, что по сей день не создан великий немецкий эпос о войне и послевоенных годах, отчасти объясняются (в известном смысле вполне понятной) капитуляцией перед могуществом абсолютной случайности, рожденной в наших одержимых порядком головах. Мы изо всех сил стремимся, как обычно говорят, преодолеть прошлое, и тем не менее мне кажется, что ныне мы, немцы, – народ на удивление исторически слепой и лишенный традиции. Нам неведом страстный интерес к давним жизненным укладам и характерным особенностям собственной цивилизации, какой, скажем, в культуре Великобритании чувствуется везде и всюду. Если же мы бросаем взгляд назад, в особенности на период с 1930 по 1950 год, то смотрим и одновременно как бы закрываем глаза, не видим. Потому-то послевоенные сочинения немецких авторов во многом обусловлены половинчатым или ошибочным сознанием, сформированным для укрепления крайне щекотливой позиции писателей в обществе, нравственно почти полностью дискредитированном.
После 1945 года для подавляющего большинства литераторов, остававшихся в годы Третьего рейха в Германии, редефиниция самовосприятия была куда более неотложной задачей, нежели изображение реальных обстоятельств, которые их окружали. Для литературной практики это возымело дурные последствия, и типичный пример тому – Альфред Андерш. По этой причине я добавил к лекциям о воздушной войне и литературе перепечатку эссе об упомянутом писателе, которое несколько лет назад опубликовал в «Леттр». Тогда оно вызвало резкие нападки со стороны тех, кто не желал признать, что за годы, когда фашистский режим, казалось, неудержимо наращивал свою мощь, принципиальная оппозиционность и живой, деятельный ум, безусловно, отличавшие Андерша, вполне могли переключиться на более-менее сознательные попытки приспособиться к ситуации и что позднее для публичной фигуры вроде Андерша отсюда возникала необходимость скорректировать свою биографию посредством тактичных умалчиваний и проч. Именно в стремлении откорректировать для потомков свой образ кроется, по-моему, одна из важнейших причин неспособности целого поколения немецких авторов записать и запечатлеть в нашей памяти то, что они видели.[1]
Воздушная война и литература
Цюрихские лекции
Прием устранения – это защитный рефлекс любого эксперта.
Станислав Лем. Мнимая величина
Ныне очень трудно составить себе хотя бы мало-мальски удовлетворительное представление о масштабах уничтожения немецких городов, которое происходило в последние годы Второй мировой войны, и еще труднее размышлять о кошмаре, связанном с этим уничтожением. Конечно, из «Обзоров стратегических бомбовых ударов» союзников, из сведений Федерального статистического ведомства и других официальных источников следует, что только ВВС Великобритании, совершив 400 000 вылетов, сбросили на вражескую территорию миллион тонн бомб, что из 131 города, подвергшегося однократной или неоднократным бомбардировкам, некоторые были почти полностью разрушены, что в Германии жертвами воздушной войны стали около 600 000 гражданских лиц, что были уничтожены три с половиной миллиона жилищ, что в конце войны семь с половиной миллионов человек не имели крова, что на каждого жителя Кёльна приходилось 31,4 м, а на каждого жителя Дрездена – 42,8 м строительных обломков, но что это означало на самом деле, мы не знаем[2]. Эта первая в истории разрушительная акция такого масштаба вошла в анналы возрождающейся нации лишь в форме туманных обобщений, словно бы не оставила заметного болезненного следа в коллективном сознании, практически исключена из ретроспективного личного опыта пострадавших, никогда не играла сколько-нибудь значительной роли в дискуссиях о внутреннем состоянии нашей страны и, как позднее констатировал Александер Клюге, так и не стала понятным обществу символом[3] – ситуация весьма парадоксальная, если учесть, сколько людей день за днем, месяц за месяцем, год за годом подвергались бомбовым ударам и как долго, даже спустя много лет после войны, оставались лицом к лицу с ее реальными последствиями, убивающими (такой вывод напрашивается сам собой) всякое положительное жизнеощущение. Несмотря на прямо-таки невероятную энергию, с какой люди после каждого налета сразу же принимались за восстановление мало-мальски «человеческих» условий, в городах вроде Пфорцхайма, который во время одного-единственного воздушного налета 23 февраля 1945 года потерял почти треть своих 60 000 жителей, даже после 1950-го на развалинах еще стояли деревянные кресты, а чудовищный смрад, который, как сообщала в марте 1947 года Дженет Флэннер, с первым весенним теплом пробуждался в зияющих подвалах Варшавы[4], сразу после войны, конечно же, наполнял и немецкие города. Однако в сознание уцелевших, которые оставались на месте катастрофы, он явно не проникал. Люди передвигались «по улице между жуткими руинами (так гласит запись Альфреда Дёблина, сделанная в конце 1945 года на юго-западе Германии), словно в самом деле ничего не произошло и… город выглядел так всегда»[5]. Оборотной стороной означенной апатии была декларация нового начала, бесспорный героизм, с каким все немедля взялись за работы по реорганизации и расчистке. В брошюре, посвященной городу Борису 1945–1955 годов, мы читаем: «В это время требуются несгибаемые люди, чистые в своих помыслах и целях. Ведь и в будущем им не один год придется стоять на передовом рубеже возрождения»[6]. В текст, написанный по заказу городской администрации неким Вилли Руппертом, включено множество фотографий, в том числе и воспроизведенные здесь фотографии Кеммерерштрассе. Полное разрушение предстает здесь не как кошмарный финал коллективной аберрации, а, так сказать, как первая ступень успешного возрождения. По окончании беседы с руководством «ИГ Фарбен», состоявшейся во Франкфурте в апреле 1945 года, Роберт Томас Пелл протоколирует свое удивление по поводу немцев, к чьим раболепным оправданиям, жалости к себе, оскорбленным чувствам невиновности и упрямству странно примешивались заявления о готовности «возродить свою страну еще более великой и могучей, чем прежде»[7], – свое намерение они в итоге осуществили, что легко увидеть на почтовых открытках, какие путешествующий по Германии может сегодня купить во франкфуртских газетных киосках и разослать из города на Майне по всему свету. Теперь уже легендарное и в определенном смысле действительно достойное восхищения возрождение Германии, которое после разрушений, произведенных в войну противниками, оказалось равнозначно поэтапной второй ликвидации собственной предыстории, ведь, требуя огромных трудовых усилий и создавая новую, безликую реальность, оно изначально пресекало всякое воспоминание о прошлом, ориентировало население исключительно на будущее и обязывало его молчать обо всем, что с ним случилось. Немецкие свидетельства о том времени, отстоящем от нас меньше чем на срок жизни одного поколения, настолько скудны и разрозненны, что в сборнике репортажей «Европа в развалинах», изданном в 1990 году Хансом Магнусом Энценсбергером, смогли участвовать лишь зарубежные журналисты и писатели, представившие работы, которые, что характерно, до тех пор в Германии почти не принимались к сведению. Немногие немецкие статьи принадлежат бывшим эмигрантам или иным сторонним наблюдателям, вроде Макса Фриша. Те, что не уезжали из страны, охотно говорили о себе, как, например, Вальтер фон Моло и Франк Тис в злополучном споре с Томасом Манном, что в тяжелую годину оставались на родине, тогда как другие со всеми удобствами отсиживались в Америке; однако они полностью воздержались от комментариев по поводу того, как происходило и закончилось разрушение, наверное не в последнюю очередь из боязни, что реалистическими описаниями вызовут недовольство оккупационных властей. Вопреки общему мнению, современный дефицит памяти не восполнила и сознательно создававшаяся с 1947 года послевоенная литература, от которой стоило бы ожидать хоть частичного раскрытия истинной ситуации. Если старая гвардия так называемых внутренних эмигрантов главным образом радела о создании себе нового реноме и, как замечает Энценсбергер, в бесконечных затрепанных абстракциях взывала к идее свободы и гуманистическому западному наследию[8], более молодое поколение только что возвратившихся на родину авторов так зациклилось на собственных, то и дело сползающих в слезливую сентиментальность воспоминаниях о войне, что, похоже, толком не обращало внимания на заметные повсюду ужасы эпохи. Даже славная литература развалин, программно заявлявшая о честном и неподкупном изображении реальности и, по признанию Генриха Бёлля, ставившая перед собой прежде всего задачу рассказать, «что мы… застали по возвращении домой»[9], при ближайшем рассмотрении оказывается уже настроенным на индивидуальную и коллективную амнезию инструментом, вероятно управляемым полубессознательными процессами самоцензуры, – инструментом сокрытия мира, который более невозможно постичь. Подлинное состояние материального и нравственного разрушения, в котором пребывала вся страна, в силу молчаливого уговора, обязательного для всех и каждого, описывать было нельзя. В итоге самые мрачные аспекты заключительного акта разрушения, пережитого подавляющим большинством немецкого населения, так и остались позорным, табуированным семейным секретом, в котором человек, наверно, даже себе самому признаться не мог. Из всех созданных в конце 1940-х литературных произведений, собственно говоря, только роман Генриха Бёлля «Ангел молчал»[10] мало-мальски дает представление о глубине ужаса, который тогда грозил завладеть каждым, кто вправдувсматривался в руины. С первых же страниц становится ясно, что именно это повествование, словно бы проникнутое неизбывной печалью, будет не по силам нынешним читателям, как полагали издательство и, пожалуй, сам Бёлль, потому-то книга и опубликована только в 1992 году, с почти полувековым опозданием. Семнадцатая глава, рассказывающая об агонии фрау Гомперц, действительно полна столь радикального агностицизма, что даже теперь одолеть ее непросто. Темная, клейкая кровь, толчками исторгающаяся на этих страницах изо рта умирающей, заливающая ей грудь, пачкающая простыню, стекающая с кровати на пол и образующая там лужу, – эта похожая на чернила и, как подчеркивает сам Бёлль, очень темная кровь есть символ направленной против воли к выживанию acedia cordis – тусклой, уже непреодолимой депрессии, в какую, собственно говоря, должны были бы впасть немцы перед лицом подобного конца. Кроме Генриха Бёлля, лишь немногие авторы – Герман Казак, Ганс Эрих Носсак, Арно Шмидт и Петер де Мендельссон – дерзнули нарушить табу, наложенное на внешнее и внутреннее разрушение, хотя, как мы увидим ниже, большей частью весьма сомнительным способом. И когда в последующие годы специалисты по истории войны и истории Германии начали документировать гибель немецких городов, ситуация ничуть не изменилась, и картины ужасной главы нашей истории по-настоящему так никогда и не проникли за порог национального сознания. Эти компиляции, зачастую до странности безразличные к изучаемому предмету и выходившие, как правило, в более или менее отдаленных местах – например, «Огненная буря над Гамбургом» Ханса Брунсвига опубликована в 1978 году штутгартским издательством «Моторбух», – служили в первую очередь санации или устранению знаний, несовместимых с нормальным рассудком, и не были попыткой точнее разобраться в поразительной способности к самоанестезии, которую демонстрирует общество, вышедшее из истребительной войны как будто бы без заметного психического ущерба.
Почти полное отсутствие мало-мальски глубоких нарушений в духовной жизни немецкой нации позволяет заключить, что новое, федеративно-республиканское общество препоручило опыт, полученный в его предыстории, прекрасно функционирующему механизму вытеснения, что, с одной стороны, позволяет ему признавать факт своего возникновения из абсолютной деградации, с другой же – целиком исключить все это из сферы своих эмоций или же вообще объявить очередной славной страницей в перечне того, что без малейших признаков внутренней слабости удалось успешно пережить. Как указывает Энценсбергер, «загадочную энергию немцев» не постичь, «если упорно противишься пониманию, что они возвели свой изъян в ранг добродетели. Беспамятство, – пишет он, – было условием их успеха»[11]. Ведь предпосылками немецкого экономического чуда стали не только огромные инвестиции по плану Маршалла, не только начало холодной войны, не только разрушение устаревших промышленных сооружений, с тупым упорством произведенное бомбардировочными эскадрами, но и безропотная трудовая мораль, навязанная тоталитарным обществом, способность к логистической импровизации, характерная для стесненной со всех сторон экономики, опыт использования так называемой иностранной рабочей силы и в конечном счете оплакиваемая лишь немногими утрата тяжелого исторического бремени, которое в 1942–1945 годах сгорело в пожарах вместе с вековыми жилыми и конторскими зданиями в Нюрнберге и Кёльне, во Франкфурте, Ахене, Брауншвайге и Вюрцбурге. Таковы более или менее явные факторы становления экономического чуда. Катализатором стало, однако, нечто совершенно нематериальное: доныне не иссякший поток психической энергии, источником которого является хранимая всеми тайна трупов, замурованных в устои нашей государственности; тайна, которая связывала немцев друг с другом в послевоенные годы и связывает до сих пор куда крепче, чем их когда-либо связывал любой позитивный план, направленный, скажем, на осуществление демократии. Пожалуй, не мешает напомнить об этих обстоятельствах именно сейчас, когда уже дважды потерпевший неудачу общеевропейский проект вступает в новую фазу и сфера влияния немецкой марки – истории свойственно повторяться – расширится примерно до пределов территории, оккупированной вермахтом в 1941 году.
Был ли стратегически или морально оправдан – и если да, то чем, – план неограниченной воздушной войны, поддержанный группировками в составе британских ВВС еще в 1940 году, а начиная с февраля 1942 года осуществлявшийся практически, при использовании колоссальных людских и военно-промышленных ресурсов? В десятилетия после 1945-го, насколько мне известно, этот вопрос ни разу не становился в Германии предметом публичной дискуссии, в первую очередь, пожалуй, именно потому, что народ, уничтоживший и до смерти замучивший в лагерях миллионы людей, не мог потребовать от держав-победительниц информации о военно-политической логике, которая диктовала разрушение немецких городов. К тому же не исключено, что немалое число пострадавших от воздушных налетов – на это намекает, к примеру, очерк Ганса Эриха Носсака о гибели Гамбурга – при всем бессильном негодовании на явное безумие воспринимали исполинские пожары как справедливую кару и даже как акт возмездия свыше, с которым не поспоришь. Если не считать заявлений нацистской прессы и радио, где постоянно твердили о садистских террористических налетах и варварских воздушных гангстерах, лишь крайне редко кто-либо вообще роптал на многолетнюю разрушительную кампанию союзников. Самые разные источники сообщают, что немцы смотрели на происходящую катастрофу в завороженном безмолвии. «Настало другое время, – писал Носсак, – и столь ничтожные различия, как различия между другом и недругом, уже не принимались в расчет»[12]. В противоположность большей частью пассивной реакции немцев на разрушение их городов, которое виделось им как роковая неизбежность, в Великобритании эта программа уничтожения с самого начала вызывала острые разногласия. Не только лорд Солсбери и Джордж Белл епископ Чичестерский неоднократно и весьма настойчиво выражали свой протест и в палате лордов, и перед широкой общественностью, заявляя, что стратегия налетов, направленных в первую очередь против гражданского населения, недопустима ни с точки зрения военного права, ни с точки зрения морали и что даже ответственные высшие военные чины расходятся в оценке этого нового способа военных действий. Постоянная амбивалентность в оценке уничтожительного побоища стала еще отчетливее после безоговорочной капитуляции. Чем больше в Англии появлялось фотографий и статей о результатах коврового бомбометания, тем сильнее становилось отвращение к тому, что там, так сказать, вслепую, натворили союзники. «In the safety of peace, – пишет Макс Хастингс, – the bomber's part in the war was one that many politicians and civilians would prefer to forget»[13][14]. Историческая ретроспекция тоже не внесла ясности в нравственную дилемму. В мемуарной литературе продолжались межфракционные распри, и оценки историков, декларирующих объективность и взвешенность, разнятся – от восхищения перед организацией столь масштабного предприятия до критики тщетности и предосудительности акции, наперекор рассудку беспощадно доведенной до конца. Стратегия так называемого area bombing[15] стала плодом крайне маргинального положения, какое Великобритания занимала в 1941 году. Германия находилась на вершине своего могущества, ее войска захватили весь континент и готовились продолжить вторжение в Африку и в Азию, а британцев, не имевших ни малейшей реальной возможности вмешаться, просто предоставить произволу их островной судьбы. Ввиду означенной перспективы Черчилль писал лорду Бивербруку, что есть только один способ вновь принудить Гитлера к конфронтации, «and that is an absolutely devasting exterminating attack by very heavy bombers from this country upon the Nazi homeland»[16][17]. Правда, предпосылок для осуществления подобной операции тогда отнюдь не было. Недоставало производственной базы, аэродромов, учебных программ для экипажей бомбардировщиков, эффективных боеприпасов, новых навигационных систем, а также не было почти никакого хоть сколько-нибудь полезного опыта. Насколько отчаянным было положение в целом, доказывают фантастические планы, которые всерьез рассматривались в начале 1940-х годов. Так, например, предлагалось сбрасывать на поля острые железные сваи, чтобы воспрепятствовать уборке урожая, а гляциолог-беженец по имени Макс Перуц проводил эксперименты в рамках проекта «Аввакум» (Habbakuk), в результате которого предполагалось построить гигантский непотопляемый авианосец из пайкрита – то есть изо льда, искусственно усиленного древесной массой. Едва ли менее фантастичны были в ту пору попытки разработать заградительную сеть из невидимых лучей или сложные расчеты, сделанные в Бирмингемском университете Рудольфом Пайерлем и Otto Фришем и приблизившие возможность создания атомной бомбы. Не удивительно, что на фоне таких замыслов, граничащих с утопией, куда более понятная стратегия бомбометания по площадям, которая, несмотря на низкую прицельность, позволяла вести военные действия на разных участках вражеской территории, в итоге одержала верх и в феврале 1942 года была одобрена решением правительства – «to destroy the morale of the enemy civilian population and, in particular, of the industrial workers»[18][19]. Эта директива, вопреки непрестанным уверениям, родилась отнюдь не из стремления быстро закончить войну посредством массированного применения бомбардировочной авиации; скорее это была вообще единственная возможность вмешаться в войну. Впоследствии спешно форсированную программу уничтожения критиковали (также и с учетом количества собственных жертв) главным образом за то, что ее не свернули даже тогда, когда уже появилась возможность совершать несравненно более точные, избирательные налеты – например, на шарикоподшипниковые заводы, нефтяные и топливные предприятия, транспортные узлы и главные магистрали, – которые, как отмечал в своих воспоминаниях Альберт Шпеер[20], могут в кратчайшие сроки вызвать сквозной паралич всей системы производства. Как отмечалось критиками масштабных бомбардировок, уже весной 1944-го стало ясно, что, невзирая на непрекращающиеся налеты, мораль немецкого населения сломить не удалось, промышленное производство уменьшилось лишь незначительно, а конец войны не приблизился ни на йоту. И коль скоро стратегические цели операции не претерпели изменений и едва выпущенные из училищ экипажи бомбардировщиков продолжали «играть в рулетку», стоившую жизни шести десяткам на сотню, тому, на мой взгляд, есть причины, которым официальная историография уделяет крайне мало внимания. Во-первых, операция таких материальных и организационных масштабов, как наступление бомбардировочной авиации, поглотившая, по оценкам А. Дж. П. Тейлора, треть британского военного производства[21], имела настолько высокую собственную динамику, что краткосрочные коррективы курса и ограничения почти исключались, тем более в период, когда после интенсивного трехлетнего расширения производственных предприятий и наземной базы она достигла своего апогея, то есть максимальной разрушительной мощности. Просто бросить за ненадобностью на восточноанглийских аэродромах уже произведенный материал – самолеты и их полезный груз, – здоровый экономический инстинкт восставал против этого. Вдобавок решающую для продолжения операции роль сыграла, вероятно, прямо-таки необходимая с точки зрения поддержания британского боевого духа пропагандистская ценность, какую имели ежедневные сообщения английских газет о систематических разрушительных актах, ведь в то время на европейском континенте англичане с противником никак больше не соприкасались. Вот почему, пожалуй, никто и не помышлял снимать с должности сэра Артура Харриса (главнокомандующего бомбардировочной авиацией), который упорно отстаивал свою стратегию, даже когда ее крах был уже очевиден. Некоторые комментаторы утверждают, «that „Bomber» Harris had managed to secure a peculiar hold over the otherwise domineering, intrusive Churchill»[22][23], ведь, хотя премьер неоднократно выражал определенные сомнения касательно ужасающих бомбардировок открытых городов, он – явно под влиянием Харриса, отметавшего любые контраргументы, – успокоился на том, что теперь, мол, все вершит высшая, идеальная справедливость, «that those who have loosed these horrors upon mankind will now in their homes and persons feel the shattering strokes of just retribution»[24][25]. В самом деле многое убедительно свидетельствует, что командующий бомбардировочной авиацией Харрис, по выражению Солли Цукермана, верил в уничтожение как таковое[26], а стало быть, оптимально воплощал главный принцип любой войны, то есть максимально полное уничтожение противника вкупе с его жилищами, его историей и природным окружением. Элиас Канетти связывал странную притягательность власти в самом чистом ее проявлении с растущим числом ее жертв. Совершенно в таком же ключе непоколебимость позиции сэра Артура Харриса вытекала как раз из его безграничного интереса к уничтожению. План последовательных сокрушительных ударов, неуклонно осуществлявшийся до самого конца, отличался поразительно простой логикой, по сравнению с которой все реальные стратегические альтернативы, как, например, пресечение снабжения горючим, выглядели всего-навсего отвлекающими маневрами. Воздушная война бомбардировочной авиации была войной в чистой, незамаскированной форме. Ее развитие, противоречащее всякому рассудку, показывает, что жертвы войны, как пишет Илейн Скарри в своей необычайно провидческой книге «Тело в муках», не суть жертвы, принесенные на пути к какой бы то ни было цели, они в прямом смысле – сам этот путь и эта цель[27].
Большинству весьма далеких друг от друга по уровню и, как правило, фрагментарных источников сведений о разрушении немецких городов свойственна странная эмпирическая слепота, вытекающая из крайне суженной, односторонней или смещенной точки зрения. Например, первый прямой репортаж о бомбардировке Берлина, переданный центральной службой Би-би-си, разочарует всякого, кто ожидает вникнуть в происходившее из перспективы более высокого уровня. Поскольку, невзирая на неотступную опасность, во время этих ночных вылетов ничего достойного описания не случалось, корреспондент (Уилфред Вон Томас) вынужден обходиться минимумом фактов. Только благодаря пафосу, который снова и снова звучит в его голосе, не возникает ощущения скуки. Мы слышим, как с наступлением сумерек тяжелые бомбардировщики «Ланкастер» поднимаются в воздух и уже вскоре, оставив позади белую полосу побережья, летят над Северным морем. «Now, right before us, – комментирует Вон Томас с заметной дрожью в голосе, – lies darkness and Germany»[28]





