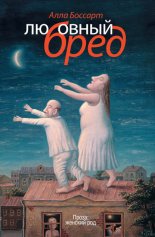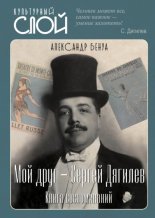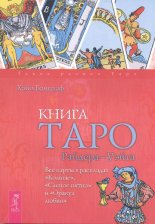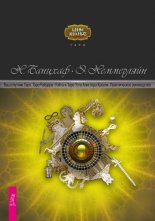Заветы Этвуд Маргарет

Margaret Atwood
THE TESTAMENTS
Copyright © O.W. Toad, Ltd. 2019
Interior and case art by Suzanne Dean (fountain pen) and Noma Bar (girl profi les)
© Грызунова А., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Всякой женщине надлежит иметь те же мотивы, что у прочих женщин, – иначе она чудовище.
Джордж Элиот, «Даниэль Деронда»
Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало… Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас?
Оберштурмбанфюрер Лисс – старому большевику Мостовскому.
Василий Гроссман, «Жизнь и судьба»
Свобода – это груз, который может оказаться не по силам для слабого. Свобода – не подарок, свобода – выбор, иногда нелегкий.
Урсула К. Ле Гуин, «Гробницы Атуана»[1]
I
Статуя
Автограф из Ардуа-холла
1
Статуи дозволительны только мертвым, а вот мне статуя досталась при жизни. Я уже окаменела.
Статуя – небольшой знак благодарности за мой обширный вклад; об этом говорилось в приказе, который зачитала Тетка Видала. Что она сделала по поручению нашего руководства и не испытывая ни капли благодарности. Призвав на помощь всю свою скромность, я сказала «спасибо», потянула за бечевку и сдернула свой тканый саван; ткань спорхнула на землю – и мне явилась я. У нас в Ардуа-холле гикать не принято, однако сдержанные хлопки раздались. Я в ответ склонила голову.
В камне я больше, чем в жизни – со статуями так бывает сплошь и рядом, – и статуя моложе, худее и в лучшей форме, нежели последние годы была я. Спина прямая, плечи расправлены, губы изогнуты в стоической, но великодушной улыбке. Глаза мои устремлены к некоей космической точке отсчета, каковая, очевидно, олицетворяет мой идеализм, мою несгибаемую верность долгу, мою решимость идти вперед вопреки любым препонам. Моя статуя, впрочем, никаких небесных явлений не узрит – ее поставили в кустах посреди угрюмой рощицы, обок от тропинки, что бежит вдоль фасада Ардуа-холла. Нам, Теткам, даже в камне кичливость не к лицу.
За мою левую руку, доверчиво взирая снизу вверх, цепляется девочка лет семи-восьми. Моя правая рука возлежит на темени женщины, что скорчилась рядом, – волосы под вуалью, взгляд заведен на меня, в лице читается то ли робость, то ли признательность: кто-то из наших Служанок, – а за моей спиной стоит одна из моих Жемчужных Дев, готовая приступить к миссионерским трудам. На поясе у меня висит электробич. Оружие напоминает о моих изъянах: если б я работала плодотворнее, этот инструмент мне бы не понадобился. Я убеждала бы одним лишь голосом.
Не самая удачная скульптурная группа – чересчур перегруженная. Лучше бы внятнее сделали акцент на мне. Зато на вид я хотя бы в здравом рассудке. А могло выйти иначе: престарелая скульпторша – правоверная, уже скончалась – имела обыкновение передавать благочестивый пыл, наделяя свои изваяния выпученными глазами. Бюст Тетки Хелены страдает бешенством, у бюста Тетки Видалы – гиперфункция щитовидки, а бюст Тетки Элизабет с минуты на минуту грозит лопнуть.
На открытии скульпторша нервничала. Льстит ли мне статуя? Одобряю ли я? Одобрю ли зримо? Я подумывала нахмуриться, едва упадет простыня, но отказалась от этой мысли: у меня все-таки есть сердце.
– Прямо как живая, – сказала я.
Было это девять лет назад. Время не пощадило статую: меня изукрасили голуби, мои повлажневшие складки заросли мхом. Почитательницы завели привычку оставлять подношения у моих ног: яйца – знак плодовитости, апельсины – намек на вынашивание, круассаны – аллюзия на луну. Хлебные изделия я оставляю – как правило, их успевает полить дождь, – а вот апельсины забираю себе. Апельсины весьма освежают.
Я пишу в своем личном кабинете в библиотеке Ардуа-холла – одной из немногих библиотек, что сохранились после увлеченного сжигания книг, прокатившегося по нашей земле. Прошлое оставило уродливые и кровавые отпечатки пальцев – следовало их стереть, дабы освободить пространство чистому душой поколению, которое, несомненно, явится со дня на день. Так гласит теория.
Но кровавые отпечатки пальцев оставляли и мы, а их так просто не сотрешь. За долгие годы я захоронила немало костей, а теперь склоняюсь вновь извлечь их из-под земли хотя бы тебе в назидание, безвестный мой читатель. Если ты это читаешь, значит, моя рукопись по крайней мере уцелела. Впрочем, возможно, я фантазирую: возможно, у меня никогда не будет читателя. Возможно, единственным собеседником моим будет стенка – во многих смыслах.
На сегодня довольно бумагомарания. Ноет рука, ломит спину, и меня ждет еженощная чашка горячего молока. Сочинение свое я сокрою в тайнике, избегая камер наблюдения – где они, я знаю, я сама их устанавливала. Невзирая на такие предосторожности, я вполне сознаю, чем рискую: писания бывают опасны. Какие вероломства, а затем и доносы уготованы мне? В Ардуа-холле найдутся те, кто с дорогой душой наложил бы лапу на эти страницы.
Не спешите, безмолвно советую им я: будет хуже.
II
Цветок драгоценный
Протокол свидетельских показаний 369А
2
Вы просите рассказать, каково мне было расти в Галааде[2]. Вы говорите, что это поможет, и да, я хочу помочь. Вы, вероятно, ожидаете сплошных ужасов, но на самом деле в Галааде, как и повсюду, дети зачастую окружены любовью и заботой, и в Галааде, как и повсюду, взрослые зачастую добры, хотя и не лишены слабостей.
И надеюсь, вы примете во внимание, что все мы скучаем по доброте, которую видели детьми, сколь ни абсурдными видятся обстоятельства нашего детства всем прочим. Я согласна с вами, Галаад должен сойти на нет – слишком много в нем дурного, слишком много ложного, слишком многое, безусловно, противоречит Божьему Замыслу, – но все же дозвольте мне оплакать то хорошее, что будет утрачено вместе с дурным.
В школе у нас весной и летом носили розовый, осенью и зимой – сливовый, а белый – по особым дням, по воскресеньям и праздникам. Руки покрыты, волосы покрыты, до пяти лет юбки по колено, а после – не более двух дюймов над лодыжкой, ибо мужские страсти ужасны и их надлежит укрощать. Мужчины вечно шныряют взглядом тут и там, подобно тиграм, глаза у них – что прожекторы, и их надлежит защищать от притягательной и, более того, ослепительной нашей силы – от наших лепных, или тощих, или толстых ног, от наших изящных, или шишковатых, или сосисочных рук, от нашей персиковой или прыщавой кожи, от наших вьющихся блестящих локонов, или жесткой непослушной овчины, или соломенных жидких кос – детали значения не имеют. С любыми формами, любыми чертами, вопреки своей воле мы – ловушки, приманки, мы – чистые и безвинные корни зла, сама природа наша пьянит мужчин похотью, и они колеблются, и шатаются, и падают, преступив грань (Грань чего? – недоумевали мы. Это как с обрыва?), и рушатся в бездну, объятые пламенем, точно снежки, вылепленные из горящей серы и запущенные в полет рассерженной рукою Бога. Мы – хранительницы заветного сокровища, что незримо таится внутри нас; мы – цветы драгоценные, кои следует беречь за стеклом оранжерей; а иначе нас подстерегут, оборвут наши лепестки, украдут наше сокровище, иначе нас разорвут на час-ти и затопчут алчные мужчины, что прячутся за каждым углом в лютом и безнравственном мире, раскинувшемся снаружи.
Так рассказывала нам в школе сопливая Тетка Видала, пока мы мелкой гладью вышивали носовые платки, и пуфики, и картинки в рамочках – предпочтительно изображения цветов в вазе, фруктов в чаше. А вот Тетка Эсте, наша любимая учительница, говорила, что Тетка Видала чрезмерно усердствует и пугать нас до полусмерти ни к чему, это внушит нам отвращение, а оно дурно повлияет на счастье нашей будущей замужней жизни.
– Не все мужчины таковы, девочки, – успокаивала Тетка Эсте. – У лучших из них – превосходный нрав. Некоторые неплохо держат себя в руках. А замужем вам все увидится совсем иначе, отнюдь не так страшно.
Ей самой, правда, неоткуда было знать, поскольку Тетки замуж не выходили – им не разрешалось. Поэтому им позволяли писание и книги.
– Когда придет время, мы, и ваши отцы, и ваши матери с умом подберем вам мужей, – говорила Тетка Эсте. – Так что ничего не бойтесь. Учите уроки, слушайтесь старших, они все сделают, как надо, и все случится, как должно. Я буду об этом молиться.
Но, невзирая на ямочки и располагающую улыбку Тетки Эсте, в наших умах господствовала версия Тетки Видалы. Эта картина всплывала в моих кошмарах: раскалывалось стекло оранжереи, затем все трещало, и рвалось, и грохотали копыта, и розовые, и белые, и сливовые ошметки меня разлетались по земле. Я страшилась повзрослеть – повзрослеть и дорасти до свадьбы. Я не верила, что Тетки сделают выбор с умом: я боялась, что в итоге меня выдадут за какого-нибудь горящего козла.
Особенным девочкам, таким как мы, полагались розовые, белые и сливовые платья. Обычные девочки из Эконосемей всегда носили одно и то же – разноцветное полосатое уродство и серые накидки, как у их матерей. Эти девочки даже не учились вышивать мелкой гладью или вязать крючком – только шить и складывать бумажные цветы, всяким таким занятиям. Они не избранные и не выйдут замуж за лучших мужчин, за Сынов Иакова и других Командоров и их сыновей, – они не как мы, хотя их могут избрать, когда повзрослеют, если они вырастут красивыми.
Вслух этого не говорили. Не полагалось щеголять красотой, это нескромно, и не полагалось замечать чужую красоту. Хотя мы знали правду: лучше быть красивой, чем уродкой. Даже Тетки больше внимания уделяли красивым. Но, если ты уже избранная, не так важно, красивая ты или нет.
Я не косила, как Олдама, у меня не было встроенной надутой гримасы, как у Сонамит, и почти отсутствующих бровей, как у Бекки, однако я была еще не готова. Лицо, как тесто, как печенье, которое пекла мне Цилла, моя любимая Марфа, – глаза-изюмины и зубы, как тыквенные семечки. Но я, хотя и не замечательная красавица, была очень-очень избранная. Дважды избранная, и не только для того, чтобы выйти замуж за Командора: сначала меня избрала Тавифа – это была моя мама.
Тавифа сама мне так рассказывала.
– Я пошла погулять в лесу, – говорила она, – и наткнулась на зачарованный замок, и внутри сидело взаперти много-много маленьких девочек, и ни у одной не было матери, и их всех заколдовали злые ведьмы. У меня было волшебное кольцо, которое отпирало ворота замка, но спасти я могла только одну девочку. Я оглядела всех очень внимательно и из целой толпы девочек выбрала тебя!
– А остальные? – спрашивала я. – Что случилось с остальными девочками?
– Их спасли другие мамы, – отвечала она.
– У других мам тоже были волшебные кольца?
– Ну конечно, милая моя. Чтобы стать мамой, нужно волшебное кольцо.
– А где это волшебное кольцо? – спрашивала я. – Где оно сейчас?
– У меня на пальце, – отвечала она и гладила безымянный палец левой руки. Она говорила, этот палец – сердечный. – Но в моем кольце было только одно желание, и я истратила его на тебя. И теперь это обычное, неприметное мамино кольцо.
Тут мне разрешалось примерить кольцо – золотое, с тремя брильянтами: один крупный и два маленьких по бокам. На вид такое, будто некогда и впрямь было волшебным.
– И ты меня взяла на руки и унесла? – спрашивала я. – Из леса?
Историю я знала наизусть, но любила слушать снова и снова.
– Нет, сокровище мое, ты была уже слишком большая. Если б я несла тебя на руках, я бы закашлялась и нас бы услышали ведьмы. – (Я и сама знала, что это правда: Тавифа действительно много кашляла.) – Поэтому я взяла тебя за руку, и мы вышли из замка на цыпочках, чтобы ведьмы не услышали. Мы обе говорили: «Тш-ш, тш-ш», – тут она прижимала палец к губам, и я тоже поднимала палец и в восторге повторяла за ней: «Тш-ш, тш-ш», – а потом мы быстро-быстро побежали по лесу, спасаясь от злых ведьм, потому что одна заметила, как мы вышли за порог. Мы сначала бежали, а потом спрятались в дупле. Было очень опасно!
У меня осталось расплывчатое воспоминание о том, как я бегу по лесу и кто-то держит меня за руку. И я пряталась в дупле? Кажется, да, я где-то пряталась. Может, все это было на самом деле.
– А потом что? – спрашивала я.
– А потом я привела тебя в этот красивый дом. Ты ведь счастлива? Ты нам всем так дорога! Нам с тобой повезло, что я выбрала тебя, правда?
Я приникала к ней, а она меня обнимала, и я головой прижималась к ее худому телу, к твердой ряби ее ребер. Я ухом притискивалась к ее груди и слышала, как внутри колотится сердце – все быстрее и быстрее, казалось мне, потому что Тавифа ждала ответа. Я знала, что мои слова могущественны: либо Тавифа улыбнется, либо нет.
Что я могла сказать? Только да и да. Да, я счастлива. Да, мне повезло. Это же правда.
3
Сколько мне было тогда? Лет шесть, должно быть, или семь. Трудно сказать – обо всем, что было до того, у меня нет ясных воспоминаний.
Тавифу я обожала. Она была красавица, хотя и ужасно худая, и она играла со мной часами. У нас был кукольный дом, один в один наш собственный – гостиная, и столовая, и большая кухня для Марф, и отцовский кабинет со столом и книжными шкафами. Все понарошечные книжечки на полках были пусты. Я спрашивала, почему в них ничего нет – у меня было смутное подозрение, что на страницах должны быть значки, – и мама отвечала, что книжки – это такие украшения, как вазы с цветами.
Сколько же ей приходилось лгать ради меня! Чтобы меня уберечь! Но лгала она доблестно. Она была очень изобретательная.
На втором этаже кукольного дома у нас были прелестные большие спальни с занавесками, и обоями, и картинами – красивыми, с фруктами и цветами, – и маленькие спаленки на третьем этаже, и целых пять уборных, хотя одна была туалетной (почему она так называется? что такое «туалет»?) и еще погреб с припасами.
В этом кукольном доме у нас были все куклы, каких только можно пожелать: кукла-мама в голубом платье Жены Командора, маленькая кукла-девочка с тремя платьицами, розовым, белым и сливовым, в точности, как у меня, и три куклы-Марфы в тускло-зеленых платьях и фартуках, и Хранитель Веры в фуражке – водить машину и косить газон, и два Ангела – караулить ворота с крохотными пластмассовыми винтовками наперевес, чтоб никто не забрался и не обидел нас, и кукла-отец в жестком мундире Командора. Этот почти ничего не говорил, только много ходил из угла в угол и сидел во главе обеденного стола, и Марфы таскали ему еду на подносах, а потом он удалялся в кабинет и закрывал дверь.
В этом отношении кукольный Командор походил на моего отца Командора Кайла, который улыбался мне, интересовался, хорошо ли я себя веду, а затем исчезал. Разница, впрочем, была: чем занимался кукольный Командор у себя в кабинете, я видела – он сидел за столом перед Комптактом и кипой бумаг, – а про настоящего отца я не знала ничего: заходить в отцовский кабинет запрещалось.
Говорили, что отец занимается там чем-то ужасно важным – важными мужскими делами, слишком важными, женщинам нечего совать нос, у женщин мозги меньше и не справляются с большими мыслями, – так говорила Тетка Видала, которая преподавала нам Религию. Все равно что учить кошку вязать крючком, говорила Тетка Эсте, которая преподавала нам Рукоделие, и мы смеялись, потому что это же нелепица! У кошек даже пальцев нет!
То есть у мужчин в головах как бы пальцы, но такие, которых нет у девочек. И это все объясняет, говорила Тетка Видала, и хватит уже вопросов на эту тему. Ее губы захлопывались, запирая другие слова, невысказанные. Я знала, что наверняка должны быть и другие слова, потому что даже в те времена аргумент про кошек вызывал сомнения. Кошки не хотят вязать крючком. А мы не кошки.
Запретное открыто воображению. Потому Ева отведала Яблоко Познания, говорила Тетка Видала: воображение у нее было слишком развитое. Так что кое-чего лучше вовсе не знать. Не то разлетятся лепестки.
В кукольном наборе была и кукла-Служанка – красное платье, раздутый живот, белые крылышки прячут лицо, – но мама сказала, что Служанка нам в доме ни к чему, у нас ведь уже есть я, а если одна девочка у нас уже есть, не к лицу жадничать. Поэтому Служанку мы завернули в папиросную бумагу, и Тавифа сказала, что можно подарить эту куклу какой-нибудь другой девочке, у которой нет такого чудесного кукольного дома, – ей кукла-Служанка очень пригодится.
Я только рада была убрать Служанку в коробку, потому что настоящие Служанки меня пугали. Мы встречались с ними на школьных прогулках, шагая парами, длинной колонной, с Теткой в голове и Теткой в хвосте. Ходили мы в церкви или в парки, где можно было водить хороводы или смотреть на уток в пруду. Позднее нам разрешили бы в белых платьях и вуалях посещать Избавления и Молитвонады, смотреть, как людей вешают или женят, но тогда Тетка Эсте говорила, что мы пока еще слишком маленькие.
В одном парке были качели, но о таких вольностях нам не полагалось и думать – мы же в юбках, в юбки надует ветер, и кто-нибудь подглядит. Только мальчики могли вкусить подобной свободы; только мальчикам разрешалось взлетать и парить; только их пускали в небеса.
Я до сих пор ни разу не качалась на качелях. Это у меня мечта по сей день.
Мы маршировали по улице строем, а Служанки с корзинками для покупок шагали парами. Служанки на нас не смотрели – почти не смотрели, не смотрели в упор, – а нам не полагалось смотреть на них, потому что пялиться невежливо, говорила Тетка Эсте, ведь невежливо пялиться на калек и вообще на тех, кто на тебя не похож. Расспрашивать о Служанках нам тоже не разрешали.
– Вырастете и все это узнаете, – говорила Тетка Видала.
Все это – Служанки тоже были все это, вместе со всем прочим. Значит, плохое – вредное или поврежденное, что, быть может, одно и то же. А прежде Служанки были как мы – белые, и розовые, и сливовые? Не убереглись, что-то притягательное у себя оголили?
Теперь-то их почти не разглядеть. Даже лиц не видно, потому что у них эти белые крылышки. Служанки были все одинаковые.
В кукольном доме была кукла-Тетка, хотя в доме ей не место, ей место в школе или в Ардуа-холле, где, по слухам, жили Тетки. Играя одна, я запирала куклу-Тетку в подполе, и это был недобрый поступок. Кукла-Тетка колотила в дверь подпола и кричала: «Выпустите меня!» – но кукла-девочка и кукла-Марфа, которая ей помогала, не обращали внимания, а порой смеялись.
Я без удовольствия описываю свою жестокость, хотя жестока я была всего лишь к кукле. Натуре моей свойственна мстительность, и эту черту мне, увы, так и не удалось совершенно подавить. Но в повествованиях подобного рода о своих оплошностях, как и обо всех прочих поступках, лучше говорить начистоту. Иначе никто не поймет, как рождались твои решения.
Честности перед собой меня научила Тавифа, что, ввиду всей ее лжи, несколько парадоксально. Справедливости ради должна отметить, что с собой она, вероятно, была честна. Изо всех сил старалась – так мне кажется – быть хорошим человеком в предложенных условиях.
Каждый вечер, рассказав мне историю, она укладывала меня в постель с моей любимой плюшевой игрушкой – игрушка была китом, потому что Господь дозволил рыбам большим резвиться в море[3], и играть с китом разрешалось, – а потом мы вместе молились.
Молитва была, как песенка, и мы пели ее дуэтом:
- Когда я усну и погаснут огни,
- Боже, душу мою сохрани,
- А если я не проснусь уже,
- Вечную жизнь подари душе.
- Четверо ангелов рядом со мной,
- Два впереди и два за спиной:
- Один – следить, другой – просить,
- А двое – душу мою уносить[4].
Голос у Тавифы был чудесный – как серебряная флейта. Порой по ночам, засыпая, я почти слышу, как она поет.
Но местами песня меня смущала. Во-первых, ангелы эти. Я понимала, что ангелы должны быть в белых ночнушках и с перьями, но мне они представлялись иначе. Мне они представлялись нашими Ангелами: мужчинами в черном, с нашитыми ткаными крыльями на мундирах и с винтовками. Неприятно было думать, что, пока я сплю, вокруг моей постели стоят четверо Ангелов, потому что они же все-таки мужчины – а вдруг я что-нибудь нечаянно высуну из-под одеяла? Ноги, например? Это ведь разожжет в них страсти? Неминуемо разожжет, деваться некуда. Так что мысль о четверых Ангелах отдохновению не способствовала.
И вдобавок неутешительно было молиться о смерти во сне. Я не думала, что во сне умру, но мало ли? И что такое моя душа – эта штука, которую унесут ангелы? Тавифа говорила, душа – это дух, который не умирает с телом вместе, и в этом мне полагалось черпать ободрение.
Но какая она, моя душа? Я воображала, будто она в точности как я, только меньше: маленькая, как кукла-девочка в кукольном доме. Она внутри меня – может, она и есть заветное сокровище, которое Тетка Видала велела так зорко сторожить. Души можно лишиться, говорила Тетка Видала, сморкаясь, и тогда душа упадет за грань, и полетит в бездну, и вспыхнет пламенем, как козлиные мужчины. А такого поворота я не желала допустить ни в коем случае.
4
В начале следующего периода, который я опишу, мне было, вероятно, лет восемь или, может, девять. События я помню, точный возраст – нет. Трудно запоминать календарные даты, тем более что календарей у нас не было. Но я продолжу, как смогу.
Меня тогда звали Агнес Емима. Агнес – это «агнец», говорила моя мама Тавифа.
И читала стишок:
- Агнец, милый Агнец,
- Кем ты создан, Агнец?[5]
Там еще было продолжение, только я его не помню.
Что до Емимы, это из Библии. Емима была очень особенная девочка, потому что на ее отца Иова Господь наслал несчастье – это было такое испытание, – и хуже всего то, что всех детей Иова убило. Всех его сыновей, всех его дочерей – убило![6] Всякий раз, когда я об этом слышала, меня мороз по коже подирал. Страшно подумать, что было с Иовом, когда ему сказали.
Но Иов выдержал испытание, и Господь подарил ему других детей – нескольких сыновей и трех дочерей, и Иов опять стал счастливым. А одной из этих дочерей была Емима[7].
– Господь подарил ее Иову, как мне – тебя, – сказала мама.
– У тебя было несчастье? До того как ты меня выбрала?
– Да, – улыбнулась она.
– А ты прошла испытание?
– Видимо, – сказала мама. – Иначе как бы я выбрала такую прекрасную дочь?
Эта история мне была по нраву. Лишь позднее я задумалась: как Иов это допустил – чтоб Господь подсунул ему кучу новых детей и при этом ждал, что Иов прикинется, будто мертвых детей можно просто выбросить из головы?
Когда я была не в школе и не с мамой – а с мамой я бывала все реже, потому что она все чаще лежала в постели наверху, «отдыхала», как это называли Марфы, – я любила торчать на кухне, смотреть, как Марфы пекут хлеб, и печенье, и пироги, и пирожные, и варят супы, и томят жаркое. Все Марфы назывались Марфами, потому что они были Марфами[8], они все носили одинаковую одежду, но у каждой было и собственное имя. Наших звали Вера, Роза и Цилла – у нас было три Марфы, потому что мой отец был очень важный человек. Я больше всех любила Циллу, потому что она говорила очень тихо, а Вера говорила резко, а Роза хмурилась. Она, правда, не виновата – это у нее просто лицо так было сделано. Она была из них самая старая.
– Давайте я помогу? – спрашивала я наших Марф.
Тогда они давали мне кусочки теста, и я с этим тестом играла, лепила из него человечка, а они потом запекали его вместе с остальным, что они там пекли. Я всегда лепила хлебных мужчин, а хлебных женщин никогда, потому что, когда их выпекали, я их съедала, и мне казалось, что так у меня есть тайная власть над мужчинами. Уже становилось понятно, что, невзирая на страсти, которые я, по словам Тетки Видалы, возбуждала в мужчинах, иной власти у меня над ними нет.
– А можно я испеку хлеб с самого начала? – как-то раз спросила я, когда Цилла доставала миску для теста. Я часто смотрела, как они пекут, – я была уверена, что умею.
– Тебе про это незачем думать, – сказала Роза, хмурясь больше обычного.
– Почему? – спросила я.
Вера засмеялась – получилось, как это за ней водилось, резко.
– У тебя для этого будут Марфы, – сказала она. – Когда тебе выберут хорошего жирного мужа.
– Он будет не жирный.
Жирного мужа я не хотела.
– Само собой. Это просто так говорится, – сказала Цилла.
– И за покупками тебе не надо будет ходить, – сказала Роза. – За покупками будут ходить твои Марфы. Или Служанка, если она тебе понадобится.
– Ей, может, и не понадобится, – сказала Вера. – Мать-то ее…
– Молчи, – сказала Цилла.
– Что? – спросила я. – Что моя мать?
Я знала, что про маму есть секрет – они так говорили «отдыхает», что сразу становилось ясно, – и это меня пугало.
– Просто она могла родить ребеночка сама, – успокоила Цилла, – так что наверняка и ты сможешь. Ты же хочешь родить ребеночка, правда, лапушка?
– Да, – сказала я, – только я не хочу мужа. По-моему, они мерзкие.
Марфы рассмеялись на три голоса.
– Не все, – сказала Цилла. – Твой отец – он тоже муж.
На это мне возразить было нечего.
– Уж позаботятся, чтоб у тебя был хороший муж, – сказала Роза. – Не просто завалящий какой-нибудь.
– Гордость-то надо поберечь, – сказала Вера. – За кого попало тебя не отдадут, даже и не думай.
Дальше мне вообще стало скучно думать про мужей.
– А если я захочу? – спросила я. – Печь хлеб? – Мне было обидно: они как будто очертили себя кругом, а меня не впускали. – А если я захочу печь хлеб сама?
– Само собой, Марфы тебе разрешат, куда им деваться? – сказала Цилла. – Ты же будешь в доме хозяйка. Но они тебя за это будут презирать. И решат, что ты занимаешь место, которое по праву принадлежит им. Не даешь им делать то, что они умеют лучше всех. Ты же не хочешь, лапушка, чтоб они так про тебя думали?
– И муж твой не обрадуется, – сказала Вера, опять испустив резкий смешок. – Для рук вредно. Ты на мои посмотри! – И она вытянула руки – пальцы узловатые, кожа шершавая, ногти короткие, с подранными кутикулами – совсем не как худые и изящные мамины руки с волшебным кольцом. – Тяжкая работенка – она для рук очень вредная. Муж ведь не захочет, чтоб от тебя тестом несло.
– Или отбеливателем, – сказала Роза. – От мытья.
– Он захочет, чтоб ты вышивкой всякой занималась, – сказала Вера.
– Мелкой гладью, – прибавила Роза. С насмешкой в голосе.
Вышивка мне давалась плохо. Меня вечно критиковали за рыхлые и неаккуратные стежки.
– Я ненавижу гладью. Я хочу печь хлеб.
– Не всегда можно делать, что хочется, – мягко сказала Цилла. – Даже тебе.
– А иногда приходится делать то, что ненавидишь, – сказала Вера. – Даже тебе.
– Ну и не разрешайте! – сказала я. – Вы вредные!
И я выскочила из кухни.
Я уже плакала. Мне велели не тревожить маму, но я все равно прокралась наверх к ней в спальню. Она лежала под прелестным белым покрывалом с синими цветами. Глаза у нее были закрыты, но, наверное, она меня услышала, потому что они открылись. Всякий раз, когда мы виделись, эти глаза были все громаднее и сияли все ярче.
– Что случилось, маленькая моя? – спросила мама.
Я заползла под покрывало и притулилась к ней. Она была очень горячая.
– Так нечестно, – всхлипнула я. – Я не хочу замуж! Почему я должна?
Она не сказала: «Потому что это твой долг», как ответила бы Тетка Видала, или: «Захочешь, когда время придет», – так ответила бы Тетка Эсте. Поначалу она не говорила ничего. Только обнимала меня и гладила по голове.
– Помни, что я тебя выбрала, – сказала она. – Тебя одну из всех.
Но я была уже большая и не верила в историю про то, как она меня выбрала, – про запертый замок, волшебное кольцо, злых ведьм, побег.
– Это просто сказка, – ответила я. – Я у тебя из желудка родилась, как все дети.
Она этого не подтвердила. Ни слова не сказала. И отчего-то это перепугало меня.
– Я же у тебя родилась из желудка? – спросила я. – Мне Сонамит рассказывала. В школе. Про желудки.
Мама обняла меня крепче.
– Что бы ни случилось, – помолчав, ответила она, – помни всегда, пожалуйста, что я тебя очень любила.
5
Вы, вероятно, и сами догадались, что было дальше – ничего хорошего дальше не было.
Мама умирала. Знали все, кроме меня.
Я узнала от Сонамит, которая утверждала, что она моя лучшая подруга. Лучших подруг нам не полагалось. Нехорошо сбиваться в замкнутые кружки, говорила Тетка Эсте: из-за этого другим девочкам кажется, будто их отталкивают, а мы все должны помогать друг другу стать идеальными девочками.
Тетка Видала говорила, что лучшие подруги – это значит перешептывания, и интриги, и секретики, а интриги и секретики – это значит, ты не повинуешься Богу, а неповиновение ведет к бунту, а маленькие бунтарки становятся взрослыми бунтарками, а взрослые бунтарки – это еще хуже, чем взрослые бунтари, потому что взрослые бунтари становятся изменниками родины, а взрослые бунтарки – прелюбодейками.
Тут раздался мышиный голосок Бекки, которая спросила:
– Что такое прелюбодейка?
Мы все удивились, потому что Бекка очень редко задавала вопросы. Отец ее не был Командором, как наши отцы. Он был всего-навсего стоматологом – самым лучшим стоматологом, все наши семьи к нему ходили, отчего Бекку и приняли в нашу школу. Но из-за этого другие девочки смотрели на нее сверху вниз, а она должна была их слушаться.
Бекка сидела со мной – она всегда старалась сесть со мной, если Сонамит ее не выпихивала, – и я чувствовала, как она дрожит. Я боялась, Тетка Видала накажет Бекку за то, что надерзила, но никто на свете, даже Тетка Видала, не смог бы упрекнуть Бекку в дерзости.
Сонамит перегнулась через меня и шепнула Бекке:
– Ты что, дура?
Тетка Видала улыбнулась – ну, в пределах своих возможностей – и сказала, мол, она надеется, что Бекка никогда не узнает этого на собственном опыте, поскольку тех, кто становится прелюбодейками, забивают камнями или вешают, нацепив им мешок на голову. Тетка Эсте сказала, что не надо пугать девочек почем зря; а потом улыбнулась и прибавила, что мы же цветы драгоценные, где вы видели бунтующие цветы?
Мы смотрели на нее, изо всех сил округляя глаза, изображая невинность, и кивали – мол, согласны. Тут у нас бунтующих цветов не проросло!
У Сонамит в доме была всего одна Марфа, а у нас три, так что мой отец был главнее. Теперь-то я понимаю, что она потому и хотела меня в лучшие подруги. Была она коротышка, с двумя длинными толстыми косами, которым я завидовала – у меня косички были тоньше и короче, – и черными бровями, с которыми она казалась взрослее своих лет. Она была задиристая, но лишь когда Тетки отвернутся. В наших спорах ей непременно надо было оставить последнее слово за собой. Если ей возражать, Сонамит снова повторяла то, что уже говорила, только громче. Со многими другими девочками она была груба, особенно с Беккой, и, к стыду своему, должна признаться, что мне недоставало сил ее унимать. Со сверстницами я выказывала слабость характера, хотя наши Марфы сказали бы, что я своевольная.
– Твоя мама умирает, да? – как-то раз в обед шепнула мне Сонамит.
– Ничего не умирает, – шепотом ответила я. – У нее просто такое состояние!
Так это называли Марфы: «состояние твоей матери». В этом своем состоянии мама очень много отдыхала и кашляла. В последнее время Марфы таскали ей подносы прямо в спальню; подносы возвращались с почти не тронутой едой на тарелках.
Меня к маме пускали редко. А когда пускали, у нее в спальне царил полумрак. И пахло не ею – не легкой сладостью лилейных хост в саду, – а как будто затхлый и грязный чужак пробрался в спальню и прячется под кроватью.
Я садилась подле мамы, свернувшейся калачиком под бело-сине-цветастым покрывалом, и брала ее за худую левую руку с волшебным кольцом, и спрашивала, когда закончится ее состояние, – она молится, отвечала мама, о том, чтобы у нее скорее прошла боль. Это утешало меня: значит, мама поправится. Потом она спрашивала, хорошо ли я себя веду, счастлива ли я, и на это я неизменно отвечала «да», а она сжимала мою ладонь и просила помолиться вместе с ней, и тогда мы пели песенку про ангелов, которые рядом с мамой. А потом она говорила «спасибо» – и на сегодня хватит.
– Она правда умирает, – прошептала Сонамит. – Вот у нее какое состояние. Умирание!
– Неправда! – прошептала я слишком громко. – Она поправляется. У нее скоро пройдет боль. Она об этом молилась.
– Девочки, – сказала Тетка Эсте. – Когда я ем, я глух и нем – за обедом наши рты жуют, а не разговаривают. Нам ведь повезло, что у нас такой вкусный обед, правда?
На обед были сэндвичи с яйцом – вообще-то, я их любила. Но в тот день меня мутило от одного их запаха.
– Я от моей Марфы слышала, – прошептала Сонамит, когда Тетка Эсте отвлеклась. – А ей сказала ваша Марфа. Так что правда.
– Какая наша Марфа? – спросила я.
Не верилось, что любая из наших Марф, даже хмурая Роза, может так вероломно наврать, будто мама умирает.
– Мне-то откуда знать? Все они Марфы, – ответила Сонамит, мотнув длинными толстыми косами.
В тот день, когда наш Ангел привез меня из школы домой, я пошла в кухню. Цилла раскатывала тесто для пирога; Вера разделывала курицу. На дальней конфорке побулькивал суп в кастрюле: туда отправятся лишние куриные запчасти, и все обрезки овощей, и кости. Наши Марфы еду расходовали экономно и ничего не выбрасывали.
Роза споласкивала тарелки в большой двойной раковине. В доме была посудомоечная машина, но Марфы включали ее, только если у нас ужинали Командоры, потому что, объясняла Вера, посудомоечная машина сжирает слишком много электричества, а с электричеством перебои, потому что война. Иногда Марфы называли ее войной на маленьком огне, потому что никак не закипает, или войной Колеса Иезекииля[9], потому что вечно крутится, а никуда не катится; но такое они говорили только промеж себя.
– Сонамит говорит, кто-то из вас сказал ее Марфе, что мама умирает, – выпалила я. – Это кто сказал? Что вы врете?
Все три бросили свои занятия. Как будто я махнула волшебной палочкой и всех заморозила: Циллу с поднятой скалкой, Веру с тесаком в одной руке и длинной бледной куриной шеей в другой, Розу с тарелкой и посудной мочалкой. Потом они переглянулись.
– Мы думали, ты знаешь, – мягко сказала Цилла. – Мы думали, мама тебе скажет.
– Или отец, – прибавила Вера.
Вот это прямо глупости, потому что как бы отец мне сказал? Он теперь почти не появлялся дома, а когда появлялся, одиноко ужинал в столовой или запирался в кабинете и занимался там своими важными делами.
– Мы тебе сочувствуем, – сказала Роза. – Твоя мать – добрая женщина.
– Образцовая Жена, – прибавила Вера. – Терпит свои страдания без единого слова жалобы.
Я уже плюхнулась за кухонный стол и плакала, закрыв лицо руками.
– Нам всем надлежит сносить недуги, что ниспосланы нам во испытание, – сказала Цилла. – Нельзя терять надежду.
«Надежду на что? – думала я. – На что тут надеяться? Впереди мне предстояли только утрата и тьма».
Мама умерла две ночи спустя, но я узнала лишь наутро. Я злилась на нее за то, что смертельно заболела, а мне не сказала, хотя она, в общем-то, сказала: она молилась, чтоб у нее скорее прошла боль, и ее молитва была услышана.
Когда я перестала злиться, от меня словно отрезали кусок – кусок сердца, наверняка он тоже умер. Я надеялась, что четыре ангела рядом с мамой все-таки были не понарошечные и унесли ее душу, как пелось в песенке. Я старательно воображала, как они возносят маму все выше и выше, в золотое облако. Но взаправду поверить не могла.
III
Гимн
Автограф из Ардуа-холла
6
Вчера вечером, готовясь ко сну, я распустила волосы – ну, что от них осталось. Неведомо сколько лет назад в одной из животворящих своих гомилий я внушала нашим Теткам пагубность тщеты, коя прокрадывается в наши души, как ее ни порицай.
– Над жизнью власы не властны, – сказала я тогда лишь отчасти шутливо.
И это правда, но равно правда и то, что власы – тоже жизнь. Волосы – пламя телесной свечи, и оно убывает, когда усыхает и тает тело. Некогда мне хватало волос на пучок – во времена пучков; и на узел – в эпоху узлов. А сейчас волосы у меня – как наши трапезы в Ардуа-холле: скудны и коротки. Пламя жизни моей угасает – медленнее, чем кое-кому в моем окружении, вероятно, хотелось бы, но быстрее, чем им представляется.
Я вгляделась в свое отражение. Изобретатель зеркала мало кому из нас оказал услугу: наверняка мы были счастливее, пока не знали, как выглядим. «Могло быть хуже, – сказала я себе, – мое лицо не выдает слабости. Оно сохраняет кожистую текстуру, характерную родинку на подбородке, гравировку знакомых морщин». Я никогда не обладала легкомысленной прелестью, но в свое время была благообразна, чего больше обо мне не скажешь. Максимум, на что я могу рассчитывать, – солидная.
«Чем все кончится?» – гадала я. Доживу ли я до помаленьку позабытой старости, постепенно костенея? Обернусь ли собственной почетной статуей? Или рухнем и я, и режим, моя каменная копия падет вместе со мной, и нас уволокут прочь, продадут на сувениры, на украшение газона – предметом отвратительного китча?
Или меня отправят под суд, объявив чудовищем, поставят перед расстрельным взводом, повесят на фонаре, на обозрение публике? Разорвет ли меня толпа, насадит ли мою голову на кол, пронесет ли по улицам под хохот и улюлюканье? Это вполне вероятно – я внушаю немало ярости.
У меня пока есть некий выбор. Умирать или не умирать – выбора нет, но когда и как – есть. Это разве не своего рода свобода?
Ах да – и кого прихватить с собой. Список я уже составила.
Я очень ясно постигаю, как ты осуждаешь меня, читатель, – в том случае, если моя репутация меня обогнала и тебе стало ясно, кто я есть – или же кем была.
В моем настоящем времени я – легенда, живая, но не просто живая, мертвая, но не просто мертвая. Я – обрамленная голова, что висит в глубинах классных комнат у девочек, которым хватает высоты положения посещать классные комнаты: угрюмо улыбаюсь, безмолвно укоряю. Я – страшная бука, мною Марфы пугают малолетних детей: «Не будете хорошо себя вести, Тетка Лидия придет и вас заберет!» Вдобавок я образец морального совершенства – и для подражания: «А Тетка Лидия как велела бы вам поступить?» – я судья и арбитр в туманном недоумении фантазий: «А что бы на это сказала Тетка Лидия?»
Я от власти распухла, это да, но и затуманилась – я бесформенна, переменчива. Я везде и нигде: я тревожной тенью заволакиваю даже умы Командоров. Как мне вновь обрести себя? Как съежиться до нормальных размеров, до размеров обычной женщины?
Впрочем, может быть, время упущено. Делаешь первый шаг, а затем, дабы уберечься от последствий, делаешь следующий. В наше время есть только два пути: наверх или падай.
Сегодня было первое полнолуние после 21 марта. В прочем мире забивают и едят ягнят; также поглощают пасхальные яйца – связано это с неолитическими богинями плодородия, которых предпочитают не вспоминать.
Здесь, в Ардуа-холле, мы обходимся без ягнячьей плоти, а вот яйца оставили. По особому случаю я всех порадовала – разрешила покрасить яйца в младенческие цвета – розовый и голубой. Не представляете, сколько радости это принесло Теткам и Послушницам, собравшимся в Трапезной на ужин! Рацион наш рутинен, и небольшое разнообразие приходится кстати, пусть даже и цветовое.
После того как чаши пастельных яиц были внесены и удостоились восхищения, но, прежде чем мы приступили к нашему убогому застолью, я, как обычно, произнесла Благословение: «Благослови пищу сию на благо нам и не дай нам сбиться с Пути, да отверзнет Господь»[10], – а затем особое Благословение на Весеннее Равноденствие:
Как раскрывается год по весне, так пусть раскроются и сердца наши; да будут благословенны дщери наши, да будут благословенны Жены наши, да будут благословенны Тетки наши и Послушницы, да будут благословенны наши Жемчужные Девы, что посвятили себя миссионерскому служению за границей, и да изольется Милость Господня на падших Служанок наших, дабы они, наши сестры, искупили свои грехи телами своими и родильными трудами по воле Его.
И да будет благословенна Младеница Николь, – украденная своей матерью, коварной Служанкой, и сокрытая безбожниками в Канаде; и да будут благословенны все невинные, коих она олицетворяет, все обреченные на воспитание под водительством растленных. Мы помним и молимся о них. Да возвратится к нам Младеница Николь, молимся мы, – да вернет ее нам Милость Божья.
Per ardua cum estrus. Аминь.
Я довольна, что сварганила настолько обтекаемый девиз. «Ardua» – это «тернии» или «женский репродуктивный труд»? «Estrus» – это про гормоны или про языческие весенние ритуалы? Обитательницы Ардуа-холла не знают и не интересуются. Твердят правильные слова в правильном порядке, а посему спасены.