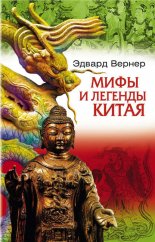Как подготовить детей к будущему, которое едва можно предсказать Шапиро Джордан

Как различия между виртуальным перебрасыванием слов туда-обратно и физическим влияют на обучение? Пока мы и правда не знаем. Зато вот что известно наверняка: когда мой сын и его друзья вырастут, большая часть их ежедневного контакта с текстом будет происходить через экран. И что бы ни говорили технофобы, экраны не находятся в антагонистических отношениях со словесным творчеством. На самом деле все наоборот.
Благодаря смартфонам современное общество больше зависит от текста, чем когда-либо. Большее количество людей теперь читают чаще и больше. Просто читают они не книги, и некоторые паникеры начинают предсказывать смерть содержательной литературы, поскольку онлайн-взаимодействие с текстом довольно поверхностно. На самом деле они просто романтизируют прошлое, представляя, что все поголовно читали Платона и писали философские романы. То время никогда не существовало – не только потому, что большинство людей не умели читать и писать в принципе, но и потому, что даже те, кто это делал, восхищались даже самым низкопробным чтивом.
Например, написанная около X века в Киото Мурасаки «Повесть о Гэндзи» – часто признаваемая первым великим романом – была просто третьесортной мыльной оперой о жизни при японском королевском дворе. Только в ретроспективе мы признаем ее гениальность. Точно так же «Дон Кихот» Сервантеса изначально был не более чем пародией на пустячные романтические истории, которые люди читали в начале XVII века. По мнению профессора литературы Гарвардского университета Мартина Пукнера, «Человек из Ламанчи» задумывался как поучительная история: «Если будете читать слишком много неправильной литературы, предупреждал Сервантес, то будете страдать». Но никто не пострадал. Прошло несколько сотен лет, и теперь грамотных людей стало больше, чем когда-либо прежде. Они также имеют более широкий доступ к материалам для чтения, как «правильным», так и «неправильным». В этом плане цифровые технологии – это дар.
Научиться читать без какого-либо контекста – все равно что пытаться собрать пазл, не зная ничего о том, как должна выглядеть окончательная картина.
Тем не менее нам необходимо реорганизовать школьный день таким образом, чтобы приучить детей к более содержательному взаимодействию с экранным текстом. Уже сейчас недостаточно подсовывать детям только бумажные книги; им также нужно знать, как применить базовые техники чтения на экранной странице. Пока этому нигде не учат. Вместо этого люди в развитом мире обсуждают, хорошо ли цифровое чтение влияет на детей. Никто не ставит такой вопрос на повестку дня в местах с переходной экономикой – как мы их иногда называем, странах «второго» или «третьего мира», или «глобальном юге», – потому что там, где доступ к книгам исторически был ограничен, смартфоны похожи на дар небес. Внезапно содержимое самых больших и лучших библиотек мира становится доступным для людей, которые никогда не имели доступа к подобным источникам. Другими словами, дискуссия о цифровом чтении – это исключительно проблема «первых» стран.
В Соединенных Штатах противники цифры постоянно указывают на исследования, которые говорят о том, что бумажные носители лучше; последователи же продвигают работы, которые поддерживают цифровое чтение. Обе группы, по-видимому, чрезвычайно предвзяты. В конце концов, не существует соответствующих рандомизированных тестов на различия между экраном и бумагой. В таком случае придется собрать контрольную группу детей, которые в течение всей жизни читали с гаджетов в том же объеме, в котором сегодня принято взаимодействовать с бумажными носителями.
Сравним количество полученной информации, качество и разнообразие. Конечно, сегодня многие дети начинают свайпать по экранам планшетов в очень раннем возрасте, но это не одно и то же. Подумайте о том, как с самого рождения большинство взрослых не только формируют у своих детей положительное восприятие книг, но и показывают им, как оперировать словами и цветными карандашами. Домашний процесс отхода ко сну (чтение сказки на ночь), детский сад и дошкольное учреждение – все они включают в себя постоянные ритуальные взаимодействия, боготворящие текст, написанный на бумаге. Но когда дело доходит до слов и идей на экранах, возникает культурный провал.
Школы будущего должны включать такое же ритуализированное взаимодействие с экранным текстом. Только так восприятие цифрового контента превратится из поверхностного в осмысленное. Почему? Вспомните, как уроки чтения уже в раннем детстве готовят наших детей к занятиям литературой. Мы медленно развиваем навыки, накладывая одно умение на другое. Например, каждый раз, когда воспитатель детского сада задает группе вопросы о книжке с картинками, они направлены на нечто большее, чем просто понимание прочитанного. Дети учатся тому, что важно анализировать текст. Они также извлекают урок относительно техники: все, что напечатано на бумаге, достойно интерпретации. Но когда вы объединяете этот тезис с правилами, которые ограничивают компьютерное время и исключают смартфоны из школы, создается проблемная иерархия текста. У учащихся формируется мнение, что экранные слова можно воспринимать не так серьезно, как написанные на бумаге. Это вызывает тревогу, поскольку обучение детей цифровой грамотности с самого детства – острая социальная необходимость.
Подростки должны понимать, как анализировать мемы, видео и рассказы, с которыми они неизбежно столкнутся (или которые создадут сами) в интернете и в видеоиграх.
Например, подростки должны понимать, как анализировать мемы, видео и рассказы, с которыми они неизбежно столкнутся (или которые создадут сами) в интернете и в видеоиграх. В противном случае этот пробел в знаниях будет иметь политические, экономические и личностные последствия, как только они перейдут во взрослую жизнь. Тот, кто не в курсе взаимоотношений среды и сообщения, не сможет поставить под сомнение достоверность политической и социальной рекламы. Не получится также обоснованно принять решение о покупке, не научившись сначала распознавать маркетинговые уловки, основанные на прогнозном алгоритме. И, самое главное: невозможно достичь чувства личной самореализации, пока ты не умеешь составлять нарратив собственного «я» с использованием преобладающих технологий времени.
Все три пути взаимодействия с цифровой средой необходимо ритуализировать в классе будущего. Это означает, что учителям пора прекратить избегать онлайн-контента, как будто он менее значим, чем текст, традиционно печатаемый на бумаге.
Помните, что на самом деле представляют собой старые литературные источники: это артефакты, созданные с помощью устаревших коммуникационных технологий, – послания, журналы, манифесты и многое другое. Из этого следует, что знаковые произведения литературы будущего, вероятно, публикуются в интернете, пока мы тут разглагольствуем. Не верите мне? Просто спросите себя, захотели бы вы зайти на страницу Марка Твена в социальных сетях, если бы она существовала. Ну конечно. Представьте, какие искрометные комментарии он бы оставлял, какими ироничными статусами мог бы поделиться. Как и многие великие писатели, Твен учит нас разумно взаимодействовать с миром. Мы, как учителя, делимся его мудростью с нашими учениками.
Подумайте о присутствии Марка Твена в социальных сетях в следующий раз, когда вы прочитаете одно из тех исследований, в котором говорится, что подростки несчастны, одиноки или подавлены, если сидят в интернете хоть какое-нибудь количество времени. Поймите, что технология по своей сути не является губительной для души или нарциссической. Проблема лишь в том, что взрослые еще не выяснили, как показать детям удачные примеры жизни в сети. Традиционно их предоставляют книги. С помощью «Процесса письма» мы учим детей, что текст представляет собой чрезвычайно честное личное повествование, – это свободный, хотя и отредактированный, отчет о том, что происходило в голове автора. Великие романы, даже с неудачными примерами героев, все еще являются когнитивными картами мышления великих писателей. Эти авторы – люди, которым нужно подражать, которые знают о жизни что-то такое, чего не могут знать остальные.
Есть ли у них онлайн-эквиваленты? Либо нет, либо мы их еще не встречали. Для детей нет достойных примеров для подражания – эквивалентов Сократа, Святого Августина, Шекспира, Флобера, Кафки или Марка Твена. Неудивительно, что дети не знают, как быть счастливыми в цифровом мире. Мы выпустили их на неизведанную территорию, не зачитав инструкций. Мы не объяснили им, как понять смысл интернет-жизни. У них нет ролевых моделей или наставников – за исключением таких же незрелых ютуберов. Именно поэтому у них нет чувства этикета или ожиданий от существования в виртуальном пространстве.
Школы будущего должны признать существование новых форм словесности – категорий, жанров, культур и заданий, – ведь пока мы не начнем считать манипуляции с экранными текстами основной частью творческого самовыражения, пока мы не интегрируем цифровизацию гуманитарных наук в школьную программу, наши дети не смогут вести полноценную жизнь в современном мире.
Выводы
Учителям необходимо разрабатывать для классных занятий игровые и творческие проекты, включающие цифровые компоненты. Именно так мы будем поощрять детей воспринимать технологии современного мира как инструменты творческого самовыражения
Знания, идеи и ценности, которые мы передаем нашим детям, полезны, только если они могут быть сформулированы с использованием современных техник. Любое самовыражение требует определенного инструментария. Риторика – это инструмент оратора. Письменность – это инструмент писателя. Даже сам язык можно понимать как некую технологию.
Древние шумеры учили своих детей писать, вдавливая заостренный тростник в глиняные таблички; отсюда и название школ – «дома табличек». Возможно, нашим школам пора стать «домами компьютеров». Задача образования заключается в том, чтобы подготовить детей к продуктивной, этичной и полноценной жизни в современном технологическом контексте. Но из-за нашей продолжительной приверженности «Процессу письма» технологический аспект самовыражения незаслуженно обделен вниманием. Мы привыкли воспринимать письменность как нечто само собой разумеющееся и забываем, что творчество – это не только поиски своего внутреннего «я», но и развитие уверенного голоса, который может публично выразить отличительные черты личности с использованием инструментов времени. Самовыражение не может быть отделено от технологий, появившихся, чтобы упростить этот процесс.
Когда взрослые используют в процессе обучения лишь устаревший инструментарий, они ведут себя безответственно. Очевидно, что сегодняшним детям нужно научиться владеть как традиционными, так и цифровыми технологиями. Но без учителей, которые намеренно интегрируют инновационные техники в учебный процесс, дети никогда не смогут развить беглость, необходимую для того, чтобы их внутренние голоса приобрели вес в цифровом мире.
Когда все дети практикуют обучение в контексте, они приходят к пониманию преимуществ и проблем, связанных с технологиями вокруг них. Это то, что действительно сделает их успешными в долгосрочной перспективе
В настоящее время нас смущает разница между конструктом «здоровья» и реально устаревшим технологическим мастерством. Почему? Потому что многие из наиболее привычных нам этапов развития остаются привязанными к конкретным наборам инструментов. Школам будущего придется адаптировать свои стандарты с учетом требований, которые новые технологии предъявляют к телу наших детей. Свайпы, тапы и клики теперь являются обязательными условиями человеческой автономии.
В каком возрасте дети готовы манипулировать трехмерными виртуальными объектами? Соединять нелинейные повествовательные элементы? Не только сортировать объекты по цветам и формам, но также учитывать категоризацию как этап в процессе анализа данных? Нам нужно полностью интегрировать сенсорные экраны, клавиатуры и компьютеры в учебный процесс, не застревая в зыбучих песках ностальгических стенаний. Здорово, что мы ведем учет потерь при переходе от одного набора инструментов к другому, но также важно выйти за рамки скорби и обид. Нам крайне необходимо найти пути включения старых ценностей в новые технологические контексты.
Учителя исторически моделировали правильные навыки конспектирования каждый раз, когда выписывали основные моменты лекции на меловой или маркерной доске, и сегодня нужно делать то же самое с новым набором инструментов. Одних презентаций PowerPoint недостаточно. Добавьте электронные таблицы в решение математических задач, и даже ученики начальной школы смогут строить массивы данных. Нарисуйте импровизированные блок-схемы, чтобы продемонстрировать, как разрешить спор с помощью алгоритмического мышления. Постройте 3D-модель при помощи сенсорных экранов. Создайте виртуальные диорамы с помощью Minecraft. Покажите ученикам, как они могут использовать цифровую песочницу, чтобы играть с идеями, пересматривать контент, организовывать концепции и делиться прозрениями.
Взрослым нужно перестать относиться к онлайн-контенту так, как будто он менее значим, чем тот, что традиционно печатается на бумаге. Пока мы не интегрируем цифровые гуманитарные науки в школьную программу, наши дети не смогут жить полноценной жизнью в современном мире
Благодаря цифровым технологиям современное общество как никогда зависит от текста. Большее количество людей читает чаще и больше. Однако нам еще предстоит соответствующим образом реорганизовать школьное образование, чтобы дети научились соотносить важные процессы со словами на экранах.
На протяжении многих поколений мы вовлекали детей в ритуальные взаимодействия, признающие ценность исключительно в бумажных текстах. Каждый рассказ перед сном, дошкольная алфавитная песенка и обсуждение книги в детском саду учат детей, что слова, напечатанные на бумаге, достойны вдумчивой интерпретации. Когда дело касается экрана, возникает культурный провал. Мы активно учим наших детей тому, что экранный текст и изображения поверхностны и легкомысленны. Как следствие, отсутствие у людей цифровой грамотности ведет к политическим волнениям во всем мире.
Если взрослые хотят подготовить детей к анализу мемов, видео и идей, с которыми младшее поколение столкнется в интернете и в видеоиграх, необходимо поощрять вовлеченность в виртуальную реальность, творческие онлайн-мероприятия и выполненные с помощью компьютеров проекты. Это лучший способ решить проблему фейковых новостей. Благодаря практическому опыту работы с цифровой риторикой дети научатся интуитивно понимать, как закрепляются медиа-артефакты. Научите детей самовыражаться с использованием преобладающих технологий. Адаптируйте мудрость пальчикового рисунка и педагогику «Процесса письма» к новому набору инструментов. С помощью учебной программы диджитал-аргументации дети научатся распознавать, как средства массовой информации могут воздействовать на них принудительно.
Необходимо поощрять вовлеченность в виртуальную реальность, творческие онлайн-мероприятия и выполненные с помощью компьютеров проекты. Это лучший способ решить проблему фейковых новостей.
Они также станут более счастливыми, более полноценными гражданами цифрового общества. Несмотря на паникерские исследования, развивающиеся технологии не пожирают детские души и не взращивают нарциссизм. Реальная проблема заключается в том, что мы не предоставили нашим детям внятного примера полноценной онлайн-жизни. Не предложили им цифровой эквивалент классической литературы. Следовательно, наши дети не знают, как быть счастливыми в цифровом обществе, потому что мы не научили их понимать онлайн-жизнь.
Глава 9
Новое образование
Минойцы были одной из самых инновационных цивилизаций древнего мира, зародившейся на острове Крит во времена бронзового века (около 2000–1500 до н. э.). Минойцы считаются одним из старейших обществ Европы. Управление было централизованным, а одним из главных городов стал знаменитый Кносс – город с мощеными дорогами, канализационной системой и оригинальной фонетикой. Некоторые источники свидетельствуют о том, что именно минойцы придумали строить прямые стены и крыши так, как мы делаем это сейчас. До этого люди жили в пещерах, под навесами из костей мамонта, в палатках из шкур животных и жилищах из глинобитного кирпича, похожих на пчелиный улей.
Мне нравится представлять двух жителей Кносса, сидящих под оливковым деревом за пределами дворца. Они любуются потрясающим видом на Эгейское море. Один поворачивается к другому и говорит:
– Я волнуюсь.
– Почему?
– Просто посмотри вокруг, – говорит первый, делая глоток вина из керамического сосуда.
Его друг восхищается ярко раскрашенным кубком, думая о моряках, которые недавно привезли гончарный круг. Самые ранние глиняные кувшины изготавливались в шумерском городе Ур, но минойцы торговали со всеми, так что всегда возвращались домой с новыми блестящими вещицами.
– Как нам только удается адаптироваться к таким темпам изменений? – удивляется древний человек. – Сотни тысяч лет люди были охотниками и собирателями, жили в пещерах и хижинах. А теперь, за такой короткий промежуток времени, мы изобрели не только стены, но и торговлю, флот, централизованную систему управления, алфавит…
– Люди не смогут угнаться за нами! – перебивает его друг.
– Да, я знаю. Даже не представляю, что нас может ждать в будущем. И как только готовить к нему своих детей?
Как и многие из нас, они, вероятно, думали, что живут в то время, когда темпы технического прогресса опережали биологическую способность человечества адаптироваться.
Но они ошибались.
И мы тоже.
Неизменная гибкость
Оглянитесь в прошлое и попытайтесь понять, насколько революционным оно было. Подумайте, каково было строить самые первые здания. Представьте себе, сколько различных типов жилищ и убежищ существовало в Кноссе до того, как минойцы обосновались в трехэтажном лабиринте, который наконец раскопали археологи. Для людей, живущих в то время, каждое нововведение наверняка казалось таким же невероятным, как для нас – первый iPhone. Возможно, через несколько сотен лет, когда наши потомки оглянутся назад, они тоже признают только самые большие изменения – те, которые сумели выдержать испытание временем.
Когда-нибудь перфокарточные табуляторы, выкопанные из руин штаб-квартиры IBM в Армонке, Нью-Йорк, покажутся непонятными и непоследовательными. Никто и не подумает о том, что эти машины произошли от механических часов XIX века, что они стали важным шагом на пути к квантовым вычислениям. Археологи будущего могут даже не узнать, как электрические реле заменили перфокарты, как вакуумные трубки превратились в диоды. Они не поймут важность ввода данных с клавиатуры и использования электронно-лучевого монитора. Они не будут помнить телетайп, цифровые наручные часы Pulsar или первый калькулятор Hewlett-Packard, HP-35, предназначенный для ношения в нагрудном кармане рубашки.
Забудьте о постепенных изменениях; вся история цифровой эры однажды будет выглядеть как единое достижение. Искусственный интеллект и биоинженерия не будут частью четвертой промышленной революции. Вместо этого эти этапы появятся в истории как цель, к которой стремились первые три, и все они будут выглядеть крошечными шагами по сравнению с тем, что произойдет после постмодернистской эпохи. Изменения кажутся невероятно быстрыми, пока происходят параллельно с нашей жизнью, но в ретроспективе оказывается, что они занимают сотни, если не тысячи лет.
Сдвиги и преобразования, которые мы сейчас переживаем, безусловно, значительны, и они несут огромные последствия для сегодняшних школьников. Но не верьте, что технологические изменения опережают способность человечества адаптироваться. Такой подход лишает образование потенциала и дает инструментам больше автономии и доверия, чем они заслуживают. Правда в том, что они не заслуживают вообще ничего: мы создали их, а не они создают нас. Более того, они уже представляют собой своего рода адаптацию. Они отражают наше постоянное стремление устранить недостатки технологических, экономических и социальных парадигм прошлого. Инновационные инструменты – это то, как мы (как вид) удовлетворяем свое желание найти новые (в идеале – лучшие) способы понимания времени, места, коммуникации, торговли, повествования и идентичности.
Чрезмерно осторожная картина мира, которая постоянно видит опасность в темпах прогресса, – это нонсенс. Вопреки здравому смыслу, она служит для поддержки темпов роста технологической индустрии, поощряет слепое принятие, готовит нас к принятию определенной технологической судьбы.
Вспомните закон Мура, популярную теорию, названную в честь Гордона Эрла Мура – соучредителя корпорации Intel. В 1965 году он заметил, что инженеры «запихивают больше транзисторов в интегральные схемы», и их количество удваивалось экспоненциально год за годом. Но Мур не назвал свою идею «законом» – по крайней мере, не в оригинальной статье, которую он написал для журнала Electronics. Это потому, что его теория не была законом в общепринятом, научном смысле слова – не закон природы, не физический закон Вселенной. Это всего лишь предположение одного человека о том, как отрасль может расти по мере снижения затрат на производство.
Тем не менее в Силиконовой долине любят определять гипотезу Мура как закон и часто ссылаются на нее. Почему? Потому что создается впечатление, что вычислительная мощность пронесется по нашей жизни подобно мойрам и фуриям. Это подкрепляет мифологию, в которой инструменты изображаются как боги; эта история служит на благо технической индустрии. Потому что, когда потребители верят в это, они не спрашивают, как люди хотят использовать инструменты; они задаются вопросом, как инструменты хотят использовать людей.
Обратите внимание на то, что та же опасная дилемма лежит в основе нынешних дебатов о реформе школьного образования. По всему миру я принимал участие в дискуссиях о том, как школы должны адаптироваться к очевидной неизбежности быстрых технологических изменений. Модераторы конференций часто спрашивают меня, как мы можем защитить наших детей в будущем. Конечно, они не так говорят. Вместо этого меня спрашивают, что входит в список наиболее важных «навыков XXI века».
В течение по крайней мере тридцати лет исследователи, фонды, правительства и некоммерческие организации выпускают отчеты, которые определяют эти ключевые навыки, полезные в будущем. Каждый список немного отличается, обновляясь по сравнению с предыдущим. И все они, похоже, вторят общему рефрену: гибкость, адаптивность и креативность являются необходимыми компетенциями для жизни в будущем. Но мы почти на 20 процентов прожили этот новый век! Как можно по-прежнему говорить, что наша работа заключается только в том, чтобы привить детям гибкость? Уж она-то поможет им креативно подготовиться к новым реалиям экономики, которую мы пока даже не в состоянии себе представить. Это не выход из ситуации – просто взрослые пытаются уклониться от ответственности, избежать проблем и свалить всю тяжелую работу на следующие поколения. Конечно, «адаптивность» важна, но она не может быть ответом на любые вопросы о будущем. Когда кто-то спрашивает, какие навыки нужны нашим детям, чтобы адаптироваться, нет смысла отвечать, что они должны быть способны к адаптации. Это бессмысленная тавтология, ссылающаяся сама на себя.
Кроме того, гибкость, адаптивность и креативность не являются уникальными навыками XXI века. Будущее всегда неопределенно. Даже в 500 году до н. э., живя в, казалось бы, более медленном мире, Гераклит Эфесский признал, что «ничто не постоянно, кроме изменений». Непредсказуемость не уникальна для нашего времени. Впрочем, как и исключительная степень прогресса. Гибкость, способность к адаптации и креативность всегда были качествами, необходимыми, чтобы защитить наших детей. По тем же причинам они ходят в школу. Мы знаем, что прошлое полно мудрости, изобретательности и идей, которые необходимо передавать из поколения в поколение. Мы также знаем, что ценности, навыки и концепции должны быть творчески переосмыслены и скорректированы таким образом, чтобы оставаться значимыми и применимыми даже в меняющихся контекстах.
Забудьте о постепенных изменениях; вся история цифровой эры однажды будет выглядеть как единое достижение.
Ванневар Буш красиво изложил это в своем знаменитом эссе 1945 года «Как мы можем мыслить» – работе, которую часто называют концептуальным вдохновением для создания протокола передачи гипертекста (HTTP), управляющего Всемирной паутиной. В качестве первого советника президента США по науке Буш инициировал Манхэттенский проект[18] и лоббировал в Конгрессе создание Национального научного фонда. За десятилетия до появления интернета он уже знал, что информационные технологии полезны лишь в той мере, в какой они обеспечивают «развитие и сохранение знаний на протяжении всей жизни расы, а не отдельного человека». Несмотря на то что он не застал подтверждения своих догадок, Буш каким-то образом понял то, что взрослые XXI века часто забывают: интернет – это инструмент памяти. Это пример того, как люди приспосабливаются к своим биологическим недостаткам.
Только представьте, как тяжело приходилось нашим доисторическим предкам: охотники и собиратели полагались на ограниченную способность ума получать и классифицировать знания, сохранять и формулировать информацию, извлекать и повторять коллективные истории. Нужно было знать, какие растения можно есть, а каких нужно избегать, какие тропы безопасны, а какие нет, какие соседние племена дружелюбны, а какие – враги. Чтобы выжить, нужны были мифология, знания и истории.
Но даже если оснастить мозг лучшими мнемоническими устройствами, когда-либо созданными человеком, у него будут свои ограничения. Мы склонны все забывать. Вот почему шумеры и минойцы придумали свои системы для записи всего необходимого. Они разработали первые инструменты для борьбы с биологической склонностью нашего вида к рассеянности. Они сохранили доступные записи о том, что знали сами, чтобы их потомки могли применять фундаментальные знания и коллективную мудрость в постоянно меняющемся мире. Они научили своих потомков быть адаптивными, гибкими и креативными. Эти характеристики – не навыки, жизненно необходимые в XXI веке, а причина, по которой мы вообще начали фиксировать знания.
Данные, информация и знания
Когда-то рядом с моим кабинетом в Темпльском университете был кабинет археолога. На столе рядом с ее компьютером лежала настоящая шумерская клинописная табличка. Она использовала ее в классе, чтобы показать, как выглядели их символы. Древний артефакт передавался студентами из рук в руки, они терли кончиками пальцев поверхность бурой затвердевшей глины. Профессор поясняла, что объект в их руках был квитанцией, свидетельством небольшой сделки между купцами в условиях одной из самых ранних городских экономик.
Первые знаки отображали валюту, жетоны с изображениями вещей, выставленных на продажу: зерно, овцы, рыба, хлеб. Монеты были первыми пиктографическими знаками. А самые ранние человеческие документы – это описи, предшественники современных электронных таблиц, с насечками и символами, помогающими подсчитать содержимое погребов и хранилищ. Минойцы и шумеры создали тысячи таких квитанций, купонов и отчетов о запасах. Они все записали. Так появились первые бюрократические структуры, зависящие от всеобъемлющего централизованного учета и опирающиеся на инструменты и технологии, которые предназначались для запоминания.
Историки, как правило, делают различие между древними ведомостями и первыми литературными источниками – между квитанциями и рассказами. Хотя в цифровом мире это различие вряд ли имеет смысл. Наша задача – научить детей жить с сетевыми инструментами, которые были созданы для взаимодействия с данными и информацией более гибким и нелинейным способом, основанным на транзакциях и гиперссылках. Они должны понять, что дихотомия количественных вычислительных наук и качественных гуманитарных наук построена на ложной предпосылке. Эти дисциплины скорее схожи, чем различны. Они все являются способами учета человеческого опыта и записывают знания, от которых зависят люди. Математика, физика, биология и химия служат той же фундаментальной цели, что и история, поэзия, мифология и литература. Каждая наука является языком, который люди используют, чтобы зафиксировать приобретенный опыт и обозначить возможности, которые мы можем себе представить.
Представьте, как тяжело приходилось нашим доисторическим предкам: охотники и собиратели полагались на ограниченную способность ума получать и классифицировать знания, сохранять и формулировать информацию, извлекать и повторять коллективные истории.
Конечно, различные дисциплины описывают разные вещи по-разному – и на протяжении всей этой книги я обсуждал степень, в которой среда формирует послание. Но пока давайте отложим в сторону различия и сосредоточимся на том, что общего у всех систем знаний. Они направлены на одно и то же: учет событий, передачу данных, описание опыта, обмен информацией и отраслевыми знаниями.
Чтобы понять, что я имею в виду, вспомните, как строится знание. В основе лежат данные, и только после наблюдения, определения, категоризации, представления и извлечения они становятся информацией. Она, в свою очередь может перейти или не перейти в знание.
Рассмотрим на примере луча закатного солнца. Он отражается и преломляется: синие волны рассеиваются, а красные фильтруются в самых плотных слоях атмосферы. Нам это известно, потому что когда-то людям захотелось узнать о причинах градиента на вечернем небосклоне. Мы распознали закономерности. Мы обозначили это явление так, чтобы его было легко описать. Необработанные сенсорные стимулы были представлены словом «закат». Он стал конечной точкой ежедневного путешествия Гелиоса по бескрайнему небу Урана. Он стал картиной Моне с силуэтом купола собора Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции, виднеющимся вдали. Он стал стихотворением Уолта Уитмена[19], повествующим о «бесконечных финалах явлений». Он стал фотонами и волнами света, преломленными через молекулярную призму.
Какие характеристики важнее? Все зависит от контекстов, в которых люди изучают это явление в школе, и от того, как они их применяют. На уроке истории мой сын читает Гомера и узнает, что древние греки верили, что Гелиос «сияет в своей колеснице, запряженной лошадьми». На рисовании он знакомится с характерными мазками импрессионистов. На уроке английской литературы он узнает, что сборник «Листья травы» бросил вызов викторианцам, привнеся чувственное удовольствие в романтическую эпоху. На химии его учат различать жидкости, твердые тела и газы. А учитель физики объясняет, что фотоны ведут себя и как волны, и как частицы. Каждая дисциплина – это код, способ учета цветов неба, язык, на котором мой сын учится говорить и расшифровывать разнообразные идеи. Затем, обучаясь одновременно в нескольких контекстах, он может легко обмениваться наблюдениями с другими людьми. Информация становится валютой.
Всякий раз, когда люди коллективно соглашаются на общий способ кодирования и декодирования наших представлений о мире, информация превращается в знание. «Знания – это информация, которой человек обладает в той форме, которой он или она может незамедлительно воспользоваться, – говорит Кит Девлин, всемирно известный математик, который в настоящее время работает исполнительным директором Института перспективных исследований в области гуманитарных наук и технологий Стэнфордского университета. – В XXI веке ни один гражданин не сможет нормально функционировать без базового понимания информации и анализа того, что необходимо для превращения информации в знания».
Мне нравится формулировка Кита. Он знает, как точно определить, что люди имеют в виду, когда определяют адаптивность, гибкость и креативность как ключевые навыки, необходимые для цифрового мира. Они говорят о способности модифицировать языки, коды и информационные системы прошлого, чтобы они оставались актуальными и сохраняли свой статус и полезность как знания – даже в меняющихся контекстах. Это реальное решение проблемы навыков XXI века: школа должна переподготовить детей, чтобы они могли использовать старые знания в новых системах управления информацией.
К сожалению, большинство наших нынешних образовательных подходов занимается обратным. Как будто мы складываем iPad в шкаф для хранения документов. Мы учим детей понимать данные, информацию и знания, которые уже устарели. Возможно, это связано с тем, что мы все еще ослеплены информационными инновациями прошлого.
Картотека
Когда Мелвил Дьюи в конце XIX века представил свою десятичную классификацию, она нарушила работу библиотек. До Дьюи книги были сложены так же, как у меня дома на тумбочке: в стопке, в том порядке, в котором были приобретены. Переплеты обращены наружу, и, когда мне хочется почитать, я просто достаю определенный том из стопки. Библиотеки до Дьюи были лишь немногим более сложными. При поступлении книге присваивался номер, а затем она помещалась на следующее свободное место на полке. Чтобы найти то, что вам нужно, нужно было попредметно просмотреть всю картотеку. Там было указано расположение каждого конкретного издания: например, «Замок» Франца Кафки мог быть книгой номер 4023, хранящейся в дальней части длинной комнаты. Между темой книги и ее размещением не было никакой связи. Две книги Кафки могли храниться по разные стороны одного и того же здания.
Нам это кажется безумием, но вообще в такой системе есть смысл. Если тексты предназначены для документирования знаний, почему бы не организовать их в хронологическом порядке? Ведь это подчеркивает место документа в исторической хронике. Возраст важнее предмета; знания строятся на собственном фундаменте.
Однако это неэффективно. Каждый раз, когда коллекция выходит за пределы полок, все книги нужно переместить из одного пространства в другое, а это означает присвоение им новых номеров. Система Дьюи произвела революцию, буквально перевернув все с ног на голову. Он разделил библиотечный фонд на темы и присвоил каждой книге код, соответствующий тематической категории. Читатели могли просматривать хранилище книг, как каталог. Так выяснилось, что когда дело доходит до идей, то тематика и индивидуальное авторство важнее, чем историческая хронология.
Я понял принцип работы библиотек в начальной школе. Система Дьюи была своего рода технической грамотностью, и у нас был урок, посвященный ей. Мы выстраивались в очередь, чтобы пройти по коридору и дойти до большой комнаты, второй этаж которой был забит книгами. Там нас учили, как найти то, что нам нужно, как расшифровать код из букв, точек и чисел.
После того как библиотекарь заканчивала свою еженедельную лекцию, я направлялся к большому дубовому шкафу рядом с ее столом. Картотека была организована по темам, авторам и названиям – по три перекрестные карточки на каждую книгу. Чтобы добраться до выдвижных ящиков, мне приходилось вставать на круглую подставку для ног Cramer, сконструированную так, чтобы ее колеса плавно катились, пока на нее не наступали. Вес человека заставлял внешний обод погрузиться в ковер и стабилизировать платформу. Я помню, что почувствовал, как прорезиненный нескользящий протектор упирается в подошвы моих высоких кроссовок, когда я открывал один из двадцати или тридцати маленьких прямоугольных ящичков. Внутри была невероятно длинная коллекция перфорированных карт, которые переворачивались под углом вперед и назад. Они напомнили мне органайзер Rolodex, стоявший на рабочем столе моего отца. Он поворачивал синюю ручку сбоку, чтобы пролистать перфорированные карточки с именами размером с древние глиняные таблички.
Было время, когда все индексировалось на бумаге или карточке. Вот почему на занятиях меня учили записывать по одному факту на карточку, когда я зачитывал статьи из World Book Encyclopedia. Учительница объяснила, что из этих карточек я смогу потом сформировать школьный доклад. Сначала надо было распределить их по темам, а затем скрепить резинками листочки из одной стопки. Потом мы должны были прикрепить их к пробковой доске так, чтобы порядок имел смысл. Я упорно не понимал, чего она хотела. Задание казалось глупым. Ни один из моих докладов в начальной школе не был столь информативен, чтобы возникла необходимость в столь сложной системе регистрации. Карточки просто создавали больше работы, поэтому я никогда ими не пользовался.
До Дьюи книги в библиотеках были сложены так же, как дома на тумбочке: в стопке, в том порядке, в котором были приобретены.
Я не понимал, что моя учительница пытается познакомить нас с системами управления информацией, которые в то время были неотъемлемым элементом взрослой профессиональной жизни.
Индексные карточки и системы хранения данных, которые они упрощают, опередили Мелвила Дьюи более чем на столетие. Они были изобретены около 1760 года Карлом Линнеем, шведским ученым, который подарил миру современную систематизацию. Сегодняшние классификации растений, животных и минералов связаны с информационными технологиями, которые принадлежали эпохе их зарождения. Линней придумал способ организовать естественный мир так, чтобы он придерживался его набора организационных инструментов. Или, может быть, он разработал определенный набор инструментов так, чтобы они соотносились с его видением природного мира.
В любом случае индексные карточки недооценены. Способность легко маневрировать в информационной базе данных – расширять коллекцию знаний, добавив файл, но не нарушив общий порядок, – заслуживает того, чтобы быть отмеченной как поразительно влиятельное достижение.
Признайте степень влияния скромных инноваций Линнея на наши мыслительные привычки. Теперь любой, кто учится работать с картотеками, начинает так же каталогизировать свои мысли. Процедурная риторика наших самых привычных ритуалов и традиций гарантирует это. Мы узнаем, что можем перестраивать, расширять и перемешивать содержимое нашего разума, но никогда не прекращаем заполнять наши интеллектуальные хранилища. Воспоминания, опыт и идеи просто смешиваются, как процентный доход на нашем банковском счете. Вот почему великий бразильский педагог Паулу Фрейре назвал этот подход банковской моделью, в которой «роль педагога заключается в регулировании того, как мир “наполняет” студентов».
Все условности школы с измеренными результатами, которые аккуратно вписываются в картотеки, учат нас воспринимать себя с точки зрения хранилища. К этому технологическому способу мышления относится четкое разделение знаний на категории предметов с названиями, которые вписываются в помеченные таблицы. Кроме того, оценки и зачеты в конце семестра, а также способ учета индивидуальных достижений студента – это все продукты системы классификации Линнея. Все студенческие баллы когда-то записывались на индексные карточки, идеально вписывающиеся в шкафы Kardex. Вот откуда происходит термин «табель успеваемости»[20]. Школа исторически привязана к информационно-управленческой системе и проникнута организационным духом промышленной бюрократии.
Централизованный учет, осуществляемый логикой индексных карточек Линнея, также является причиной стандартизации тестов. Их ненавидят все: учителя, администрации школ, родители, студенты. Я никогда не встречал никого, кто бы поддерживал тесты, – а ведь я беседовал даже с руководителями компаний, которые получают прибыль от их составления и проверки.
Тестирование – это отрасль с оборотом в два миллиарда долларов, но даже его бенефициары признают кафкианскую абсурдность такого подхода. Все взрослые жалуются на излишнюю «загруженность тестами» и «натаскиванием на выполнение заданий». Экзамены заставляют студентов ненавидеть свою учебу, а учителей – свою профессию. Тесты плохо и зачастую неточно оценивают результаты обучения, потому что оно не имеет ничего общего с тем, что мы подвергаем тестированию. Однако экзаменационные тестирования предоставляют данные, выгрузками которых можно забивать картотечные шкафы, – а от этого зависит бюрократия. Критики могут без устали осуждать ошибочные метрики или жаловаться на использование стандартных тестов по рубрикам для измерения интеллекта и когнитивного развития. Ничего не изменится, и всем это известно.
Педагоги пытаются сопротивляться тестированию, разделяя промежуточные и диагностические оценки. Промежуточные оценки выставляются на постоянной основе в течение всего процесса обучения, а диагностические – в конце. Промежуточные баллы очень помогают процессу обучения, потому что обеспечивают обратную связь. Когда ученик может легко распознать, в чем он преуспевает, а в чем терпит неудачу, ему легко адаптировать свой подход – это еще один пример практической отладки. Диагностические же оценки, проставляемые по итогам экзаменов и составляющие непропорциональную долю от общего балла, не дают ученикам никакой возможности повлиять на результат. Оценка выносит приговор, как судья своим молотком, и часто определяет путь, по которому может продолжиться жизнь ученика.
Тесты ненавидят все: учителя, администрации школ, родители, студенты. Даже руководители компаний, которые получают прибыль от их составления и проверки.
Промежуточные оценки в сочетании с регулярной обратной связью являются основой любого хорошего обучения. Диагностические оценки – это инструмент, необходимый для процветания бюрократии.
Воспитательница в подготовительном классе моего сына очень часто ставила промежуточные оценки. Она постоянно проверяла, чему именно учится мой сын и каких результатов он достигает. Иногда оценки формировались на основании викторин и письменных анкет, но чаще – интуитивно; она просто чувствовала, что надо поставить, но на основании кучи данных и различной информации. Она видела его презентацию по Star Wars, его рабочие тетради с измерениями ковра и смешные истории, полные сражений, взрывов и звуковых эффектов.
Работая примерно с шестнадцатью другими детьми, она всегда могла понять, когда ученик начинает неправильно понимать материал. Она проводила свое внеурочное время, медитируя над событиями прошедшего учебного дня, и вела нескончаемые заметки о своих размышлениях – повествования, короткие истории и личные записи в дневнике, касающиеся того, как можно скорректировать процесс обучения. Так она убеждалась в том, что все ученики «идут в ногу».
Но как она могла эффективно продемонстрировать это школьному завучу? Как завуч доложил бы об этом директору? Как директор представил бы это мэру? Как мэр показал бы это губернатору? Как бы губернатор доказал Министерству образования, что все школьники одного штата или провинции учатся в подходящем темпе? Есть только одно решение: вам нужны квитанции, отчеты – данные и документация, которые можно поместить в картотеку. Так сказать, бумажный след, доказывающий, что каждый ребенок получает образование, которого заслуживает. Для правительства образование является не только предпосылкой равных возможностей, но и способом подготовки рабочей силы для поддержания процветающей экономики. Выживание государства зависит от его инструментов бюрократической отчетности. И до сих пор стандартизированные тесты были известным способом сообщать об образовательных результатах централизованному органу.
К счастью, все меняется. Вскоре видеоигры и другие цифровые виды деятельности позволят ликвидировать разрыв между промежуточной оценкой и централизованным учетом. Эти виды деятельности предоставят так много данных о компетенциях игроков, что стандартизированное тестирование покажется архаичным. Терабайты цифровой информации сделают оценки прошлого наивно упрощенными. И как только последний след индексных карточек Линнея исчезнет из образовательного учета, новые педагогические традиции разрушат ограниченное пространство малюсеньких ящиков в больших дубовых шкафах.
Я уже вижу это – каждый день, по дороге на занятия. Я прохожу мимо стройплощадки в кампусе Университета Темпл. Мы строим новую библиотеку, где большая часть книг будет размещена на огромном подземном складе. Только 10 % коллекции будет представлено на традиционных полках. В остальных случаях студенты и преподаватели будут использовать сенсорные экраны и компьютерные терминалы для просмотра каталога, а затем роботизированный кран BookBot будет доставлять выбранные ими книги с огромных стальных и алюминиевых стоек размером 14 на 36 метров.
Я слышал, как мои коллеги жаловались на то, что новая система убьет старое романтическое удовольствие от копания в книгах на стеллажах. «Лучшие из источников мы находили случайно», – тоскливо жалуются они. Это правда: по крайней мере до тех пор, пока VR-шлемы не станут обычным явлением, мы можем лишиться редких примеров случайного везения. Однако прежде, чем цепляться за привычные удобства одной технологической эпохи, нам, вероятно, следует подумать о том, какие преимущества можно получить в другой. Помните: используемые полки не являются вечной или существенной характеристикой работы с библиотекой. Они были нормой лишь в течение одного века. Кроме того, ваши случайные находки никогда не были такими уж случайными, потому что категории, разделы и предметы были официально определены фирмой под названием Dewey Services. Конкретные книги соседствовали с другими только тогда, когда эксперт считал, что их тематика коррелятивна. Но скоро это изменится. Библиотекари, преподаватели и даже студенты смогут курировать свои собственные виртуальные стеллажи.
Конечно, система BookBot – это уход от привычного, но она предлагает гораздо лучшее решение для нашего времени. Почему? Мне в голову приходят по крайней мере четыре причины. Во-первых, потому, что она занимает гораздо меньше места, позволяя университету открыть доступ к большему количеству книг. Во-вторых, она гарантирует, что книги будут храниться должным образом в контролируемых условиях определенной влажности и температуры. В-третьих, ленивые исследователи – которые «выгорели» от многочасового конспектирования и слишком устали, чтобы подняться по лестнице, – больше не будут ставить взятые книги не на свое место.
Но важнее всего в роботизированном поиске то, что он позволяет гораздо тщательнее использовать так называемый кросс-референс. Когда просмотр не ограничен физическими законами пространства, материальные книги могут быть гиперссылками с той же легкостью, что и веб-страницы. На цифровых полках один экземпляр одного и того же тома может быть отнесен к психологии, философии, образованию и культурологии – ко всем сразу. Это не имеет значения для BookBot; перекрестные ссылки не замедлят его работу. Следовательно, скорее всего, появится новый вид открытий, похожий на кроличью нору веб-серфинга, в которую я часто попадаю. С точки зрения учеников, этот переход от хранилищ с каталогами индексации к сложному обмену информацией представляет собой новое восприятие организации знаний.
В теории – даже предвещает новый способ представления себя.
Картотеки будущего
Вне зависимости от того, как библиотеки организуют свои коллекции, один факт остается бесспорным: строго говоря, книги на полках не содержат никакой информации. «Они содержат страницы, – пишет Кит Девлин. – Точно так же на этих страницах есть различные символы, но нет информации».
Сначала может показаться, что он придирается к смысловым деталям, но уверяю вас, это не так. Подобное разграничение является важной частью так называемой теории ситуаций, из которой следует, что буквы, слова и изображения в книгах являются лишь отображением информации. Если «когнитивный агент» не владеет соответствующими средствами декодирования, то буквы и цифры – это просто бессмысленные закорючки. Грамотность и счет работают как дешифровочные кольца Бака Роджерса[21] – это инструменты, предназначенные для того, чтобы люди могли получить доступ к информации, представленной в виде символов на странице.
Строго говоря, книги на полках не содержат никакой информации – в них только страницы и отдельные символы. Информацию же мы расшифровываем самостоятельно.
Аналогичным образом традиционные учебные предметы можно воспринимать как протоколы и процессы для расшифровки смысла репрезентативных данных. Они похожи на контексты, которые мы используем, чтобы понять закат, индексы, с помощью которых мы классифицируем виды, и табели, которыми мы измеряем интеллектуальные достижения своих детей. Как и все наборы инструментов, они имеют ограничения и предубеждения. Каждая дисциплина намеренно отфильтровывает части человеческого опыта, добавляя свои рамки. Это не плохо, просто необходимо. Точно так же, как видеоигра использует правила для создания смысла, информация существует только в отображении данных, ужатых до ящиков определенного формата.
Школа объясняет, как извлекать информацию из этих ящиков. Дети не только учатся читать и писать, но и изучают другие виды процессов и протоколов для работы с конкретными наборами данных. Например, на уроке истории мы учим детей интерпретировать события прошлого таким образом, чтобы они могли провести аналогию с настоящим. При создании исторического повествования мы намеренно ограничиваем данные конкретными способами. Часто оно оказывается, к примеру, националистическим. Вспомните уроки всемирной истории в средней школе и представьте, насколько по-другому был бы написан учебник, если бы нацисты не были побеждены и вы жили в стране, управляемой Третьим рейхом. Ваш урок истории имел бы совершенно другой набор ограничений.
По аналогии можно рассмотреть происходящее в этой книге: когда я описываю игру в песочнице как торжество индивидуализации, ужин как основной ритуал индустриализации, телевидение как новый очаг, механику часового механизма как основу здорового развития в XX веке, письменность как подъем растущей капиталистической экономики и картотеки как представление устаревшего эпистемологического восприятия. Я помещаю знакомые технологии прошлого в многообещающую историю о цифровом будущем – будущем, которое требует совершенно иного определения информации. Если старое образование культивировало привычку мыслить определенным образом для мира картотек, то новое образование должно создавать привычку мыслить в формате мира нелинейных гиперссылок. К счастью, теория ситуаций может помочь.
«Теория ситуаций – это математически вдохновленная попытка понять роль контекста в человеческой деятельности», – сказал мне Кит. Он начал работать в Центре изучения языка и информации Стэнфордского университета вскоре после того, как Джон Барвайз и Джон Перри разработали эту теорию в начале 1980-х годов. «Все говорили об информационной экономике, – сказал он, – и мы поняли, что пока нет соответствующей научной теории, объясняющей, что такое информация. Люди создавали эти машины и программное обеспечение, которое могло бы обрабатывать абстрактную вещь, называемую информацией, но никто не мог дать ей определение».
Теория ситуаций обеспечила основу. Она указывала на то, что поток информационных стимулов собирается в осмысленную историю только тогда, когда помещается в контекст. Контексты – это ситуации, которые играют определенную роль. Информация, которую мы можем извлечь из данных, всегда зависит от того, как контекстная ситуация ее ограничивает.
Но это описание все еще немного абстрактно. Один из способов сделать его более конкретным – вспомнить о разнице между цифровыми и аналоговыми технологиями.
Сегодня мы используем слово «аналоговый» для описания всего, что не является цифровым. Оно относится к противоположности компьютерных технологий, но это не соответствует первоначальному значению слова. «Аналог» происходит от греческого «аналогос» (). «Aнa» () означает «снова». «Логос» () означает «порядок», «разум», «системы» или «речь». Именно так мы получаем слово «логика» и аффикс «-логия», который формирует названия многих текущих академических дисциплин: психология, теология, биология, социология. Соедините два термина – «аналогос» описывает то, что имеет сопоставимую структуру, что-то, что повторяет конструкцию другой вещи. Поэтому метафоры и сравнения, которые мы часто используем в повседневной беседе, называются «аналогиями». А когда песня записывается «дедовскими» способами (на магнитную ленту или виниловую пластинку), мы называем это «аналоговой записью». Почему? Потому что электрические токи и проделанные канавки воспроизводят звуковые волны изначально проигрываемой музыки. Вспомните графики, которые вам показывал учитель физики в школе. Изогнутые линии представляли собой форму волны. Когда магнитные импульсы звучат из ваших усилителей, вибрации конусообразной колонки повторяют точные интервалы и частоту первоначальной звуковой волны.
Вы замечали, что современные цифровые аудиоприложения иногда включают визуализацию в форме волн? Они состоят из тонких дребезжащих линий или ряда прямоугольных башенок, которые выглядят как городской пейзаж. Например, если вы используете SoundCloud, белые полосы бегут вдоль нижней части дисплея, постепенно становясь оранжевыми. Это изображение – фальсификация, графика, призванная расширить пользовательское восприятие. То, что вы видите, – это лишь приблизительная оценка верхних и нижних пиков громкости. Нет такого устройства, которое, как игла проигрывателя или головка кассетной деки 1980-х годов, может читать форму волны в SoundCloud и заново воспроизводить музыку.
Все потому, что SoundCloud – цифровая платформа, а не аналоговая. Всякий раз, когда музыка читается лазером с компакт-диска или передается по сети, воспроизводится не сам звук. Вместо этого предоставляются сжатые инструкции, которые обрабатываются алгоритмически, сообщая вашему устройству, что играть и как играть. Все это просто закодированные биты. Единицы и нули. Цифры.
Цифра – это любое число меньше десяти, любое число, которое я могу показать на пальцах. Латинское слово «digitalis» означает «делать что-либо пальцами». Это термин, который был связан с музыкой, в частности – фортепиано, задолго до того, как начал иметь какое-либо отношение к числам.
Я думаю об этом слове каждый день после обеда, когда мой десятилетний сын лупит по клавишам того же старого деревянного пианино Estey, на котором я практиковался, когда был в его возрасте. Сейчас он учится играть тему из Super Mario Bros. Это включает в себя освоение сложных аккордов и синкопированных ритмов. Он нажимает на клавишу, и с этим движением в работу включается около тридцати элементов из дерева, стали, меди, войлока. Его палец играет си бемоль и управляет противовесом молоточка, который ударяет по струнам. Тон четкий, громкость регулируется силой прикосновения. Система работает отлично. Технология фортепиано почти не изменилась за последние несколько сотен лет, потому что в этом нет необходимости: инструмент является шедевром инженерной мысли. В нем нет электрических импульсов, нет сигналов, нет кода и нет чисел. Но фортепиано с технической точки зрения по-прежнему считается «digitalis». Все клавишные инструменты буквально являются «цифровыми», потому что вы играете пальцами.
Информация, которую мы можем извлечь из данных, всегда зависит от того, как контекстная ситуация ее ограничивает.
Буквы, которые вы зажимаете на ноутбуке или компьютере, берут свое начало от клавиш фортепиано. Сначала, конечно же, была пишущая машинка, но до этого – фортепиано. В 1867 году журнал Scientific American фактически назвал одну из первых пишущих машинок «литературным фортепиано». Это довольно уместно, потому что некоторые прототипы были сконструированы с использованием переделанных клавиш пианино. Фирменные круглые кнопки Remington из черного дерева – те, что с хромированной каймой, которые вы видите на старинных пишущих машинках, – появились только несколько лет спустя. Они были разработаны Кристофером Лэтемом Шоулзом и имитировали круглую полированную поверхность ручки телеграфного аппарата. Это было частью его маркетинговой стратегии: первые машинописцы были операторами, транскрибировавшими сигналы из кода Морзе в печать. Тогда же раскладка клавиатуры QWERTY стала стандартной и вездесущей частью жизни наших детей, скользя вверх на экранах смартфонов всякий раз, когда они набирают сообщения в WhatsApp. Первоначально буквы были расположены так, чтобы помочь телеграфным операторам быстрее расшифровывать звуковые сигналы и щелчки.
Как ни странно, сигналы и щелчки азбуки Морзе больше любой клавиатуры говорят нам о том, почему математики назвали самую первую компьютерную технологию «цифровой». У первых компьютеров клавиатуры не было. Перфорированная пленка и магнитная лента стали основными методами ввода команд. Компьютеры были названы «цифровыми», потому что опирались на булеву алгебру, или алгебру логики, основанную на исследовании философом Готфридом Вильгельмом Лейбницем древнекитайской «Книги Перемен». Двойственность «инь» и «ян» стала реальным источником вдохновения для кода, который теперь формулирует сложные математические выражения только с двумя бинарными вариантами: вкл/выкл, единица/ноль, да/нет, правда/ложь. Так же, как тире и точки Сэмюэла Морзе, все на экране смартфона ваших детей построено символически из комбинации двух вариантов, двух чисел, двух цифр.
Дети – те же браузеры и 3D-принтеры. Они так же расшифровывают данные и превращают их в осмысленные проекты.
Но последовательность цифр полезна, только если у вас есть инструмент, который может извлечь смысл из битов: вроде iPhone, окна браузера, гарнитуры виртуальной реальности или 3D-принтера. Конечно, аналоговые технологии также требовали дополнительных устройств, которые могли бы преобразовывать импульсы в их физическое выражение. Для воспроизведения виниловой пластинки или магнитной ленты необходим проигрыватель или кассетная дека. Чтобы музицировать, мой сын должен нажимать на черные и белые клавиши, а маленькие молоточки будут ударять по настроенным струнам. Но ни одна из этих старых технологий не требует процесса преобразования данных. Таким образом, математическая теория информации на самом деле не нужна для понимания принципов их действия. В аналоговом мире можно прекрасно жить с мыслью, что записи содержат музыку и что книги и индексные карточки содержат идеи.
Но теперь мы используем биты – единицы и нули – для передачи закодированных инструкций машинам, которые преобразуют их во что угодно: звуки, картинки, карты, игры, даже трехмерные печатные объекты. По сути, эти машины предоставляют контекст, обеспечивая представление данных в значимых ситуациях. Они берут цифры и трансформируют их в информацию, которую мы можем использовать в качестве знаний.
Когда мы понимаем, что такое информация с точки зрения теории ситуаций, нам становится легче передавать идеи, обмениваться ими или перекрестно испоьзовать. Она также готовит нас к тому, что мы должны учить студентов воспринимать себя как браузеры и 3D-принтеры. Все они – когнитивные агенты, которые расшифровывают данные и превращают их в осмысленные проекты. Они добавляют ограничения характера, раскладывают предметы по отдельным ящикам и создают ситуационный контекст, основанный на ценностях и мнениях.
Дети больше не изолированные сосуды, наполненные до краев академическими знаниями. Лучше объясните им, что они узлы связи, в которых потоки человеческой мудрости могут пересекаться во времени и пространстве.
Новая математика
Когда я впервые встретился с Китом Девлином, он был на ранней стадии разработки игры под названием Wuzzit Trouble – долгосрочного результата работы над теорией ситуаций.
Представьте себе часовой механизм, который вращается с определенным шагом, виртуальные шестеренки, которые вы прокручиваете вперед и назад. Чтобы решить каждую головоломку, игрок пытается точно вычислить, на сколько зубцов должна повернуться шестеренка, чтобы оказаться в определенном месте. Все дело в понимании интервалов и знакомстве с целочисленными значениями. Когда большие числа определяются как сумма их меньших аналогов, вы имеете дело с «теорией чисел». Это название отрасли математики, которая заменила арифметику. Она уходит корнями в древние концепции шумеров и минойцев. Лишь малое количество основополагающих человеческих концепций изменилось, но методы, которые мы используем, чтобы структурировать и сформулировать их, способы, которыми мы придаем им смысл в контексте, всегда адаптируются. Вы больше не носите глиняные таблички с рядами чисел. Вы не используете счеты. Теперь вы можете просто скачать Wuzzit Trouble на свой смартфон.
Это забавная игра; я с ее помощью успешно коротал время во многих невыносимых дальних перелетах. Я также пытаюсь заставить своих детей играть в нее так часто, насколько возможно, потому что существуют доказательства, что это поможет им улучшить свои оценки по математике. Одно исследование показало, что после двух часов игры, разбитых на 10-минутные отрезки в конце уроков, ученики значительно улучшили свои навыки решения задач.
Как? По словам Кита, все благодаря тому, что функционирование этой программы сродни игре на фортепиано. Нет, не потому что игра «цифровая», хотя (как и в случае со всеми играми для сенсорных экранов) вы играете в нее пальцами. Но Кит сравнивает игру с фортепиано, потому что так же, как ребенок может играть на клавишах и что-то узнавать о музыке, он думает над Wuzzit Trouble и узнает что-то новое о математике. Кит называет ее математическим инструментом, потому что воспринимает приложение не как игру, которая учит математике, а скорее как игровое отображение фактического математического процесса. Так же, как человек «играет» музыку на фортепиано, можно «играть» математику на Wuzzit Trouble. Фортепиано моментально дает вам обратную связь о резонансе и диссонансе. Вы можете ощутить границы гармонии, контрапункта и ритма. Аналогичным образом Wuzzit Trouble дает вам немедленную обратную связь о том, как числа соотносятся друг с другом. Методом проб и ошибок игрок улучшает свое чувство числа.
Этот термин может быть незнакомым, особенно если вы не учитель математики. Но любой, кто имеет дело с детьми, должен знать, что это значит. Чувство числа – одна из самых важных вещей, которые ваши дети должны будут усвоить на уроке математики XXI века. И это отличается от методов, по которым вас обучали в школе. Вы когда-нибудь задумывались, почему существует так много мемов с жалобами на «новую математику»? Это не потому что изменилась сама математика. Просто дети теперь приходят домой с заданиями, которые выглядят странно: задачи не имеют четких правильных и неправильных ответов. Взрослые не понимают, чего от них хотят рабочие тетради. «Почему мой ребенок не может изучать ту же математику, что и я?» – спрашивают они. Потому что математическое образование уже адаптируется к цифровому миру.
С появлением новых контекстов появляются новые способы декодировать старые данные в новую информацию. В процессе старые приложения часто становятся неактуальными. Уже сейчас многие взрослые с учеными степенями по математике не могут быть уверены, что их навыки в будущем останутся значимыми, поскольку технологические, культурные и экономические изменения продолжают занимать доминирующее положение. На самом деле Кит первым бы сказал вам, что большинство математических навыков, которые он изучил в качестве бакалавра математики, теперь устарели. Учителя традиционно учили людей решать уравнения, вычисляя ответы. Мы запомнили лучшие способы обработки чисел, и наши умы стали шкафами инструментов из нержавеющей стали, полными алгоритмических ключей, отверток и молотков.
Но больше не нужно владеть этими инструментами, мы можем их просто одалживать. «Все формулы и процедуры, которые на протяжении многих веков составляли основу университетской математики, теперь автоматизированы и находятся в открытом доступе», – объясняет Кит. Было время, когда исследовательские лаборатории и инженерные фирмы полагались на людей, которые могли решать уравнения, водя карандашом по бумаге. Это время прошло.
Конечно, это не значит, что математическое образование уходит в небытие. С древних времен математика была одной из самых важных систем знаний, которые люди могут использовать для описания своего мира. Скорее всего, таковой она и останется. Но когда самые сложные математические процессы могут быть обработаны кем-то менее компетентным, важно грамотно понять, как с максимальной эффективностью использовать инструменты своего времени. И культивирование этого навыка требует практики.
Традиционный урок математики тоже был посвящен практике. Я до сих пор помню, как скверно себя чувствовал, когда вечер за вечером исписывал тетради за кухонным столом. Мои учителя давали то, что Кит называет «игрушечными задачами», упражнениями, призванными помочь мне запомнить определенные процедуры и протоколы. Как пианист, который репетирует нотную грамоту, чтобы зафиксировать интервалы в мышечной памяти, мы практиковали выполнение алгебраических операций, пока не смогли решить задачу с переменными, даже не задумываясь. Это стало второй натурой. И в то время это был правильный способ преподавания. Но мои дети должны решать то, что Кит называет «реальными задачами», используя реальные данные. Им нужна такая мышечная память, которая мгновенно распознает, как числа могут быть занесены в электронную таблицу Excel. Им больше не нужно знать, как выполнять сложное деление, лучше просто понимать, как оно работает.
Сегодня нет необходимости помнить кучу математических формул. Их можно «одалживать» у современных технологий.
Кит постоянно говорит о «чувстве числа» и «математическом мышлении». Он признает разницу между основными математическими навыками и современными инструментами, используемыми для решения уравнений. Он знает, что фундаментальные способы познания мира человечеством довольно бескомпромиссны. Они меняются очень медленно, если меняются вообще. Но после многих лет изучения теории ситуаций Кит также признает, что сетевые технологии цифрового мира уже изменили методику, согласно которой нужно преподавать практически любой предмет. В настоящее время мы обучаем когнитивных агентов. Мы готовим людей к получению данных, их декодированию в информацию и обмену знаниями.
Полезность, экономическая ценность и чувство самореализации наших детей не будут зависеть от их гибкости. Школа – это не занятия йогой. Взрослость не определяется тем, как глубоко вы можете прогнуться или насколько легко вы принимаете неудобное положение. Вместо этого речь идет о способности творчески адаптировать столпы человеческой мудрости таким образом, чтобы наши коллективные ценности оставались значимыми даже в новых контекстах.
Выводы
Научите детей видеть себя узлами связи, точками, через которые знания передаются во времени и пространстве
Старое образование было структурировано по логике карточных каталогов. Это научило нас представлять каждую дисциплину как набор идей или навыков, которые можно хранить в интеллектуальном хранилище. Студенты были похожи на коробки, в которые учителя упаковывали образовательные догмы.
Новое образование должно культивировать привычку мыслить в условиях более гибкого, транзакционного и нелинейного мира. Наши дети должны понимать, что математика, физика, биология, химия, история, поэзия, мифология и литература – все это сопоставимые и взаимосвязанные способы учета человеческого опыта. Образовательные дисциплины – это просто символические языки или ситуационные ограничения, которые позволяют нам извлекать смысл из наборов репрезентативных данных.
В предыдущие технологические эпохи было легко представить идеи «содержанием», своего рода абстрактной субстанцией, содержащейся в книгах, записях, документах и текстах. Но теперь, когда мы используем цифровые биты для передачи закодированных инструкций машинам, которые могут расшифровывать данные в звуки, картинки, карты, игры и даже трехмерные печатные объекты, учеников нужно научить представлять себя веб-браузерами и принтерами. Ребенок – это не контейнер, а скорее когнитивный агент, который декодирует символические системы, добавляет ограничения характера, помещает вещи в отдельные ящики и создает контексты, основанные на ценностях и мнениях.
Школы нуждаются в большем количестве междисциплинарных мероприятий, которые предоставляют ученикам возможность извлекать информацию из смешанных наборов данных и превращать ее в знания, которые становятся актуальными в неожиданных контекстах
Во всем мире педагоги и политики пытаются выяснить, что нужно будет узнать детям, чтобы быть готовыми внести свой вклад в экономику неопределенности. Уже в 2015 году специалисты международной консалтинговой компании McKinsey & Company подсчитали, что «45 % работ могут быть автоматизированы с использованием уже существующих технологий». Еще 13 % можно было бы автоматизировать, если бы способность компьютера обрабатывать язык достигла «медианного уровня производительности человека».
Люди знают о потенциальной способности технологий разрушать существующие экономические нормы, и взрослые отчаянно пытаются выявить так называемые навыки XXI века, которые обеспечат детям финансовую и профессиональную стабильность. Наиболее распространенным рефреном является то, что дети должны развивать способность к гибкости, адаптивности и креативности – предположительно, это врожденные человеческие компетенции, которые искусственный интеллект никогда не сможет имитировать. Но это не совсем подходящее решение проблемы. На самом деле оно даже не кажется решением. Это всего лишь самый легкий способ для взрослых избежать проблем. Они признают неопределенность, но затем передают работу по представлению тенденций будущего своим детям. Это безответственно.
Правда в том, что непредсказуемость не уникальна для нашего времени. Мир постоянно меняется. Цель детского обучения всегда состояла в том, чтобы передавать мудрость, изобретательность и идеи от одного поколения к другому, одновременно управляя трудностями, которые неизбежно возникают от жизни в вечно меняющемся мире. Задача взрослого – перестроить обряды детства таким образом, чтобы ценности, навыки и концепции, которые так хорошо служили человечеству в прошлом, оставались значимыми, актуальными и применимыми даже в новых контекстах.
Сейчас взрослым нужно сосредоточиться на изменении языков, кодов и символических систем, чтобы те могли сохранить свой статус и полезность в качестве источника знаний. Реальное решение проблемы развития навыков включает в себя подготовку детей к внедрению старых концепций в новые системы управления информацией. Мы должны отказаться от системы картотек в образовании и избавиться от повседневных обрядов и порядков, которые способствуют определению чувства собственного «я» как хранилища данных. Помните, что мы обучаем когнитивных агентов. Мы готовим людей получать данные, декодировать их в информацию и обмениваться ими как знаниями.
Учителям пора признать, что старые специализированные и аккумулятивные упражнения и практика решения «игрушечных задач» больше не являются актуальной для современного мира образовательной деятельностью. Эти техники не отображают подход к решению задач в цифровом мире и не готовят детей к удовлетворению нужд новой технологической эры. Вместо этого детям нужен захватывающий и междисциплинарный опыт обучения. Пусть они практикуются на реальных задачах, которые требуют объединения множества, казалось бы, несвязанных идей. Научите учеников распознавать, что общего у разных точек зрения, как разные концепции могут объединяться полезными способами и каким образом информация превращается в знания, когда становится совместимой с целым рядом интеллектуальных платформ.
Теперь все дело в производительности. Поэтому нам нужно оценивать «пропускную способность» детей, а не длительность запоминания.
Наша нынешняя система образования учит детей быть прочными сосудами. Но миру нужно, чтобы они были пористыми мембранами
Старые школьные структуры, рутины и учебные программы продвигают сегментированное восприятие Вселенной. Монастырская модель времени возводит в абсолют эпизодический фокус. Картотечная концепция информации способствует восприятию себя лишь в качестве хранилища. Все условности школьного дня учат наших детей разделять свой опыт существования на отдельные области. Это проблема, потому что в будущем не будет иметь значения, насколько люди гибки, адаптируемы, креативны, уверены в себе или предприимчивы, если они не смогут понять, как навыки, идеи и нарративы идентичности передаются через цифровые, инфраструктурные и экономические сети с использованием инструментов времени.
Нужно отказаться от лояльности к мелким фрагментам устаревших систем управления информацией. Пора избавиться от иллюзии, что технологические остатки непреклонной централизованной бюрократии являются важнейшими компонентами процесса обучения.
В цифровом мире успех автоматически переопределен. Протоколы и процессы теперь более ценны, чем интеллектуальные активы. Следовательно, образование больше не может сосредотачиваться на местах назначения, вехах или оградительных столбиках.
Теперь все дело в производительности. Поэтому нам нужно оценивать «пропускную способность» детей, а не длительность запоминания.
Часть IV
Общество
Глава 10
Новая эмпатия
Задолго до Платона, Сократа, Пифагора, возможно, даже до гомеровской «Одиссеи» Греция уже была глобализированным обществом. Конечно, мир в целом был меньше нынешнего, но греки заключали торговые сделки с иностранцами при любом удобном случае.
Археологи обнаружили свидетельства микенских морских путешествий на запад до Атлантического побережья, что означает, что древние греки плавали на север, огибая Пиренейский полуостров (Испания). Они меняли вино, оливковое масло и глиняную посуду на серебро и олово из мест, которые мы сегодня называем Францией и Великобританией. Зерно, золото и медь везли со всего Средиземноморья, включая регион Ближнего Востока и Северной Африки. Из дальних уголков Черного моря, ныне входящих в состав России, они завозили шкуры животных, древесину и соленую рыбу.
Международная торговля стала символом процветания среди древнегреческих семей – по крайней мере, среди тех, кто мог пользоваться ее преимуществами. Появился доступ к экзотическим товарам, устойчивая промышленность, качество жизни повысилось.
У них также были иммигранты. Люди поднимались и сходили с морских судов. Импортеры и экспортеры открывали свои представительства в каждом портовом городе. Угнетенные и отчужденные искали лучшей жизни в далеких странах. Рабов и слуг переправляли через море.
Миграция всегда идет рука об руку с международной торговлей. К сожалению, фанатизм, предрассудки и трайбализм[22] тоже. Людям не нравится то, чего они не понимают. Почему? Потому что для тех, кто обретает чувство собственного «я» через статус и власть, как каждый древнегреческий старейшина, владевший землей и рабами, разнообразие может стать дестабилизирующей угрозой авторитету.
Просто задумайтесь: если дети растут, видя, что иностранное племя отлично выживает, следуя совершенно иному набору правил, это указывает на то, что нынешний режим не является абсолютным. Иностранное присутствие вызывает сомнения. Иммигранты заставляют людей задавать вопросы. Они нарушают статус-кво, привносят новые способы мышления, открывают другие перспективы. И это большая проблема для иерархических вертикальных моделей, которые всегда держатся на фундаменте веры и террора. Система безопасна только тогда, когда менее могущественные жители живут в страхе; молодежь должна дрожать от одного упоминания возможности восстания. Таким образом элита пытается подавить потенциальное сопротивление. Они рассказывают истории, которые очерняют все «другое». Они культивируют фанатизм и трайбализм; они учат детей тому, что противоположные точки зрения греховны и кощунственны. Они винят технологии времени.
«Держитесь подальше от порта», – могли бы сказать своим детям древние греки. Морская торговля объединяла их мир, будучи эквивалентом нашей Всемирной паутины. («Доки, лодки – они погубят тебя!»)
В долгосрочной перспективе сепаратистские наклонности, подобные этим, всегда терпят неудачу. Сопротивление бесполезно. Сети взаимного воздействия призваны объединять людей, и так было задолго до появления интернета. Оросительные каналы, акведуки, электросети, городской водопровод, паромы, троллейбусы, метро, пригородные поезда, дороги, нефтепроводы, почтовые маршруты, печатный станок, оптоволоконный кабель, вышки сотовой связи и спутники – все это инструменты связи. Они упрощают врожденное стремление человечества связываться между собой, объединяться, взаимодействовать и обмениваться. Мы продолжаем создавать инструменты, которые сближают нас, и ничего не можем с этим поделать. Как сказал Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций: «Выступать против глобализации – это все равно что выступать против законов гравитации».
Система безопасна только тогда, когда менее могущественные жители живут в страхе.
Но только потому, что что-то неизбежно, это не означает автоматическое принятие. Так что мировое сообщество продолжает бороться, пытаясь сохранить порядок и смысл в мире, где каждый может четко осознать, что ни одна точка зрения не является полностью непогрешимой. Это особенно тяжело для наших детей. Они постоянно подвергаются головокружительному набору противоречивых сетевых перспектив. И они сбиты с толку, потому что им не хватает эмпатических навыков, необходимых для противостояния вызовам постоянной связанности.
Хорошо, что мы позволяем им играть на метафорических доках; плохо, что мы не объяснили им правила игры. Доступ к разнообразию без наставничества или образования вызывает беспокойство. Это не приведет к утопическому альянсу. Вы не можете просто поместить кучу разных людей в одну комнату и предположить, что все они волшебным образом полюбят друг друга. Мы не можем взращивать сочувствие, когда все скатываются в кризис идентичности.
Слово «кризис» буквально описывает необходимость вынести суждение, решение, определение или выбор – это относится к моменту, когда человек сталкивается с набором, казалось бы, несовместимых факторов и изо всех сил пытается найти способ снизить уровень напряжения.
Наши дети постоянно сталкиваются с кризисом идентичности.
Я и Другое
Представьте себе комок пластилина. Не знаю, как дела обстоят у вас, но мои дети всегда впадают в азарт, когда играют с ним. Они превращают его в черепаху, может быть, рыбу, дом, машину, космический корабль. С каждым разом они добавляют новые цвета, комбинируя их и смешивая, пока весь комок не приобретет скучный серо-коричневый оттенок. Художественный объект трансформируется из одного в другой, но средой все равно остается пластилин.
Люди похожи на пластилин. Мы общаемся с разными друзьями, меняем школы, покупаем одежду нового стиля, занимаемся незнакомыми делами. Эти ситуации формируют нас. Тем не менее мы остаемся самими собой. Тела растут, клетки кожи делятся, зубы выпадают, ногти на ногах подстригаются, волосы седеют. Физические изменения преображают нас на протяжении всей нашей жизни, но я знаю, что я все тот же «я», которым всегда был.
Как такое может быть? Что это за часть меня, которая остается неизменной, даже когда все вокруг меняется? Как я могу поддерживать личность сплоченной, когда мой аватар и его контекст трансформируются? Эта проблема озадачивала философов на протяжении тысяч лет. Так мы получаем представление о душе, психике, себе и личности. Каждый термин – это просто способ как-то назвать таинственную и неосязаемую часть человека, которая каким-то образом остается постоянной, в то время как все остальное всегда в движении.
В своей основе дисциплина психологии направлена на то, чтобы помочь людям поддерживать устойчивое чувство собственного «я» перед лицом постоянных превратностей. Но даже психологи не были готовы к жизни в цифровом мире. Сетевое существование сопровождается уникальным набором эмоциональных и интеллектуальных проблем. Глобализированная экономика и ее цифровые коммуникационные системы теперь подвергают каждого из нас воздействию разнообразных идей, людей и образов. Это делает способность развивать здоровое чувство собственного «я» гораздо более хрупкой, чем когда-либо. Почему? Потому что, как отмечали многие величайшие мыслители человечества, индивидуальность зависит от способности человека отличать «другого». В конце концов, я знаю, что такое я, потому что знаю, что не является мной. Ты – это не я. Черепаха – это не я. Пластилин – это не я. И я не пластилин.
Некоторые психологи и социологи предполагают, что национализм, трайбализм, расизм и изоляционизм – это неосознанные попытки придать сил запуганному чувству собственного «я» путем создания преувеличенной карикатуры на «другого». Как девочки, которые вешают табличку на лестнице, ведущей в домик на дереве («МАЛЬЧИКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!!!»), сообщества иногда строят стены, которые направлены на разграничение того, что является их частью и что нет. Когда девочки не пускают мальчиков, они цепляются за гендерную идентичность. Когда народы не пускают своих соседей, они включают чувство территориальной идентичности. Точно так же, когда люди цепляются за разделение индустриального века между домом и работой, они защищаются от предполагаемой угрозы их семейной идентичности.
Чтобы развивать эмпатию, людям нужно сильное чувство идентичности. И также нужно разумное понимание того, что есть «другое». Но постоянная непреднамеренная связь затрудняет и то и другое. Это грозит превращением каждого из нас в комок серо-коричневого пластилина – а все родители знают, что дети расстраиваются и перестают лепить фигурки, как только цвета становятся неразборчивыми. Они откладывают пластилин или используют только один цвет. Точно так же цифровой натиск различных голосов, идей, культур и образов затрудняет обретение людьми индивидуальности.
Мы не подготовлены к тому, чтобы сталкиваться с таким количеством вещей, которые выходят за пределы наших знакомых и священных систем знаний. Мы не научились справляться с потоком нефильтрованного воздействия. Следовательно, любой контакт может вызвать беспокойство и отчаяние – кризис неопределенности, который, в свою очередь, может привести к гневу и конфликтам. В ответ некоторые люди могут попытаться компенсировать это изоляционистскими и сепаратистскими настроениями. Мы этого не хотим, поэтому детям нужна наша помощь. Мы должны научить их использовать инструменты времени таким образом, чтобы выразить значимость чувства собственного «я» и чуткого подхода к другим.
Но помните, что эмпатия включает в себя нечто большее, чем просто контакт, тем более что цифровые технологии часто упрощают быстрые, но диссонирующие взаимодействия. Например, Skype. Еще до рассвета я захожу в свой аккаунт из Филадельфии. Делаю глоток из большой кружки утреннего кофе, оранжево-желтое восходящее солнце заглядывает в окно справа от моего стола. Я общаюсь в видеочате с другом из Сараево (в его часовом поясе +6 часов).
У него сейчас обеденное время, и он перекусывает питой. Не той лепешкой, которую мы с детьми любим макать в хумус, а вкусным пирогом, который еще часто называют «бурек». Информационные технологии соединили нас, но закодированные сигналы, посылаемые туда и обратно, не равнозначны пребыванию в одном и том же месте. Наша коммуникация осуществляется быстро и исправно, но аффективные стимулы, которые формируют наше настроение и восприятие – и обеспечивают основу для сопереживания, – остаются разобщенными. Я все еще прочищаю уголки глаз (то, что мои дети называют «сонными семенами» или «козюлями»), чувствуя себя несобранным, и говорю тихим голосом, чтобы никого не разбудить. Мой друг, однако, полон энергии. Он очень весело шутит. Его голос полон энтузиазма. Он даже зовет свою жену, которая находится где-то на втором этаже. Его громкая, быстрая и спонтанная харизматичность совершенно не синхронизируется с моей медленной, тихой сдержанностью. Может быть, нам легко преодолеть культурные диссонансы – я могу просто открыть Wikipedia, чтобы узнать о еде, которую он ест, – но отсутствие аффективной гармонии воспринимается сложнее.
Когда мы просто наслаждаемся разговором с друзьями, это не кажется чем-то значимым. На самом деле плюсы легко перевешивают минусы. Без Skype нам пришлось бы ждать, пока мы окажемся в одном городе и сможем поболтать. Или, я полагаю, мы могли бы старательно писать письма, но почтовая доставка занимает время. Более того, отсутствие временной одновременности – он не будет читать, пока я пишу, – делает еще более вероятным то, что наши индивидуальные переживания взаимодействия будут несогласованными. Отдельные ситуации контекста могут привести к тому, что один из нас расшифрует слова на странице неточно. Мы можем неправильно истолковать тон и намерение. Люди часто так делают.
На каком-то уровне любое общение всегда похоже на «испорченный телефон», игру, популярную у детей всего мира. Известно множество ее названий: «русский скандал», «китайский шепот», «сплетни», «передай сообщение», «шепот в переулке». Как бы она ни называлась, она демонстрирует, как мелкие недоразумения могут быстро перерасти в большие ошибки. Представьте себе игру с точки зрения макроперспективы – рассмотрите все образы, слова и истории, с которыми люди сейчас сталкиваются, интерпретируют их и передают другим. Во всем мире насчитывается более 4 миллиардов пользователей интернета, и каждый из них проводит в среднем шесть часов в день, используя устройства, которые позволяют осуществлять эту странно диссонирующую связь. Вещи могут быстро запутаться настолько, что легко представить, как Всемирная паутина лихо плетется хитрым и коварным пауком. Мы стали глобальным сообществом, но нам еще предстоит распутывать все потенциальные интеллектуальные, социальные и эмоциональные узлы.
Эмпатия включает в себя нечто большее, чем просто контакт, тем более что цифровые технологии часто упрощают быстрые, но диссонирующие взаимодействия.
Эта проблема становится еще более острой, когда речь идет о воспитании детей. Чтобы жить и процветать в этом новом мире – противостоять его уникальным фрикциям и приспосабливаться к ним, – современным детям нужно будет развить способность к новому виду эмпатии.
История эмпатии
Наши дети играют в самую сложную в мире версию «испорченного телефона». И им стоит знать, что слышать – не значит слушать, особенно если сплетничать с помощью гиперсвязанных цифровых инструментов.
Чтобы точно трансформировать услышанные данные в информацию и знания, они должны понимать условия быстро меняющегося геополитического климата. Чтобы найти продуктивные способы внести свой вклад в глобальную экономику, им нужно видеть себя в качестве управляющих взаимосвязанного международного сообщества. Новый контекст требует, чтобы они относились к разнообразию с пониманием, терпимостью и уважением. Но для этого им нужно закрепленное чувство уверенности в себе, чтобы справиться с мутной двойственностью постоянного контакта. Они должны знать, как поддерживать обособленные и индивидуализированные способы существования, одновременно применяя стандартизированные и единообразные средства связи. Они должны сохранять различные семейные и культурные системы ценностей, а также учитывать туманную и расплывчатую реальность цифрового мира. Речь идет о том, что нужно позволить очагу информировать агору. Это и есть основа нового вида эмпатии.
Эмпатия как концепт, с которым мы знакомы, – изобретение XX века. Слово имеет древнегреческие корни, но оно не употреблялось до 1909 года. Психолог Эдвард Титченер использовал его как перевод немецкого термина «Einfhlung», что означает «вчувствование». Сначала эмпатия описывалась в терминах «моторной мимикрии» – физической реакции на сенсорные стимулы других людей. Когда я съеживаюсь, потому что мой сын обдирает колено, или улыбаюсь, когда он рад впечатляющему достижению, – это как раз то, что философы описывали как моторную мимикрию. Я проецирую свои чувства на его опыт. Я наблюдаю за физическими сигналами, такими как выражение лица, а затем имитирую его внутреннее состояние.
Похожим образом в 1990-х годах нейробиологи, работающие с макаками, обнаружили, что идентичная мозговая активность может происходить в ответ на чьи-то физические действия. Теория заключается в том, что если я наблюдаю за тем, как кто-то ест хумус и питу, часть моих нейронных связей будет идентична синапсам того человека, даже если я сам ничего не ем. Зеркальные нейроны будут срабатывать как для испытуемых, так и для наблюдателей одновременно. Мне не нужно думать или целенаправленно пытаться это сделать, все происходит автоматически. Это явление не основано на моей интеллектуальной способности распознавать и размышлять о том, как мы похожи, поэтому оно называется «пререфлексивной мимикрией».
Сначала исследователи полагали, что зеркальные нейроны могут стать объяснением социальной эмпатии. Они предположили, что мы склонны к внутривидовому контакту, потому что зеркальные нейроны позволяют нам распознавать существенные сходства, которые делают всех людей одинаковыми. Но на данный момент это шаткое доказательство. Мы даже не уверены, что у людей зеркальные нейроны работают так же, как у макак. Нейровизуализация последовательно связывает поведение и реакции, которые обычно ассоциируются с эмпатией, с активностью определенных областей мозга. Тем не менее исследователи пока не нашли убедительных доказательств тому, что субъективное (от первого лица) переживание боли на самом деле активирует те же области человеческого мозга, что и объективный (от третьего лица) опыт ее наблюдения. Так что это доказательство вряд ли является убедительным.
Проблема скорее в том, что понятие эмпатии не может быть четко определено. Оно зависит от контекста. Социальные и культурные факторы определяют, какие виды поведения мы считаем эмпатическими. Наиболее распространенное понимание эмпатии продолжает черпать свою философскую основу из концепции «вчувствования» индустриальной эпохи, которая всегда была связана с преобладающими технологиями конца XIX и начала XX веков. Тогда ученые и натурфилософы были охвачены идеями Просвещения, возникшими примерно в 1500-х годах, когда Ньютон, Коперник, Галилей и Декарт ввели понятие «эмпиризма». Заимствуя слово из греческого («empeirikos»), что означает «опытный», они увидели целую вселенную, которая может быть описана как состоящая из дискретных единиц, взаимодействующих через наблюдаемые причинно-следственные связи: законы природы, которые действуют в эффективных линейных последовательностях, как зубцы в часовой башне.
Понятие эмпатии нельзя опредлить четко, поскольку оно всегда зависит от контекста.
Эмпиризм работает очень хорошо, когда мы описываем физические события. Гравитация, скорость и ускорение очевидны, когда мы наблюдаем за движущимися объектами. Но как насчет чувств? Любовь. Ярость. Сострадание. Восхищение. Желание. Что вызывает ощущения, которые сопровождают эти эмоциональные реакции?
Невозможно увидеть, как крутятся шестеренки в моей голове, и рассмотреть то неясное, теплое чувство, которое я испытываю, любуясь красотой восхода солнца или картиной в Музее Гуггенхайма. Не существует прямой линии, соединяющей солиста, исполняющего скрипичный концерт Сибелиуса, и мурашки, которые образуются у меня на затылке к концу второй части. Тем не менее эти ощущения так же реальны, как и боль, которую я испытываю, когда кто-то щипает меня за руку. Наш опыт нематериальных эстетических стимулов так же существенен, как и опыт физического ощущения или механического воздействия. Еще в 1905 году немецкий философ Теодор Липпс пытался объяснить, как эти эфемерные, или аффективные, ощущения могут вписываться в эмпирическую концепцию Вселенной. Поэтому он написал об «эмпатии». Он утверждал, что субъект всегда видит часть себя в объекте, который он воспринимает, и это приводит к своего рода внутренней, эмоциональной моторной мимикрии. Когда я стою в Музее Гуггенхайма, по теории Липпса, я могу оценить искусство, потому что я «вчувствовался» в объект и представляю, что опыт художника должен быть похож на мой собственный.
Наше нынешнее использование термина «эмпатия» все еще очень похоже на оригинал Липпса. Мы используем это слово, чтобы описать свою способность видеть, чувствовать или понимать, как вещи могут быть пережиты с точки зрения другого человека. И мы продолжаем искать эмпирические доказательства тому, что общая структура Липпса точна.
Мы также добавили предположение о том, что эмпатия всегда положительна, потому что она якобы автоматически вызывает сострадание и доброту, заботу о благополучии других людей. Это то, что психолог Дэниел Бэтсон называет сочувственно-альтруистической гипотезой. Но даже оно становится проблематичным, когда мы начинаем учитывать культурный контекст. Например, исследования показали, что люди, как правило, больше сочувствуют близким. Одно из них даже доказало, что поклонники бейсбольных команд Red Sox и Yankees чувствуют печаль, когда их бьющие вылетают из игры после трех страйков, но испытывают удовольствие в ответ на неудачи своих соперников. Обе реакции являются эмпатическими. Одна сострадательная, другая агрессивная.
Тем не менее идея о том, что эмпатия по своей сути положительна, поддерживается многими социальными теориями. Например, Джереми Рифкин описывает ее как движущую силу человеческой цивилизации. «Эмпатическое развитие и развитие самости идут рука об руку, – пишет он, – и сопровождают все более сложные, энергозатратные социальные структуры, составляющие жизненное путешествие человека». Рифкин рассматривает товарищество, а не конкуренцию и выживание как основной мотивирующий фактор социального прогресса, экономического развития и технологических инноваций. Примерно так: раз я могу представить, как вы страдаете, я склонен делать все возможное, чтобы это минимизировать. Поэтому я сделаю вклад в сообщество, потому что признаю, что совместные проекты могут устранить боль, которую я смог представить. Рифкин даже доводит этот тезис до крайности Эпохи Водолея[23], предсказывая, что технологии современного мира в конечном итоге приведут к созданию новой формы эмпатического сознания, которая поднимет видовую солидарность выше национального, этнического или регионального деления.
Но не говорите об этом философу XX века Мартину Буберу, известному религиозному мыслителю, политическому деятелю и просветителю. Он прославился своей книгой «Я и ты», написанной в 1923 году. Несмотря на то что его работа восхваляла нежные, полные сострадания человеческие взаимоотношения и взаимодействия как основу осмысленного существования, он сопротивлялся самой идее сопереживания. Почему? Потому что для него концепция все еще сохраняла слишком много своего первоначального моторно-мимикрического значения, даже на более поздних этапах. «Эмпатия – это поглощение чистым эстетизмом», – писал он, имея в виду, что все дело в ощущении, в восприятии вещей глазами другого человека. «Сопереживание, в случае возникновения, означает скатывание собственных ощущений в динамическую структуру объекта», – пояснял Бубер. С его точки зрения, это не настоящая межличностная связь, потому что в эмпатии мы игнорируем себя, чтобы принять точку зрения другого. «Это означает исключение собственной конкретности», – считал философ.
Его мысли – поэтичная метафора всему, что я рассказал о проблеме пластилина. Когда мы пытаемся смотреть на мир чужими глазами, то оказываемся в ситуации, вызывающей тревогу. Мы интуитивно осознаем, что совершенная форма эмпатии – превозносимая как вдохновенный идеал – требует полного отказа от собственной идентичности, игнорирования личного опыта, постановки на паузу жизни, полной воспоминаний. Другими словами, эмпатия на мгновение ослабляет наше самоощущение, поэтому по своей сути она кажется дестабилизирующим качеством.
Подумайте о том, как часто это беспокойство проявляется в цифровом мире. Мы сталкиваемся с доступом ко многим различным перспективам. Нам постоянно подкидывают ситуации для сопереживания. В течение всего дня присутствует моральное и этическое давление, побуждающее отказаться от себя и прочувствовать опыт других. Но по сути это означает, что мы также проводим много времени, будучи похожими на коричневато-серые комки пластилина – полные чувства неудовлетворенности и неопределенного самоощущения. Что еще хуже, мы начинаем страдать от вины и стыда, потому что купились на концепцию эмпатии как альтруизма индустриальной эпохи, которая не соответствует нашей нынешней технологической реальности. «Вчувствование» добавляет личных страданий, но при этом не уменьшает объем коллективных.
Следовательно, нам нужно переосмыслить эмпатию в контексте цифрового мира.
О гостеприимстве