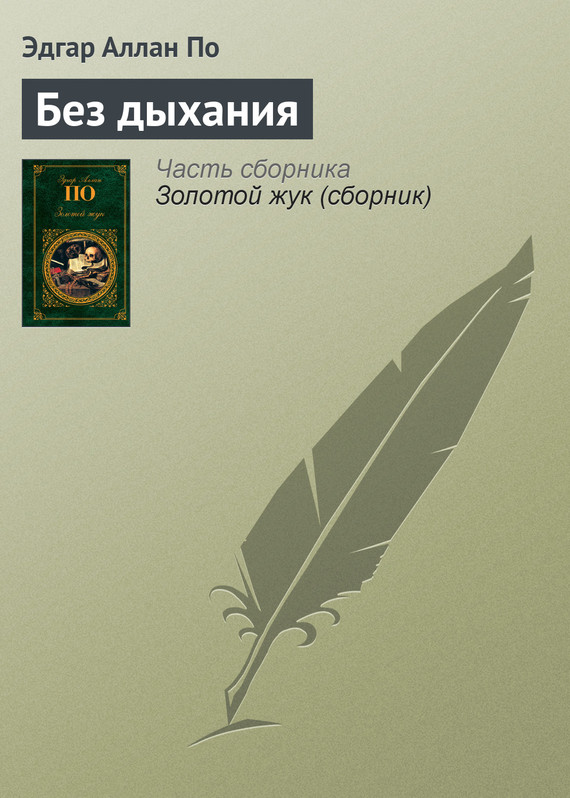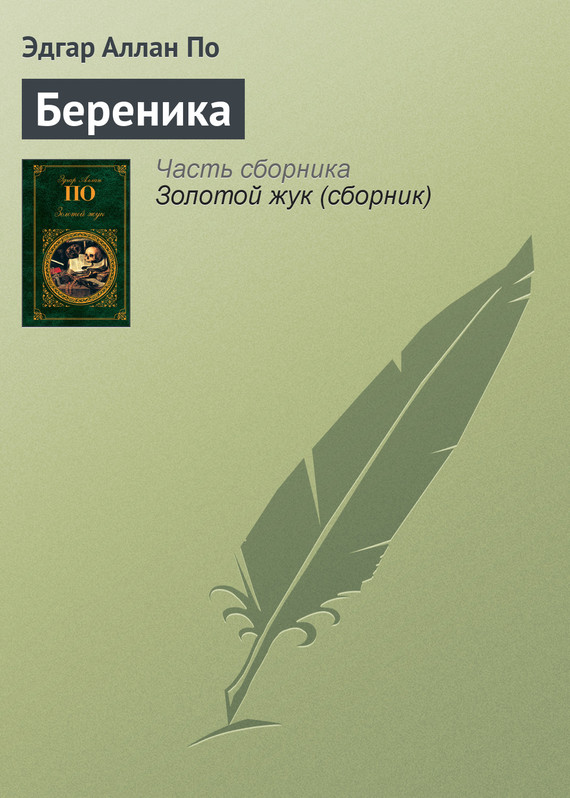Любитель сладких девочек Романова Галина

Глава 1
– Машка! Ты попала! Ты хоть понимаешь, в какую конкретно ситуацию ты попала? Ее даже дерьмовой назвать нельзя!
Глаза напарницы светились возбуждением, предвкушением и еще бог знает чем. Но определенно чем-то таким, что необыкновенно ее радовало. Надо полагать, что как раз эта самая ситуация, которую даже «дерьмовой» она назвать остерегалась.
Нина – так звали напарницу – громко звякала ложкой о дно тарелки, хлебая столовский борщ. Спецовочная выцветшая куртка, хлопчатобумажные штаны в пятнах, серый платок на плечах, который она сдернула с головы, резиновые сапоги до колена. Серые тонкие прядки волос до плеч, заправленные за уши. Темно-синие глаза с жирной полосой подводки по верхним векам. Узкие губы, выкрашенные неимоверно яркой помадой. Впалые щеки со скорбными складками в углах рта и недвусмысленно намекающее на возраст, сильно размытое очертание линии подбородка. Распухшие от работы пальцы с розовыми крепкими ногтями. И… и удивительное выражение лица, роднящее их всех, находящихся сейчас в этом зале. Усталость, обреченность, настороженность. Именно так они все смотрели друг на друга. Как волки в стае волков. Готовые разорвать в клочья любого уготованного им судьбой на роль жертвы на их волчьей тропе.
Сейчас в роли жертвы, по-видимому, выступала Мария.
Покрутив головой по сторонам, она окончательно утвердилась в этой мысли. Косые, пристальные, вороватые – все взгляды неизменно пересекались в той точке, где она сидела. Народ замер в ожидании. И она – Машка – просто не имела права обмануть их ожидание. Такое здесь не прощалось. Впрочем, как не прощалось и то, что она десять минут назад посмела сотворить…
– Убери руки! – потребовала она высокомерно, даже не поворачивая головы на того, кто облапил ее сзади и крепко прижал к себе. – Я внятно выражаюсь?!
Толпа, вмиг окружившая их, затаила дыхание.
– А то что? – глумливо прогундосил ей в ухо самый отвратительный из всех голосов на свете.
Мужские руки с ее талии поползли вверх, подбираясь все ближе к груди.
Лишь на одно мгновение она позволила страху выползти изнутри. Лишь на одно крохотное мгновение. Но и тут же погасила его. Он выполз, но не стал достоянием этого вожделенного внимания.
Почему ей удалось справиться с этим так быстро? Да потому что всю свою жизнь ей приходилось душить его в себе. Прятать меж ресниц, зарываясь лицом в мягкие лапки плюшевых игрушек. Меж страниц учебников, меж своих девичьих грез, когда мать ей обещала… Ах да! Она ведь ей обещала! Кто мог подумать, что будет по-другому?! Да кто угодно! Только не она. Она всегда знала, что будет дальше. С тех самых пор, как осознала вкус собственного имени. Это только дураку не дано было понять, что оно в себе несет. Она-то была умной. Она-то никогда не была дурой – Сидорова Мария Ивановна…
У кого хватит ума назвать свое дитя Марией, когда ее фамилия Сидорова, а отчество Ивановна?! Был бы мальчик, мать бы непременно назвала его Иваном, а коли родилась девка, то Машка! Кто же еще? Сидорова Марь Иванна… Стоит ли жить с таким именем? Пожалуй, что стоит. Стоит ли пытаться быть счастливой? Вряд ли… Мать всегда думала иначе. Потому и назвала ее Машкой. Назвала, не задумываясь: как ей будет, каково, с кем ей будет это каково? Она никогда и ни о чем не задумывалась. Машке пришлось…
Маша поставила поднос, на котором гнездились тарелки с бултыхающимся борщом с нагло вылезающими наружу изуверски наструганными кусками капусты и свеклы, с сизым картофельным пюре и жуткого вида котлетой, вкус которой был ей так ненавистен. Вкус чеснока, муската и чего-то еще жутко пряного, но уж никак не мяса. Она все это поставила на свободный от зрительского присутствия стол. Толпа испуганно колыхнулась серой безликой массой и отпрянула. Даже руки, мнущие ей грудь, обмякли.
И она неторопливо повернулась к нему.
Если существовал демон в обличье человека, то он был выдворен небесными силами именно в этот забытый всеми рабочий поселок. Этот человек с изрытым оспинами лицом, черными горящими глазами и узкой полоской рта был олицетворением всех сил зла. Все темное, порочное и гнусное нашло себе воплощение в нем одном. Этот изувер стоял прямо перед ней и глумливо ухмылялся в ожидании развязки. Она – эта развязка – была предначертана. Она была обязана произойти в этом месте при подобных обстоятельствах, но… Но все пошло не так. Черт возьми! Не имела права девка с таким тривиальным именем так вести себя! Но она, дрянь, скомкала все представления о порядке, устоях и уставе этого мелкого местечкового сообщества.
Она его ударила!
Да!
Поставила красный пластиковый поднос, сальный от долгого и безалаберного употребления на освободившийся стол. Повернулась лицом к нему и смачно, наотмашь ударила его по щеке.
В этот момент на рабочую столовую опустилась такая тишина, что Маше показалось вдруг, что она оглохла. От собственной смелости, шибанувшей в голову, неоправданной дерзости. Куда в этот момент подевался ее страх – ее вечный ангел-хранитель, не раз помогавший ей и спасающий от беды?! Она посмела преступить запретную черту, преступать которую не было дозволено никому. Этот страшный человек был здесь неформальным лидером, некоронованным королем, авторитетом, «живущим по понятиям». Плевать ему было на то, что его «понятия» шли вразрез с общепринятыми: он так решил и сказал – значит, так оно и должно быть. А Машка посмела бросить ему вызов. Посмела не подчиниться. Это был конец для нее…
Он не ударил ее в ответ. Даже не замахнулся. Покривил тонкогубый рот в гадкой многообещающей ухмылке. Потом сунул подбородок в сильно растянутый ворот серого свитера. Буркнул что-то наподобие «ну все, сука, тебе конец» и тут же растворился в спецовочной массе окруживших их любопытных. Маша взяла со стола свой поднос с тарелками и, пройдя по мгновенно образовавшемуся живому коридору, села на свое обычное место у окна. Понемногу все рассредоточились за соседними столами. Нинка серой мышкой скользнула на свой стул напротив Маши и тут же зашипела на нее полуозабоченно-полуобрадованно.
– Федька тебе этого ни в жисть не простит! – пообещала она Маше с набитым ртом. – Он ведь тут почти всех красоток через себя пропустил. Тебя вон и так долго не трогал. Сколько ты здесь уже?
– Три месяца. – Маша бултыхала ложкой в тарелке с борщом, все никак не решаясь подцепить кусок капусты, скрипучий даже на вид.
– Во-о-о! – Нинка попыталась присвистнуть с набитым ртом, но лишь расплевала по столу крошки картофельного пюре. – А все в целках ходишь! Здесь так не принято!
– А как здесь принято?
Черпнув ложку бурой жижи, Мария все же отправила ее в рот. Борщ оказался вполне сносным, и она пошустрее заработала ложкой, боясь, что не успеет за Нинкой и останется в столовой одна под огнем перекрестных взглядов.
– Здесь-то?.. – Нинка подскребла остатки с тарелки коркой хлеба и с удовольствием ее разжевала. – А здесь ведь как карта ляжет. Приглянулась ты кому, все – твоя песенка спета. Будешь жить с ним, пока ему не надоешь. Потом он может тебя завещать кому-нибудь, когда лыжи навострит на Большую землю.
– Так уж прямо…
– Ну, может, и не совсем так, но в основном так и случается. И слава богу, что так. А то нашлет господь такую напасть, как вот на тебя… Чего пялишься? Теперь тебя Федька застолбил, а это хуже смерти. Мало того, он себе право первой ночи присвоит, так потом определит тебя к какому-нибудь уроду, и будешь влачить здесь дни без радости.
– Нин, ты чего это такое говоришь, не пойму?! – Маша оторопело хлопала глазами, не желая верить в этот бред. – Что за средневековые штучки?! Право первой ночи! Плевать мне на этого придурка! Раз схлопотал по физиономии, еще раз схлопочет. И пошли уже. Обеденный перерыв кончается.
Она с грохотом отодвинула стул; натянула на голову такой же, как и у Нинки, серый платок и, аккуратно стянув его концы у себя на затылке, забормотала:
– Право первой ночи, елки-палки! Придумают же такое?! Тут ментов на каждого из нас по пять человек, а она – право первой ночи! Видали?! Может, я и перегнула палку с этой пощечиной, но никто не давал ему права лапать меня при всех.
Нинка лишь пожала плечами и пошла следом за ней, на ходу продолжая все так же пожимать плечами, когда натыкалась на чей-нибудь вопрошающий взгляд. Они вышли из жаркого нутра столовой на улицу, и тут же в лицо им швырнуло сухой снежной крупкой.
– Холодно…
Маша поежилась и плотнее запахнула на груди телогрейку, которая документально значилась как хлопчатобумажная куртка на утепленной основе. Основа была так себе – хиленькая, дрябленькая. Пока они шли до цеха готовой продукции, где они с Нинкой на пару упаковывали копченого палтуса по коробкам – все тепло рабочей столовой из них было вытравлено нахальными порывами студеного северного ветра. Он деловито заползал под короткие полы телогрейки, рвал с головы платок, засыпал им пригоршни снега в широкие рукава и буквально примораживал подошвы резиновых сапог к ледяной земле.
Маша холод ненавидела.
Нинка, напрягшись изо всех сил, потянула на себя тяжеленную железную торцевую дверь их цеха, и они быстренько юркнули в образовавшуюся щель. Тут же их окутал густой, как клейстер, духмяный запах коптящейся рыбы. Им тут было пропитано все: большие коробки толстого картона, фартуки, в которых они работали, столешницы, на которых они ворочали жирные рыбьи тушки, стулья, куда в редкие часы отдыха они падали без сил, двери, за которыми открывался вид на снежную равнину с выстроенными почти в шахматном порядке бараками. Маше казалось, что даже куски туалетного мыла в душевой насквозь пропитаны этим запахом. Его она ненавидела тоже. Как возненавидела рыбу, аппетитные кусочки которой по первости все норовила сунуть себе в рот.
Все ей здесь было ненавистно. Вечная стужа, слепящая глаза бескрайней снежной равниной без единого намека на растительность. Дикие, неуправляемые ветры, поднимающие с помоек горы мусора и швыряющие в лицо прохожим пустые сигаретные пачки и рваные полиэтиленовые пакеты. Скупое солнце, которое никак не хотело согреть ее, а все норовило завалиться в пухлые барханы темных облаков и уснуть там вечным сном. Серые, неструганые доски бараков, которые тут горделиво именовались общежитиями. Нет, это были именно бараки. Такие она видела в кино про фашистов. Они туда сгоняли пленных, там их гноили в вечном голоде и болезнях, а потом сжигали в печах крематория… Ей были ненавистны дощатые строения общего пользования, претензионными скворечниками торчащие в торцах бараков. Вечные тазики под умывальниками и постирушки в них. Но более всего этого ей были неприятны люди, с которыми ей пришлось здесь столкнуться.
Господи! Разве могла она подумать что-нибудь подобное?! Разве именно этого она ждала от судьбы?! А все мать! Она ей обещала светлое место под солнцем, заставляя беспрекословно слушаться и всегда и во всем понукая ею.
Заставляла ходить к репетитору и заниматься английским, хотя Маша боялась этого слащавого вертлявого старикашку, норовившего усадить ее к себе на колени и ущипнуть за тощий девчоночий зад.
Заставляла ходить в музыкальную школу и часами тренькать на пианино. А Маша потом плакала ночью, потирая ноющие от напряжения пальцы.
Заставляла иметь в друзьях только умных и нужных, не желая принимать к сведению тот факт, что Машка стыдится своего поношенного платья и прошлогодних босоножек с подбитой подошвой. Что замирает от страха, когда со стола на пол из ее рук выпадает вилка с нацепленным на нее куском мяса в жирной подливке.
Матери было плевать на ее страх, смущение и слезы стыда. Она перла буром, стуча себя кулаком в грудь и убеждая дочь в том, что она обязательно сделает ее судьбу сказочной.
Сделала…
Нет, поначалу все казалось и вправду сказочным. И экзамены вступительные в институт Маша выдержала блестяще. И училась успешно, не забывая быть вежливой и приветливой с перспективными молодыми людьми, которых мать всеми правдами и неправдами заманивала к ним в дом. Она даже тренькала им на пианино под их восторженные аплодисменты какие-то сюитки. И позволяла себя провожать, при этом не позволяя ничего лишнего. Потом была благополучная защита диплома. Прекрасное место работы с повышением зарплаты каждые три месяца. На горизонте обозначился вполне конкретный перспективный претендент на ее руку и сердце, и вот тут-то мать дала маху…
То ли сыграл с ней злую шутку печальный опыт собственного замужества. То ли какой-то злой рок решил посмеяться надо всеми ее жизненными потугами по устройству дочериного счастья. То ли просто ума не хватило разглядеть в «перспективном и благонадежном» отъявленного мерзавца. Но на сей раз мать облажалась. Она сама провозгласила ей об этом, самым странным образом присовокупив к своему имени еще и ее, Машкино. С какой стати? Да все с той, что взваливать свою собственную вину на одни свои плечи было ей очень обременительно.
– Дочь, мы облажались, – объявила она, выпуская тонкую струйку сигаретного дыма в Машкину сторону. – Мы с тобой наделали кучу ошибок. Тебе надобно срочно уехать. Как можно быстрее и как можно дальше. Здесь тебе оставаться нельзя.
Она снова наплевала на ее чувства, на то, что Машке страшно. Что она уже неделю не может подняться с дивана и заставить себя сделать хоть что-нибудь. Мать исчезла на два дня и две ночи, а потом ворвалась в квартиру, потрясая в воздухе какой-то бумагой и воодушевленно гикая что-то о том, что победа будет за ними, а все виновные все равно будут наказаны.
– Это то, что тебе нужно! – уже совершенно спокойным голосом увещевала она трясущуюся в лихорадке Марию, а сама потихоньку складывала в чемоданы ее колготки, свитера, джинсы и лифчики. – Это так далеко! Тебя там никто и никогда не достанет! Ни одна гадина не посмеет сделать тебе там плохо… Тебе нужно будет это платье? Вряд ли, Маш. Мне в нем так здорово, и эти туфли… Пожалуй, их надо оставить. Там, говорят, немного прохладно…
Там, куда спровадила ее мать, не было прохладно. Там было жутко холодно, пусто, сиро и убого. Только потом ей стало понятно значение косых взглядов в головном управлении их рыбпромхренхоза, куда она сдавала свою трудовую книжку. Только потом она поняла, почему кадровичка, доверительно склонившись к ее уху, уговаривала ее почти по-родственному:
– Вам нужно крепиться, дорогая. У каждого в жизни случаются черные полосы, это нужно постараться пережить.
Те люди, в окружение которых попала Марь Иванна Сидорова, сами по себе уже были черными полосами. Олицетворением самых что ни на есть черных жизненных зон. Воры, непредумышленные убийцы, злостные хулиганы, карточные шулеры и прочая шушера, как называла их всех Нинка.
Поселенцы…
Сюда старательно спроваживали так называемых выселенных на сто первый километр либо условно освобожденных под надзор и ждущих окончательного помилования в честь какой-нибудь очередной круглой даты. Потом амнистированные уезжали, им на смену приезжали другие. И так шло из года в год.
Правда, за все время своего существования поселок успел обрасти и честным людом. Кто приезжал на заработки, поскольку консервный заводик процветал и средняя зарплата здесь давно обскакала средний прожиточный минимум их региона. Кто – как вот ее напарница Нинка – приехал сюда в поисках счастья, то бишь по переписке. Написал ей какой-то «жутко одинокий и несправедливо осужденный», она и хвост распушила. Продала квартиру в Москве. Приехала, устроилась на работу. Зажили с «несправедливо осужденным» одной семьей. Но счастья у них не вышло. Он уехал, а Нинка с чего-то вдруг осталась. Да, собственно, ей и ехать было особенно некуда. Деньги, вырученные от продажи квартиры, ей помог прожить ее «жутко одинокий» избранник. Родственники ее не ждали. Вот она и осела здесь – почти на краю земли, зарабатывала деньги и никуда уезжать пока не собиралась.
Кстати, таких, как Нинка, здесь было предостаточно. Держались они все больше по парам. Многие, которым особенно повезло, переселились жить «за кордон» в бамовские вагончики, которые по сходной цене им сбагривало рыбпромхренхозовское руководство. Кордоном здесь называли дальний угол поселка, где четыре ряда бамовских вагончиков, похожих на огромный конфетный батончик, организованно именовались Стрелецкими переулками под номером один, два, три и четыре – соответственно.
У них там был свой собственный магазинчик, куда вход «выселенным» строго был заказан. Свое почтовое отделение. Свой фельдшерский пункт. Общей у них была лишь столовая.
А вообще, там все было свое. Свои порядки, свои устои, и даже мужчин и женщин здесь делили между собой по своим собственным законам. Холостяки если и не особенно приветствовались, то и не преследовались волчьей стаей с таким остервенением. Не то что в их закордонном барачном захолустье. Здесь каждой твари должно было быть по паре. Иначе человек превращался в изгоя, как вот она…
– А чего ты хотела?! – вытаращила на нее глаза Нинка, когда они сдали смену и, еле волоча ноги, двинулись в душевую. – Ты вообще куда приехала-то?! Тут прынцев нету и быть не может! Я и сама уже третьего мужика переживаю. Думаешь, мне так уж хочется, что ли?! А что делать?! Да и деньги нужны. Еще немного скоплю и за «кордон» переселюсь. А в нашем гадюшнике по-другому нельзя. Здесь не принято по-другому. А ты уже три месяца в холостых. Удивляюсь, как это ты до сих пор одна? А Федька – он зверь. Не знаю, Машка, как ты сегодня ночь переживешь… Угораздило же тебя отделиться от других!
– Не могу я трусами трясти у посторонних людей перед носом, понятно? – огрызнулась до сего молчаливо ступавшая по ее следам Маша и принялась с гримасой отвращения стягивать с себя прокопченную спецуху. – Пусть уж лучше такой закуток – два на два с половиной, зато с отдельным входом и своим собственным окном…
– Во-во! Будет тебе отдельный вход, уж поверь! Эта тварь тебе устроит еще не одну «варфоломеевскую» ночь. Тебе бы за «кордон», там почти безопасно. А тут…
– А милиция? – вяло поинтересовалась Маша, переступая на цыпочках по холодному бетонному полу к единственной лейке в их душевой. – Может, у них попросить помощи?
– Совсем больная. – Нинка села на скамейку, где холмиком высились их рабочие тряпки. – Они сами в очередь к тебе выстроятся. К тому же Федька… У него здесь все куплено. Уж за что он здесь – не знаю, но что блатной – это точно. Это тебе о чем-то говорит?
Маша слушала ее вполуха. Горячие струи воды, бившие косо из давно забившейся проржавевшей лейки, стекали по закостеневшему от нудной работы позвоночнику и исчезали в осклизлом стоке. Серо и убого… Гадко и противно…
В их квартире была огромная чугунная ванна с литыми золочеными ручками, медными сверкающими кранами и веселой мощной струей воды, взбивающей душистые пенки и масла в густую крепкую пену. Маленьким ребенком Маша держалась за ручки, боясь нырнуть с головой. Будучи взрослой, ухватывалась за них, чтобы рывком выпростать свое сильное тело из воды. Потом обычно сдергивала с крючка огромное мохнатое полотенце, обматывалась им и, оставляя на полу следы мокрых ног, шла к себе в комнату. Там она насухо вытиралась и облачалась либо в пижаму, либо в домашний шелковый костюм, на котором всегда настаивала мать.
– Женщина не должна выглядеть кухаркой ни при каких обстоятельствах! – увещевала она дочь, застав ту дома в халате либо в футболке и стареньких джинсах. – Ты всегда должна чувствовать себя женщиной! Всегда! Даже в поле!
Что бы она сказала сейчас, увидев свою дочь на сером дощатом полу в убогой душевой консервного заводика? Ужаснулась бы, упала бы в обморок, узнав, в окружении какой шушеры живет она? Или отреагировала как-то еще?..
Этот вопрос мучил Машу все три месяца, которые она здесь провела.
Знала ли мать об участи, которая ждала ее дочь в этом дальнем уголке нашей необъятной родины? И если знала, то как могла ввергнуть в пучину такого ужаса?
– Хорош баландаться! – Нинка звучно шлепнула ее сильной ладонью по голому боку и тут же вытеснила из-под редких спасительных струй воды. – Обсыхай пока, теперь моя очередь.
Нинка мылась всегда суетно, суматошно. То и дело роняла скользкий кусок мыла и долго его поймать потом не могла. Наскоро мылилась, наскоро ополаскивалась, кое-как вытиралась и поспешно втискивала себя в чистую одежду, которую они оставляли на пластиковых крючках в предбаннике.
– Голову будем сушить? – озадачилась напарница, обнаружив сломанную сушилку. – Или так пойдем?
Маша не отреагировала, скрутив волосы жгутом и пряча их под толстой шерстяной шапочкой. Провести здесь лишние несколько минут – в душном, прокоптившемся пару душевой – было выше ее сил. У нее всего лишь по три часа в день, не считая выходного, перед тем как в общагах отрубали свет. И эти три часа всегда были ее личным и неприкосновенным временем. Временем уединения, отдыха и блаженного покоя перед телевизором – крохотным черно-белым «Рекордом». Маша приобрела его по случаю в областном центре в тот день, когда оформлялась в головном управлении. Купила в комиссионке по такой смешной цене, что надежды на то, что телевизор находится в рабочем состоянии, у нее практически не было никакой. Но телик показывал. Как только она водрузила его на казенную тумбочку в крохотном закутке, выделенном ей в «порядке исключительного исключения», нажала «патриархальный» тумблер, он сразу же забубнил, выдавая ей программу за программой. Тогда она, как наивная чукотская девушка, вдруг поверила в то, что у нее все здесь получится. Что она привыкнет и втянется. Но… не слюбилось и не срослось. Через три месяца ее пребывания в этом затерявшемся среди снегов поселке кривая ее радужной эмоциональной эйфории резко поползла вниз.
Единственной радостью в жизни оставались эти вот три часа после рабочей смены.
Она шла с Нинкой с работы. Заходила, как привязанная, следом за ней в магазин. Скупала все, что можно было скупить: от засахарившегося варенья и черствых перемерзших кренделей до глянцевых красивых журналов и оригинальных фарфоровых пепельниц. Она выстраивала их строем на подоконнике, который выстлала мягким блескучим мехом какого-то животного. Его ей втиснул «за бутылку» местный поселенец, убедив, что сей мех когда-то носил самый настоящий соболь. Ему Маша верила мало, зная, что местный контингент нередко грешит против правды. Но мех на подоконнике со стройным рядом фарфоровых пепельниц смотрелся великолепно. К тому же закрывал собой нижнюю часть рамы, из щелей которой садил такой ветер, что к утру стекло со стороны комнаты покрывалось густым шершавым инеем. И хотя она его завесила бамбуковой вьетнамской шторкой, это мало спасало от холода.
Тумбочку и узкую пружинную кровать, визгливо выражавшую протест при каждом ее вторжении, Маша также застелила меховыми шкурками, которые самоотверженно сшивала в аккуратные квадраты в единственный выходной день в неделю. Получилось красиво и почти уютно. Войдя во вкус, благоустраивая свою крохотульку комнатку, она увешала стены глянцевыми картинками из купленных журналов, втиснув их в пластиковые рамки, застелила некрашеный дощатый пол толстым ковром, который, вняв ее просьбам, приобрела ей одна «закордонная» барышня в своем магазине. И маленький дощатый пенал, коим сначала ей показался выделенный угол, превратился в миленькую обжитую комнатку.
– Ничего себе! – завистливо выдохнула через нос Нинка, как-то напросившись к ней в гости. – А то у меня… Что ни куплю, все пропивают. Сейчас я уже поумнела, стала просто деньги копить. А жить приходится, как на вокзале, хотя комната больше твоей раза в четыре. Какая ты…
– Какая? – Маша гремела в тумбочке пластиковыми кружками, собираясь угостить Нинку чаем.
– Не такая, как все. Странно, что ты вообще здесь оказалась… Тут ведь у нас либо за длинным рублем, либо с длинным хлыстом, либо со сроком. Ты не за деньгами, это точно.
– С чего ты так решила? – осторожно поинтересовалась Маша, выдвинула на середину комнатушки две табуретки и, накрыв их льняной салфеткой, устроила подобие стола.
– Так покупаешь всякую лабуду! Чего же тут непонятного? Те, кто за деньгами сюда едет, те денежки куркулят. На журнальчики и пятилетнее варенье ни рубля не потратят. А ты то циновки какие-то на окна вешаешь, то все пластмассовые рамки с пепельницами в магазине скупаешь. Благо бы курила, а то ведь от дыма тебя воротит!
– Так ведь красиво, сама сказала, – попробовала выразить протест Маша, накладывая это самое варенье горкой в пластиковую розеточку. – Чего же жить, как в хлеву?
– Тю-ю-ю, – присвистнула Нинка, жадно ощупывая глазами каждый сантиметр Машиного жилища. – Как бы это да на всю жизнь. А то ведь при первом удобном случае сорвешься отсюда. Только он предоставится – случай-то – так и упорхнешь. И чего ты сюда приперлась вообще, не пойму?..
С тех пор этим вопросом она терзала Машу постоянно, при каждом удобном и неудобном случае: в обеденный перерыв и минуты перекура, когда Нинка завешивалась от нее плотной пеленой вонючего едкого дыма. В душевой и магазине, по дороге с работы и обратно. Вопрос всегда звучал грубо и никогда не вуалировался никакими предлогами. Идет-идет, да вдруг как брякнет:
– Чего ты вообще сюда, Машка, приперлась, не пойму? Не убогая и не хромая, не нищая и не в отсидке, чего же тогда влачишь свои дни среди этой шушеры? Приключений захотелось? Подожди, тебе их тут устроят, только наливай…
Поначалу Маша шарахалась при подобных проявлениях Нинкиного «народного» любопытства, потом привыкла. Научилась не обращать внимания. Но сегодня все с самого утра пошло не так. То ее письмо, адресованное матери, обнаружилось на пороге ее комнаты со штемпелем «адресат не проживает». То дикая сцена в столовой. Потом наскоки сменного мастера, забраковавшего целую партию упаковочного материала и с чего-то наоравшего именно на них, словно это они с Нинкой целый день сидели и мяли задницами этот плотный гофрированный картон, превратив его в непригодную ни для чего тару. И тут еще снова Нинка со своим любопытством…
Они вышли из душевой и двинулись длинной кишкой коридора, окаймляющего коптильный цех и цех готовой продукции. Пробираться приходилось в полутьме, по пути натыкаясь на блоки упаковки и всякий хлам, сгружаемый в контейнеры, которые почти всегда стояли переполненными. Маша шла впереди, отчаянно тараща глаза и старательно огибая каждый опасный участок. Нинка сзади что-то бубнила ей в спину, то и дело чертыхалась, проглядев то или иное препятствие и поддевая его своими ботинками.
Уродливые тени жались к стенам, тонущим в полумраке, и каждая из них отчего-то сегодня казалась Маше зловещей. Что-то надрывно саднило сегодня в ее душе. И на предчувствие это было совсем не похоже, а вот поди же ты, ноет и все… Какой-то сгусток темноты впереди вдруг заметался и тут же замер. Показалось?.. Показалось или нет?
Маша остановилась и, пропустив мимо ушей возмущенный вопль Нинки, уткнувшейся ей в спину, изо всех сил напрягла зрение.
До выхода оставалось метра четыре, не больше. Контейнеров там более быть не должно. Зато стоял огромный железный шкаф со слесарными инструментами. Он высился бесформенной громадиной, заполонившей почти весь проход, и всякий раз им приходилось его огибать, соблюдая меры предосторожности. И что это сегодня ей вдруг вздумалось увидеть, что рядом с темным монолитом этой железяки что-то или кто-то шевелится?.. Нервы… Точно нервы! Нинка настращала жутковатыми прогнозами про Федькину месть, вот и мерещится непонятно что.
– Ты чего остановилась-то? – взвизгнула напарница, больно саданув ей меж лопаток острым кулаком. – У меня волосы мокрые совсем! Просквозит – и заболею! За мной ухаживать некому! И хаты такой у меня нет, как у тебя, с мехами да портретами! Давай шевелись уже, Машка!
Маша двинулась было вперед, но снова замерла. Нет, что хотите, но там кто-то был. Темный силуэт рядом со слесарным шкафом шевелился и раздваивался, то увеличиваясь в размерах, то снова сжимаясь. Кто-то определенно там прятался. Почему прятался? Да потому что в противном случае давно бы уже окликнул их. В смене каждая собака друг друга знала наперечет. А здесь тишина, если не считать, конечно же, Нинкиного недовольного брюзжания за спиной.
– Ты долго каланчой будешь торчать, у меня уже вся жопа в мурашках! – заорала вдруг та громко и, словно разбуженный ее воплем, сгусток тени у шкафа снова заворочался. – Иди быстро! Господи, зачем ты вообще свалилась на мою голову?! И так чудо чудом, а теперь и с Федькой в контрах! Со мной из-за тебя скоро ни один порядочный человек здороваться не будет.
– Порядочный? – Последние Нинкины слова отвлекли ее от напряженного вглядывания в темноту коридора, и Маша невольно рассмеялась. – Где же это ты здесь встречала порядочных? Я за три месяца ни об одного не споткнулась. Одна шушера кругом…
– Шушера? – зашлась Нинка в праведном гневе, совершенно забыв, что данное определение впервые исторгли ее уста, и совсем не подозревая, что до знакомства с ней Маша с таким определением не сталкивалась. – Мы – шушера? А кто ты такая? Кто, спрашиваю? Приехала тут! От кого бежала и куда? Что совершила такого, что залетела на самый край земли? Может, ты воровка? Может, убийца?..
– Так говорят… – тихо обронила Маша, не спуская глаз с темного жерла коридора.
– Что говорят? – Нинка неожиданно икнула, то ли от холода, то ли от страха, и громко скребыхнула подошвами зимних ботинок об пол.
– Говорят, что я убийца, – как можно громче проговорила Маша, заметив, как от шкафа отделяется вполне различимый теперь силуэт и медленно удаляется в противоположную от них сторону.
Было очень тихо. Нинка потрясенно сопела за спиной, переваривая услышанное и не зная, что теперь делать с долгожданным для нее Машкиным признанием. А человек – это, несомненно, был человек, в привидения Маша никогда не верила, даже в детстве – почти незримым призраком уплывал в сторону выхода. Вот сейчас он откроет входную дверь, впустив в помещение верткие языки начинающейся метели, и потом исчезнет. И они никогда не узнают, кто ждал их возвращения из душевой и с какой целью…
– Эй! – неожиданно для самой себя крикнула в темноту Маша. – Стой!
– Чего орешь? – Нинка снова икнула и тут же с вполне объяснимой живостью, подталкиваемая вполне объяснимым любопытством, спросила: – И кого же ты убила?
Силуэт замер. Почти достиг тяжеленной входной двери, четко обозначился на ее фоне и неожиданно замер. Что его остановило? Тривиальное любопытство или нежелание выходить на холод?
– Я?.. Говорят, что я убила своего мужа, – смакуя злорадство, произнесла Маша и удовлетворенно улыбнулась про себя, заметив, как в изумлении дернулся человеческий абрис на импровизированном дверном экране.
– Во как! – квакнула Нинка и, кажется, попятилась. – А ты и правда его убила?
Дождавшись момента, когда фантом вольного или невольного слушателя повернет в их сторону голову, Маша с облегчением проговорила:
– Нет! Я его не убивала…
Глава 2
Все зло от баб! Всегда и все! Он готов кинуть камень в любого, кто скажет, что это не так! В его жизни все и всегда было завязано именно на этом. Только-только начинает везти, только-только жизненные блага начинают сыпаться так, что только успевай руки подставлять, как обязательно на горизонте возникает какая-нибудь очередная горгона в образе длинноногой серны. И пошло-поехало…
Сначала она сводит его с ума, сладкоречиво обволакивая несовершенное мужское сознание ядовитой лестью. Словно гадкая паучиха оплетает его всего, делает безвольным, слабым, чуть обалдевшим, способным ради нее на многое. Даже на то, чтобы совершить нечто для него нехарактерное и совсем уж ему несвойственное…
Но потом…
Потом она непременно ввергает его в пучину ада, проводит по семи его кругам, а далее следует неизбежная развязка, и как-то так само собой он оказывается в одной из сточных жизненных канав. Затем он долго зализывает раны, дает себе сотни три зароков даже головы не поворачивать в сторону этого адского племени. Начинает долго и исступленно работать. И как только страшно нудный и изматывающий процесс жизнеутверждающего подъема замирает на самом верху, в самой высокой победной точке, на горизонте непременно появляется очередной злой демон в образе…
Нет, он, конечно же, не собирался подводить под ту же черту происшедшую только что идиотскую сцену. Совершенно не виделось ему в этой самой сцене ничего судьбоносного. И уж совсем-пресовсем не тянула на титул дамы его сердца эта девица в замызганной спецовке и сером платке – тьфу, гадость какая! – и все же… Все же живший где-то глубоко внутри него концумент отчего-то вдруг затрепетал ноздрями. Что за черт? Неужели снова? Нет! Ни за что! Такого больше просто не может с ним случиться! Дважды обжегшись на молоке, он теперь на воду не то что дует, он к ней даже не приближается. Ну какого же черта этот неугомонный хищник вдруг запрядал ушами и ни с того ни с сего колупнул когтями землю?
Только не сейчас, упаси господи! Только не в этом месте!
Володя оставил далеко позади себя здание консервного заводика. Порывы ветра безжалостно стегали в лицо, блудливо кружили вокруг него снежными хороводами, норовя облапить во всех местах сразу. Он кутал подбородок в шарф. Поглубже втискивал в карманы озябшие пальцы рук. Прибавлял шагу, почти срываясь на бег, но помогало мало. Было жутко холодно. Скорее бы уж дойти. Вот еще совсем немного – минут пять, и он будет на месте. С какой стати было сегодня задерживаться? Ушел бы как все – вовремя. Не пытался бы решить то, что не под силу даже его руководству. Нет же! Надо же было доказать всем им и самому себе, что он тертый калач и знает толк…
«Я в поросятах знаю толк!» – всплыла вдруг в голове строчка из детской постановки. Вот-вот, именно в поросятах, только правильнее бы сказать – в свинках. Молоденьких, розовеньких, свеженьких и с такими нахальными поросячьими рыльцами, что порой ему хотелось убить самого себя за то, как умело они использовали его и обводили вокруг пальца.
Жилой массив поселенцев он обошел стороной, дав крюк метров в триста. Не беда, что ветер при такой траектории стал бить ему в левое ухо. Это даже хорошо – правое пока отдыхало. Зато избавил себя от возможных неприятностей, могущих возникнуть, пойди он освещенной улицей вдоль бараков. Их обитателей хлебом не корми – дай за что-нибудь зацепиться. Совершенно на ровном месте найдут зацепку и в любой безобидной фразе раскопают предлог для драчки. И если на заводе с ним здоровались, уважительно срывая с голов шапки и кепки, то в поселке на их улице он ни кто иной, как «закордонщик». А их тут не жаловали. Как, впрочем, и поселенцев у них. Нет, надо было все же ехать вместе со всеми на дежурной пассажирской «Газели», которая развозила их по утрам и вечерам. Теперь вот приходится шлепать пешим порядком, да еще и развлекать себя всякими бредовыми мыслями, чтобы не свалиться обмерзшим кулем в какой-нибудь канаве и не уснуть насовсем.
Ага! Вот, оказывается, откуда крылья растут у его непонятного интереса к этой высоченной девице. Просто чтобы не думать о том, как замерз, он развлекается тем, что думает о ней. Круто!
Какого черта представлять себе собственные костяшки пальцев, покрасневшие от мороза, если можно вспомнить, к примеру, сцену в столовой? Как чужие руки собственнически мяли и тискали ее грудь. Это куда интереснее собственных коленок, на которых волосы, наверное, уже дыбом встали от мороза и ветра, давно заползшего под штанины брюк и хозяйски пузырящего там трикотаж его новеньких кальсон. И как смело она врезала этому отморозку по его гнусной физиономии! Ох, как тихо тогда стало в столовой. Кажется, даже ровный гул электропечей стих, замерев в ожидании последствий ее дерзости. Чем-то теперь для нее обернется все это?.. Вот о чем надо думать, а не о камне в левой почке, вторую ночь не дающем ему покоя. Наверняка где-то под сквозняк подставился, и теперь, как следствие, неделя бессонных ночей ему обеспечена…
До мостка над глубоким оврагом, соединяющего два вражеских берега, оставалось три-четыре шага, когда суетное мельтешение теней у крайнего барака поселенцев привлекло его внимание. Что бы просто отвернуться да идти своей дорогой? Так нет! Зачем же? Нужно было, идиоту, вернуться, согнуться в три погибели, подбородком почти бороздя землю. Конспиратор тоже, мать его ети!.. Что хотел увидеть-то? Ну, что хотел, то и увидел. А, увидев, уже не мог просто так повернуться и уйти. Увидев начало одноактной пьесы, непременно должен был досмотреть ее до конца. Совсем позабыл, что сотни раз зарекался никогда и ни во что не вмешиваться. Что попал сюда, на самый край земли, пройдя по самому краю пропасти. Что его и вовсе не должна была волновать эта суета под окнами крайнего общежития. Все забыл. Все забыл напрочь. Даже про то, что промерз до самой последней кости и каждого нервного окончания. Ухнулся прямо на землю, поворочался осторожно, зарываясь в снег, и, сильно напрягая зрение, принялся смотреть. И чем дольше смотрел, тем страшнее ему становилось.
Вот он и ответ на вопрос… Чем-то теперь ей обернется ее смелость?.. Кажется, над этим он ломал голову несколько минут назад. Вот вам и ответ, батенька. Вот она и обернулась в чудовищную сцену изуверста, насилия и жестокости. Каким же надо было быть чудовищем, чтобы сотворить такое? Володя не был тринадцатилетним гимназистом, немало успел повидать в своей жизни, но от увиденного и его стошнило.
Зарываясь в снег лицом, содрогаясь от спазм в тот же миг возмутившегося желудка, он в панике начал отползать. Как он добрался до рва и перемахнул мосток, как в тридцать три прыжка проскакал четыре переулка и затем, открыв дверь в свой дом, заперся в нем – он не помнил. Один свист в ушах и дикое стремление побыстрее спрятаться. Больше ничего, никаких желаний.
Он долго сидел в темноте на табуретке у входа и слушал. Конечно же, никто его не заметил, никто и не думал его преследовать… А вдруг? Потом Володя все же нашел в себе силы подняться и включить свет. Овальное зеркало, скорее зеркальце, чем зеркало, отразило его бледную перекошенную от ужаса физиономию. И почти тут же, срикошетив от его портрета, перед его глазами всплыло другое лицо. Боже, что будет с ней? Если он, мужик совсем не робкого десятка, которому в «девках» не раз ломали в драках ребра, и то еле-еле сумел взять себя в руки, что же тогда говорить о ней?
Надо же, опять он думает о ней! Начинается?! Тьфу, чертовщина какая!
Скинув пуховик прямо на пол, Володя задумчиво уставился на свою дверь. Невелик заступ, но все же он чувствовал себя здесь в относительной безопасности… А как же она?
Нет! Не стоит об этом думать, по крайней мере сейчас. Все, что ему сейчас нужно, это повесить на вешалку куртку. Смести снежный валик у входа и приткнуть куском старой овчины. Вот ведь беда: сколько ни пытался забить щель внизу, все без толку. Проныра-ветер непременно к его возвращению наметет аккуратную стопку снежных крупок. Погода… Немилосердно все здесь и безжалостно. Что погода, что люди… Нет! Стоп! Не стоит опять съезжать на только что проложенные самим рельсы. Все, тупик!
Остервенело размахивая веником, Володя вымел на улицу снежную крупу. Подоткнул овчиной входную дверь, тщательно запер ее и для верности потряс за дверную ручку. Потом повключал свет по всему вагончику, состоящему из крохотулечного коридора, плавно перетекающего в псевдогостиную с дверной нишей, указывающей путь в его опочивальню. Помещения были крохотными, словно клетки для морских свинок.
В коридорчике он уместил вешалку для одежды, маленький холодильник «Норд», стол с электроплиткой и навесную посудную полку. Поставил под стол пару ведер для воды. Постелил циновку, благо торговали ими в их магазине бесперебойно, и кухня-столовая была готова. Маленькая гостиная удостоилась куда больших стараний с его стороны. Диван, красивое бра в изголовье. Телевизор, видеомагнитофон, книжные полки, заваленные журналами и автомобильными каталогами. Толстый, просто неприлично дорогой ковер на полу. Он его затребовал у ребят сразу, как только переступил выхлопотанный для него порог. Прислали с оказией едва ли не через неделю… Далее спальня. Гм-м-м… с постоянно открывающимися дверцами двухстворчатого шкафа, вечно разобранной постелью и пустыми пивными бутылками на полу. Ну любил он на сон грядущий опорожнить пол-литра пенистого напитка, что тут поделаешь. Водился, водился за ним такой грешок: припасть к исходящему легким дымком горлышку, мысленно отослать из мозгов куда подальше своих недругов на ближайшие полчаса, а затем под медленно наплывающий хмельной туман помечтать о своем возвращении…
Сегодня мечтать не хотелось. Он наскоро поужинал вчерашней картошкой с тушенкой. Запил чаем второго розлива. Очень уж не хотелось ему сегодня вытряхивать заварку в помойное ведро, ополаскивать чайник, а потом ждать долгие пять минут, пока заварится. Куда проще плеснуть кипяток в подсохшую листву. Она жадно впитает в себя стоградусную влагу и затем благодарственно возвратит ее уже изрядно помутневшей. Вкуса нет? Да черт с ним! Он сегодня никакого вкуса вообще не ощущает. Гадостное ощущение во рту, будто съел дохлую жабу, хотя его продукты в принципе еще ничего… Что же с ней будет, когда она вернется? Он ведь не был дураком – Панкратов Владимир Николаевич, тридцати лет от роду, с двумя высшими образованиями в багаже знаний и двумя неудавшимися браками за плечами. Он сразу понял, что затевается суматоха под окнами ее барака. Ведь она жила именно там… Наверняка она жила именно там. Ошибиться он не мог. Все, что он там видел, готовилось к ее возвращению. И именно сейчас она должны была уже вернуться, протащив свое уставшее после смены тело по выстуженным ветрами и снегом улицам поселка. По привычке зайти в магазин. Накупить там какой-нибудь дряни… был он там, был, знает, чем торгуют!.. Потом отстучать каблуками своих почти омоновских ботинок по доскам длинного барачного коридора и, открыв свою дверь, войти туда…
Как же это все произойдет, интересно…
Глава 3
Маша с совершенно тупым выражением на лице рассматривала в магазине репродукцию неизвестной картины неизвестного автора, которая появилась здесь только сегодня. Она была в этом уверена, потому как с ревностной брезгливостью относилась к подобным проявлениям творчества… Огромный кусок освежеванной баранины, в котором торчала рукоятка ножа, возлежал на разделочном столе неизвестного зрителю заведения. Капли крови, выписанные художником с виртуозной тщательностью, рубиново алели на столе. Рядом же стоял высокий фужер то ли с красным вином, то ли с только что пролитой кровью бедного животного. И к нему тянулись руки оставшегося за кадром алчущего возлияний человека. Длинные нервные пальцы с сильно развитыми суставами и огромным рубином на безымянном пальце правой руки… Ощущение подрагивания перстов жаждущего выпивохи было столь велико, что Маша беспрестанно ежилась.
– Откуда это у вас? – спросила она продавщицу, которая куталась в огромную пуховую шаль и с вожделенным ожиданием посматривала на Машин кошелек.
– Купи – продам! – гикнула та обрадованно и эдаким ватно-пуховым колобком подкатилась поближе.
– Нет, не нужно. – Маша даже попятилась. – Ее здесь не было. Еще вчера не было…
– Что, не нравится? А по-моему, красиво! – И продавщица с торгашеской назойливостью принялась уговаривать ее приобрести натюрморт. – Хоть и подарок, но все равно готова продать. Верь, как от сердца отрываю! И возьму недорого!
– Нет, нет, спасибо, мне не нужно… – Маша все пятилась и пятилась, пока каблуки не повисли в воздухе на последней ступеньке, ведущей к выходу из него.
Она тут же развернулась и почти бегом выскочила из магазина.
На улицу! Под освежающие серпантинные метельные струи! Пусть стегают по лицу, пусть заползают под одежду, лишь бы вытравили из памяти это жутковатое наваждение. Надо же!.. Расскажи кому – не поверят. Более того – засмеют и сочтут чокнутой. Давно забытые картинки из детства… Чертовщина, да и только! Нет, ну а как иначе, если этот омерзительный натюрморт как две капли воды был похож на мазню, выползающую из-под кисти ее благословенного родителя, то бишь Сидорова Ивана Ивановича?
Самого его Маша помнила очень плохо. В памяти остались лишь вечно трясущиеся с похмелья руки, перепачканные в краске брючины да кисловатый приторный запах, который шлейфом тянулся за Иваном Иванычем. Ни лица, ни голоса, ни тем более слов, обращенных к единственной дочери, она не запомнила. Но вот эти его мерзкие картинки… Какое-то время они даже снились ей. Огромные куски кровоточащей говядины, бараньи ноги и головы, отсеченные здоровенными ножами мясников. Попадались еще и блюда с губами и свиными ушами, но много реже. Основной же темой «творчества» ее папаши были и оставались освежеванные окровавленные туши.
Дубейный художник! Так называла его мать в те редкие дни, когда он появлялся дома. Уже став старше, Маша узнала, что производной к такому обращению явилось название одного из произведений Лескова. Узнала и то, что прославленный классик имел в виду обычного гримера. И даже обиделась на мать за то, что та посмела своей неосторожной метафорой осмеять нетленное произведение. По ее же мнению, папашка вообще не подпадал под определение художника, и место ему было в психушке. Нормальный человек, опять же по ее расчетам, не мог с таким наслаждением выписывать лохматящиеся окровавленные сухожилия и отчлененные от туловища головы бедных животных с синюшными толстыми губами и остановившимся стеклянным взглядом. Но Иван Иваныч в психушку не спешил. И более того – весьма и весьма успешно сбывал свою мазню. Маша подозревала, что таким же психам, как он сам. Вот тогда они и удостаивались видеть дома «великого мастера» пред своими очами.
В дни коммерческой удачи Иван Иваныч обычно бывал пьян и весел. Он приходил к ним с гостинцами, включающими в себя всегда один и тот же гастрономический набор продуктов: круг «краковской» колбасы, палка колбасного сыра, банка консервов в томате, одно большое яблоко и горсть карамели в слипшихся бумажках. То ли он был не очень изобретателен в вопросах выбора презента, то ли причиной являлся финансовый предел, переступать который он не имел права. Но приносил он всегда одно и то же. Маша тогда награждалась легким потрепыванием по затылку отцовской дланью, мог последовать еще и шлепок по ее тощей заднице. Мать получала в награду получасовое сюсюканье на тему, как она прекрасна и великодушна. Потом родители отправляли Машу спать, а наутро отца уже не было. Со временем визиты становились реже, а вскоре и совсем прекратились. Но вот эти его картины… Все кошмарные сны ее детства были связаны именно с ними. Мать ее даже к невропатологу водила, пытаясь выявить причину нервозности дочери. Назначали лечение, чередовали его с отдыхом в детских лагерях и санаториях…