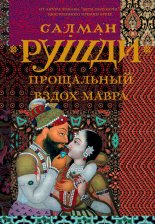Лживая взрослая жизнь Ферранте Элена

— Будь добра и справедлива к другим.
— А еще?
— А еще то, что в твоем возрасте дается труднее всего: почитай своих отца и мать. Хотя бы попробуй, Джанни, это важно.
— Я больше не понимаю ни отца, ни маму.
— Вырастешь — поймешь.
Что они все заладили, что я пойму, когда вырасту?! Я ответила:
— Тогда я лучше никогда не вырасту.
Мы попрощались у фуникулера; с тех пор я его больше не видела. Я не осмелилась спросить его о Роберто, не поинтересовалась, говорила ли ему Виттория обо мне, рассказывала ли она, что происходит у нас дома. Я только сказала, сгорая от стыда:
— Мне кажется, что я некрасивая, у меня скверный характер, но мне все равно хочется, чтобы меня любили.
Но я произнесла это слишком поздно, на одном дыхании, когда он уже повернулся ко мне спиной.
Наша встреча мне очень помогла, и в первую очередь я постаралась изменить отношения с родителями. О почтении к ним, разумеется, речи не шло, но можно было попробовать хотя бы немного снова сблизиться.
С мамой все пошло неплохо, хотя было непросто научиться не нападать на нее. Я не обсуждала с ней ее телефонный разговор с Витторией, но периодически меня так и подмывало прикрикнуть на маму — что-нибудь приказать, упрекнуть, обвинить, сказать гадость. Обычно мама не реагировала, она сохраняла бесстрастие, словно умела по команде становиться глухой. Но постепенно я научилась вести себя иначе. Я поглядывала на маму из коридора — аккуратно одетую и причесанную, даже если она не собиралась выходить из дому или принимать гостей, — и при виде сгорбленной спины женщины, которая измучена горем и которая часами просиживает над работой, испытывала нежность. Однажды вечером, смотря на маму, я неожиданно представила рядом с ней тетю. Конечно, они были врагами, конечно, мамино образование и утонченность делали их бесконечно далекими. Но разве Виттория не хранила верность Энцо, хотя он давно уже умер? Разве я не восприняла это как проявление великодушия? Внезапно я с удивлением поняла, что мама вела себя еще благороднее… потом я долго над этим раздумывала.
Любовь Виттории была взаимной, ее возлюбленный всегда отвечал на ее чувства. Маму же предали самым гнусным образом, но тем не менее ей удалось сохранить свою любовь. Мама не умела и не желала представлять свою жизнь без бывшего мужа, напротив, ей казалось, что ее существование наполнялось смыслом, когда отец удостаивал ее разговора по телефону. Ее уступчивость внезапно стала мне нравиться. Как я могла нападать на нее, оскорблять за привязанность к отцу? Неужели я приняла силу за слабость — да-да, силу, мамино безграничное умение любить?
Однажды я заявила маме спокойно, словно констатируя факт:
— Раз тебе нравится Мариано, забирай его.
— Сколько раз тебе говорить? Мариано мне отвратителен.
— А папа?
— Папа это папа.
— Почему ты никогда не отзываешься о нем плохо?
— Одно дело то, что я говорю, другое — то, что я думаю.
— Значит, в мыслях ты позволяешь себе сердиться?
— Немножко, но потом я вспоминаю, сколько лет мы счастливо прожили вместе, и забываю, что должна его ненавидеть.
Мне показалось, что в этих словах — “забываю, что должна его ненавидеть” — была правда, было что-то живое, и я решила пойти той же дорогой, думая об отце. Теперь я видела его очень редко: к ним домой в Позиллипо я больше не ездила и выбросила из своей жизни Анджелу и Иду. Но сколько бы я ни пыталась понять, почему он оставил нас с мамой и переехал к Костанце и ее дочерям, у меня ничего не выходило. Раньше я считала, что отец намного превосходит маму, но теперь я видела, что он не способен на широкие жесты, даже когда ему плохо. Редкие разы, когда он заезжал за мной в лицей, я внимательно выслушивала его жалобы, но только чтобы убедить себя, что все это ложь. Он пытался мне внушить, что несчастлив или не так счастлив, как когда он жил на виа Сан-Джакомо-деи-Капри. Естественно, я ему не верила, однако тем временем я изучала его и думала: надо забыть о том, что я сейчас чувствую, надо думать о том, что в детстве я его обожала; если мама, несмотря ни на что, им дорожит, если она забывает о том, что должна его ненавидеть, наверное, он казался мне выдающимся человеком не только потому, что я тогда была маленькой. В общем, я прилагала большие усилия, чтобы вновь обнаружить у отца редкие качества. Не потому, что я его любила: теперь мне казалось, что я к нему ничего не чувствую — я только пыталась убедить себя, что мама любила неординарного человека, поэтому, видясь с отцом, я старалась вести себя любезно. Я рассказывала ему про учебу, про глупости, которые делали преподаватели, я даже хвалила его за то, как он объяснял мне трудное место у какого-нибудь латинского автора, или за новую стрижку.
— Слава богу, на этот раз подстригли не очень коротко. Ты сменил мастера?
— Нет, парикмахерская рядом с домом, зачем идти куда-то еще. Да и какая разница, голова уже седая, это у тебя молодые красивые волосы.
Я сделала вид, что пропустила мимо ушей комплимент моим волосам, он показался мне неуместным. Потом сказала:
— Они не седые, разве что чуть-чуть, на висках.
— Я старею.
— Когда я была маленькая, ты был намного старше, а теперь помолодел.
— От горя не молодеют.
— Значит, горе не очень сильное. Я знаю, что ты стал видеться с Мариано.
— Кто тебе рассказал?
— Мама.
— Неправда, просто иногда, когда он приезжает навестить дочерей, мы общаемся.
— И ссоритесь?
— Нет.
— Так в чем же дело?
Дело было ни в чем — отец просто пытался продемонстрировать, будто скучает по мне и будто ему больно меня не видеть. Порой он так ловко разыгрывал спектакль, что я забывала о том, что верить ему нельзя. Он был по-прежнему красив, он не исхудал, как мама, даже кожа осталась прежней: поддаться очарованию его ласкового голоса, снова вернуться в детство, довериться отцу было очень легко. Однажды, когда мы по традиции закусывали панцаротти и пастакрешута, я вдруг заявила, что хочу прочитать Евангелие.
— С чего это вдруг?
— Это плохо?
— Это очень хорошо.
— А если я стану христианкой?
— Не вижу в этом ничего дурного.
— А если я крещусь?
— Главное чтобы это не было капризом. Если у тебя есть вера, то все в порядке.
Итак, он ничуть не возражал; но я сразу пожалела о том, что поделилась с ним своим намерением. Теперь, после Роберто, воспринимать отца как авторитет, как человека, достойного любви, было невыносимо. Какое он имел отношение к моей жизни? Я ни в коем случае не собиралась опять уважать его и любить. Если я когда-нибудь прочитаю Евангелие, я сделаю это ради молодого человека, которого слышала в церкви.
Попытка сблизиться с отцом, заранее обреченная на провал, лишь усилила желание увидеть Роберто. Я не выдержала и решилась опять позвонить Виттории. Она ответила грустным голосом, хриплым от курения. На этот раз она на меня не накинулась, не стала оскорблять, но и нежности не проявляла.
— Что тебе нужно?
— Хотела узнать, как ты.
— Нормально.
— Можно заехать к тебе в воскресенье?
— Зачем?
— Повидаемся. К тому же мне было приятно познакомиться с женихом Джулианы: если он снова приедет, я с удовольствием с ним встречусь.
— В церкви больше ничего не устраивают. Нашего священника собираются выгонять.
Она не дала мне времени рассказать, что я встретила дона Джакомо и обо всем знала. Виттория перешла на диалект: она была зла на всех — на прихожан, епископов, кардиналов, папу, а еще на дона Джакомо и даже на Роберто.
— Священник зашел слишком далеко, — сказала она, — это как таблетки: сначала они лечат, потом проявляется побочное действие. Так что теперь нам еще хуже, чем раньше.
— А Роберто?
— Роберто не думает о последствиях. Приезжает, устраивает невесть что, потом уезжает, мы его месяцами не видим. То он в Милане, то здесь, Джулиане от этого тоже не очень здорово.
— Но от любви-то ей хорошо, — сказала я, — разве любовь может причинить вред?
— Что ты в этом понимаешь.
— Любовь добра, ей не страшно долгое расставание, она все выдержит.
— Ничего ты не знаешь, Джанни, складно болтаешь по-итальянски, а сама ничегошеньки не знаешь. Любовь не очень-то прозрачная штука, она как окно в сортире.
Этот образ произвел на меня впечатление, я сразу подумала, что он противоречит ее рассказу об их с Энцо любви. Я похвалила Витторию, сказала, что мне хотелось бы чаще с ней разговаривать, попросила:
— Когда вы все вместе соберетесь на обед — ты, Маргерита, Джулиана, Коррадо, Тонино, Роберто, — можно мне тоже прийти?
Она рассердилась, голос зазвучал агрессивно.
— Сиди-ка ты лучше дома: твоя мать считает, что здесь тебе не место.
— Но я буду рада вас повидать. А Джулиана с тобой? Хочу с ней поговорить.
— Джулиана у себя дома.
— А Тонино?
— По-твоему, Тонино ест, спит и срет у меня?
Она резко оборвала наш разговор — грубо и, как всегда, вульгарно. Мне хотелось получить приглашение, узнать точную дату, быть уверенной, что через полгода или через год я снова увижу Роберто. Этого не произошло, но я все равно чувствовала приятное возбуждение. Виттория толком ничего не сказала про отношения Джулианы и Роберто, но я поняла: что-то пошло не так. Конечно, мнению тети нельзя было доверять, скорее всего, ее раздражало как раз то, что нравилось Джулиане и Роберто. Но я принялась фантазировать, что — проявив упорство, терпение и ради их же блага! — я стану посредником между ними и тетей, ведь я говорила так, что все меня понимали. Я решила найти Евангелие.
Дома Евангелия не оказалось, но я не учла, что как только я упоминала о какой-нибудь книге, отец сразу же ее доставал. Спустя несколько дней после нашего разговора он появился у лицея с комментированным изданием Евангелия.
— Просто прочитать — этого мало, — сказал он, — подобные тексты нужно изучать.
У него загорелись глаза, когда он произнес эту фразу. Подлинное призвание отца обнаруживалось, когда он обсуждал что-то возвышенное — книги, идеи… В такие мгновения мне становилось ясно, что он несчастлив, когда его голова ничем не занята, потому что тогда он не в состоянии скрыть от себя самого, насколько дурно обошелся со мной и с мамой. Занимаясь же важными проблемами, значение которых подтверждали книги с аккуратными пометками, отец был счастлив и ни по кому не скучал. Он перенес свою жизнь в дом Костанцы, там ему было удобно. Новый кабинет представлял собой большую светлую комнату, из окна было видно море. Отец снова стал устраивать собрания со всеми, кого я помнила с детства, — разумеется, за исключением Мариано, но всем уже казалось, что скоро все вернется на свои места и к их спорам вот-вот присоединится и Мариано. Портили жизнь отцу только мгновения, когда он не был занят и вновь оказывался лицом к лицу с тем, что натворил. Однако он легко ускользал от этих мыслей, моя просьба показалась ему отличной возможностью, убедила его, что и со мной все постепенно налаживается.
Вскоре за изданием с комментариями последовал старый томик Евангелия на греческом и латыни — “Перевод — это хорошо, но важно прочитать оригинал”, — потом отец ни с того ни с сего попросил меня поговорить с мамой, чтобы она помогла ему добыть какие-то свидетельства или не помню что. Я взяла книги и пообещала передать маме его просьбу. Когда я это сделала, мама фыркнула, рассердилась, начала иронизировать, но потом сдалась. Хотя она была занята целыми днями в лицее, проверяла тетрадки или правила верстку, она все-таки выкраивала время, чтобы стоять в длиннющих очередях в разных конторах, сражаясь с ленивыми чиновниками.
После этого случая мне стало понятно, насколько я изменилась. Я почти не возмущалась послушностью мамы, слыша из своей комнаты, как она отчитывается отцу по телефону, что у нее все получилось. Я не рассвирепела, когда ее голос, охрипший из-за бесконечного курения и крепких напитков, которые она пила по вечерам, зазвучал нежнее: это мама предложила отцу заехать к нам и забрать документы, которые она добыла в паспортном отделе, ксерокопии, которые она сделала для него в Национальной библиотеке, свидетельства, которые она получила для него в университете. Я даже не насупилась, когда однажды вечером отец с потерянным видом заявился к нам и они о чем-то беседовали в гостиной. Я слышала, что пару раз мама рассмеялась, но потом умолкла — наверное, поняла, что смех остался в прошлом. В общем, я больше не думала: так ей и надо, раз она такая глупая; мне казалось, теперь я понимаю, что она чувствует. Однако мое отношение к отцу не было столь же ровным, я ненавидела его приспособленчество. Я рассердилась, когда он позвал меня, чтобы поздороваться, и спросил рассеянно:
— Ну как? Изучаешь Евангелие?
— Да, — ответила я, — но то, что в нем рассказано, мне не нравится.
Он иронично улыбнулся:
— Интересно: значит, то, что в нем рассказано, тебе не нравится?
Отец поцеловал меня в лоб, а в дверях сказал:
— Потом обсудим.
Обсуждать с ним? Да ни за что. Что я могла ему сказать? Я начала читать, полагая, что это сказка, которая поможет мне полюбить Бога так, как любит его Роберто. Мне это было необходимо, во всем теле я ощущала такое напряжение, что нервы порой казались мне электрическими проводами под высоким напряжением. Но то, что было там описано, не напоминало сказку — события происходили в реальных местах, у людей были настоящие ремесла, там действовали реально существовавшие люди. Из всех человеческих чувств в Евангелии оказалось больше всего жестокости. Дочитав одно Евангелие, я переходила к следующему, рассказанная в них история казалась мне все более жуткой. Да, она глубоко трогала. Я читала и начинала нервничать. Так все мы повинуемся Господу, который наблюдает за нами, чтобы узнать, что мы выберем — добро или зло? Что за глупость, как можно согласиться быть такими покорными? Мне не нравилась мысль о том, что на небесах есть Отец, а мы, его дети, копошимся внизу, в грязи и крови. Что за отец этот Бог, что это за семейство — все его творения? Мне было страшно, и одновременно я злилась. Я ненавидела Отца, создавшего хрупкие, постоянно страдающие существа, которые так легко оступаются. Ненавидела за то, что он сидит себе и смотрит, как мы, его игрушки, справляемся с голодом, жаждой, болезнями, ужасами, жестокостью, гордыней, — ведь даже за добрыми чувствами, которые всегда можно изобразить, скрыто предательство. Ненавидела за то, что его сын родился у девы, что он подверг его страшным опасностям, как самые несчастные свои творения. Ненавидела за то, что сын, умевший творить чудеса, использовал эту способность для пустых забав и ничего не сделал, чтобы решительно изменить участь людей. Ненавидела за то, что сын скверно обращался со своей матерью, но не находил сил рассердиться на отца. Ненавидела за то, что Господь Бог позволил своему сыну умереть в жестоких мучениях, что он даже не ответил на просьбу о помощи. Да, рассказанное в Евангелии повергало меня в тоску. А то, что в конце он воскрес? Чудовищно истерзанное тело возвращается к жизни? Я ужасно боялась восставших из гроба, не спала по ночам. Зачем переживать смерть, если потом навечно вернешься к жизни? И какой смысл имела вечная жизнь в толпе воскресших мертвецов? Это было наградой или чем-то невыносимо жутким? Нет-нет, пребывающий на небесах отец был точь-в-точь таким, как нелюбящий отец у Матфея и Луки — тот, который предлагает камни, змей и скорпионов голодному, просящему кусок хлеба сыну. Начни я обсуждать это с моим отцом, я бы могла не сдержаться и заявить: этот отец, папа, еще хуже, чем ты. Поэтому я оправдывала все его творения, даже самые худшие. Им выпала тяжелая доля, и когда им все-таки удавалось в той грязи, в которой они жили, выражать подлинные, сильные чувства, я была на их стороне. Например, на стороне мамы, а не ее бывшего мужа. Он сначала использовал ее, а потом лицемерно благодарил, пользуясь тем, что мама способна на возвышенные чувства.
Однажды мама сказала мне:
— Твой отец моложе тебя. Ты взрослеешь, а он так и остался ребенком. И навсегда останется ребенком, невероятно умным ребенком, завороженным своими играми. Если за ним не следить, он поранится. Я должна была понять это еще в молодости, но тогда он казался мне взрослым мужчиной.
Мама ошиблась, но все равно она не отказывалась от своей любви. Я взглянула на нее с нежностью. Мне тоже хотелось так любить, но только не того, кто подобной любви не заслуживает. Она спросила:
— Что ты читаешь?
— Евангелие.
— Зачем?
— Потому что мне нравится один парень, а он хорошо знает Евангелие.
— Ты влюбилась?
— Ты что, с ума сошла? Вовсе нет. У него есть невеста, я просто хочу с ним подружиться.
— Не говори папе, а то он решит обсудить с тобой прочитанное и испортит все удовольствие.
Но эта опасность миновала — я прочитала все до последней строчки и, начни отец меня расспрашивать, легко отделалась бы общими фразами. Я надеялась однажды подробно обсудить все с Роберто и даже высказать какие-то конкретные замечания. В церкви мне показалось, что я жить без него не могу, но время шло, а я все жила и жила. Ощущение, что он мне необходим, постепенно сменялось другим. Теперь мне казалось необходимым не его физическое присутствие (я воображала, что он далеко, в Милане, что он счастлив, что у него куча важных и полезных дел и что все признают его заслуги) — у меня появилась цель: стать человеком, способным завоевать его уважение. Я начала воспринимать его как не вполне ясный — он одобрит, если я поступлю так? или будет против? — но при этом непререкаемый авторитет. В то время я даже перестала ласкать себя перед сном, вознаграждая за невыносимую тяжесть бытия. Мне казалось, что несчастным, обреченным на смерть созданиям повезло в одном: они могли унять боль, расстаться с ней, запуская расположенный между ног механизм, который ненадолго приносил забвение. Но я решила, что Роберто, узнай он об этом, пожалеет, что терпел рядом с собой, пусть даже несколько минут, человека, который привык сам дарить себе наслаждение.
В то время я — не приняв осознанного решения, а, скорее, в силу старой привычки — снова начала прилежно учиться, хотя лицей еще больше, чем раньше, казался мне местом для пустых разговоров. Вскоре я добилась неплохих результатов; а еще я старалась быть более открытой с одноклассниками и даже стала проводить с ними субботние вечера, хотя особенно ни с кем не сближалась. Разумеется, мне так и не удалось избавиться от манеры делать колкие замечания, подолгу молчать или внезапно впадать в ярость. Но все же я надеялась, что сумею стать лучше. Порой я глядела на тарелки, стаканы, ложки или даже на лежащий на дороге камень либо сухой листок и удивлялась их форме — результату человеческого труда или дару природы. Знакомые с детства улицы Рионе Альто я теперь рассматривала так, будто видела их впервые: магазины, прохожих, восьмиэтажные дома, белые полосы балконов вдоль охристых, зеленых и голубых стен. Меня очаровывал черный лавовый камень на виа Сан-Джакомо-деи-Капри — им были вымощены тротуары, по которым я проходила тысячу раз, старые здания — серо-розовые или цвета ржавчины, меня манили к себе сады… То же самое происходило с людьми: преподавателями, соседями по дому, торговцами, толпой на улицах Вомеро. Меня поражали жесты, взгляды, выражения лиц. В такие мгновения мне казалось, что во всем есть тайна и мне предстоит ее раскрыть. Но длилось это недолго. Периодически, хотя я и пыталась сопротивляться, все начинало меня раздражать, я обо всем судила резко, меня так и тянуло с кем-нибудь поругаться. Я не хочу быть такой, всякий раз твердила я себе перед сном, но понимание того, что проявить себя я могу только подобным образом — через нетерпимость, через грубость, — порой подталкивало меня не к тому, чтобы исправиться, а к тому, чтобы, испытывая нездоровое удовольствие, вести себя еще хуже. Я думала: раз меня не хотят любить, ну и ладно, пускай не любят. Ведь никто из них не знает, о чем я думаю днем и ночью; мысль о Роберто служила мне убежищем.
Однако я с радостью, которой сама от себя не ожидала, все чаще обнаруживала, что, несмотря на мой взрывной характер, одноклассники хотели общаться со мной, они приглашали меня на праздники и порой даже восхищались моими странными выходками. Только благодаря этому мне удавалось не подпускать близко Коррадо и Розарио. Первым снова появился Коррадо. Он пришел к лицею и заявил:
— Пойдем погуляем на вилле Флоридиана.
Я хотела отказаться, но, чтобы вызвать любопытство следивших за нами одноклассниц, согласно кивнула, однако вывернулась, когда он положил руку мне на плечо. Поначалу он пытался меня смешить и я из вежливости смеялась, но потом он потащил меня подальше от дорожек, в кусты, и тогда я сказала “нет” — сначала вежливо, потом весьма решительно.
— Разве мы не жених и невеста? — спросил он с искренним удивлением.
— Нет.
— Как нет? А то, чем мы занимались?
— Это чем же?
Он растерялся.
— Ты сама знаешь.
— Я уже и не помню.
— Ты говорила, что тебе было весело.
— Я врала.
К моему удивлению, он совсем смешался. Но затем проявил настойчивость, даже попытался меня поцеловать. Однако в конце концов отступился, забормотал: “Я тебя не понимаю, ты меня очень расстроила”. Мы уселись на белые ступени лестницы и стали смотреть на прекрасный Неаполь, словно покрытый прозрачным куполом, снаружи — голубое небо, внутри — пар, все камни города как будто дышали.
— Ты совершаешь ошибку, — сказал Коррадо.
— Какую ошибку?
— Ты думаешь, что лучше меня, но ты не поняла, кто я на самом деле.
— И кто же ты?
— Подожди и увидишь.
— Я буду ждать.
— А вот Розарио ждать не может, Джанни.
— Причем тут Розарио?
— Он в тебя влюбился.
— Да ладно!
— Точно. Ты с ним заигрывала, теперь он считает, что ты его любишь, и все время говорит о твоих сиськах.
— Он заблуждается. Скажи ему, что я люблю другого.
— Это кого же?
— Не скажу.
Он попытался выяснить, о ком идет речь, но потом все же сменил тему и опять обнял меня за плечи.
— Этот другой — я?
— Нет.
— Не может быть, чтобы ты была со мной так ласкова, но не любила.
— Уверяю тебя, может.
— Значит, ты шлюха.
— При желании да.
Я хотела спросить его о Роберто, но, зная, что Коррадо терпеть его не может, что он начнет поливать его грязью, сдержалась и решила разузнать что-нибудь, заведя разговор о Джулиане.
— Она очень красивая, — стала я расхваливать его сестру.
— Да что ты, она вся высохла, похожа на ходячий труп. Видела бы ты ее утром, когда она только проснется.
Он сказал еще несколько гадостей и объяснил, что теперь Джулиана, чтобы удержать ученого женишка, строит из себя святошу, хотя на самом деле она совсем не такая. Когда у тебя есть сестра, сказал он, с бабами дела иметь не хочется, потому что ты знаешь: бабы во всем хуже нас, мужиков.
— Тогда убери руку и не пытайся больше меня целовать.
— Причем тут это, я же влюбился.
— Значит, влюбившись, ты видишь меня другими глазами?
— Я все вижу, но забываю, что ты такая же, как сестра.
— Вот и Роберто видит Джулиану не такой, какой видишь ты, а такой, какой ты видишь меня.
Коррадо занервничал, эта тема его раздражала.
— Что может видеть Роберто? Он слепой и в бабах не разбирается!
— Возможно, но когда он говорит, все его слушают.
— И ты тоже?
— Да нет.
— Он только дуракам нравится.
— Твоя сестра дура?
— Да.
— Значит, ты один умный?
— Я, ты и Розарио. Он хочет тебя увидеть.
Я недолго подумала и сказала:
— У меня много уроков.
— Он рассердится, он же сын адвоката Сардженте.
— Важной шишки?
— Ага. С ним опасно ссориться.
— Корра, у меня нет времени, вы в лицей не ходите, а я да.
— Так тебе интересно только с теми, кто учится?
— Нет, но есть огромная разница между тобой и, скажем, Роберто. У него нет лишнего времени, он все время корпит над книгами.
— Опять этот Роберто! Ты что, влюбилась?
— Еще чего!
— Если Розарио решит, что ты влюбилась в Роберто, то он или сам его убьет, или подошлет кого-нибудь.
Коррадо сказал, что я не могу не повидаться с Розарио. О Роберто мы больше не упоминали.
Прошло немного времени, и у лицея появился Розарио. Я сразу его заметила: он стоял, прислонившись, к машине с открытым верхом, высокий, худой, неизменно улыбающийся, одетый намеренно дорого, что среди моих одноклассников считалось дурным тоном. Он не махал руками и не шевелился, он был словно уверен, что если не его самого, то уж его желтую машину нельзя не заметить. И он был прав, все глядели на нее с восхищением. И, разумеется, глядели на меня, когда я неохотно, словно подчиняясь отданной издалека команде, подошла к нему. Розарио с нарочито равнодушным видом уселся за руль, я со столь же равнодушным видом села рядом.
— Отвези меня сразу домой, — сказала я.
— Ты госпожа, а я твой раб, — ответил он.
Он завел мотор и нервно рванул с места, давя на клаксон, чтобы ребята расступились.
— Ты помнишь, где я живу? — встревоженно спросила я, потому что он поехал вверх по улице, которая вела к Сан-Мартино.
— На вершине Сан-Джакомо-деи-Капри.
— Но мы не едем на Сан-Джакомо-деи-Капри.
— Потом поедем.
Он остановился на улочке у Сант-Эльмо[10], повернулся и взглянул на меня со своим неизменно веселым выражением.
— Джанни, — объявил он торжественно, — ты мне понравилась, как только я тебя увидел. И мне захотелось сказать тебе об этом, когда мы останемся наедине, в спокойном месте.
— Я некрасивая, поищи себе красивую девушку.
— Неправда, просто у тебя особый тип внешности.
– “Особый тип” означает, что я некрасивая.
— Да ладно, такой груди, как у тебя, не бывает даже у статуй.
Он потянулся, чтобы поцеловать меня в губы; я дернулась назад и отвернулась.
— Мы не можем целоваться, — сказала я, — у тебя слишком выступают зубы, а губы слишком тонкие.
— А как же другие меня целуют?
— Значит, они беззубые, вот и целуйся с ними.
— Не надо так шутить, Джанни, я обижусь.
— Это ты шутишь, а не я. Ты все время смеешься, вот мне и хочется шутить.
— Ты же знаешь, что у меня такой рот. На самом деле я очень серьезный.
— Я тоже. Ты мне сказал, что я некрасивая, а я сказала, что у тебя выпирают зубы. Теперь мы квиты, вези меня домой, а то мама волнуется.
Но он не отодвинулся, а остался всего в нескольких сантиметрах от меня. Он повторил, что у меня особый тип внешности, что ему нравятся такие, как я, и стал вполголоса жаловаться на то, что я не осознаю всю серьезность его намерений. Потом, внезапно повысив голос, он произнес с тревогой:
— Коррадо же трепло, да? А то он говорит, что ты с ним кое-чем занималась… Я ему не верю.
Попытавшись открыть дверцу машины, я сказала рассерженно:
— Мне пора.
— Погоди! Если ты занималась с ним этим, так почему не хочешь со мной?
Мое терпение лопнуло:
— Розарио, ты мне надоел. Я ничем таким ни с кем не занимаюсь.
— Ты влюблена в другого.
— Ни в кого я не влюблена.
— Коррадо сказал, что с тех пор, как ты увидела Роберто Матезе, ты больше ничего не соображаешь.
— Я даже не знаю, кто такой Роберто Матезе.
— Я тебе объясню: это один выскочка.
— Выходит, это не тот Роберто, которого знаю я.
— Да нет, точно он. А если не веришь, я приведу его сюда — и мы посмотрим.
— Ты мне его приведешь? Ты?!
— Да мне стоит только пальцем шевельнуть.
— И он придет?
— Ну, не по своей воле. Его заставят.