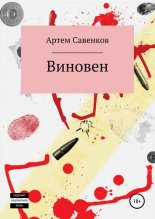Трезориум (адаптирована под iPad) Акунин Борис

Подошел к Хасе. Все смотрели в предвкушении – ну-ка, что он такое замыслил?
– Экс-пекс-фекс!
Повернулся, нагнулся, стянул штаны и трусы, показал голый зад. Звонко расхохотался.
Что тут началось! Девочки завизжали, мальчишки заорали. Это возраст, когда дети начинают стесняться наготы, а всё запретное, неприличное вызывает у них любопытство. С их точки зрения, Яцек отмочил очень лихую и смелую штуку.
Встрепенулись и мы, шацзухеры. Я заметил, что каждый смотрит на реакцию тех детей, кого рассчитывает заполучить к себе в группу в следующем семестре.
– Этот мальчик – «С», даже не спорьте со мной! Я в его возрасте была такая же, пока не научилась прикидываться, – сказала Дора, причем обращаясь не ко всем, а к Хаиму. И смущенно потупилась.
Тот вспыхнул, у него очень живое воображение. А чертова кокетка искоса взглянула на Лейбовского, и тот улыбнулся, должно быть, вспомнив какие-то их интимности.
Занятые своими дурацкими взрослыми играми, они пропустили интересное: Хася быстро дотронулась пальцем до смуглой попки Яцека и отдернула руку. Мы с Мейером переглянулись, и он пожал плечами: не девочка, а сплошные загадки.
Тем временем Зося восстанавливала порядок среди своей расшалившейся команды. Опыта аниматорше было не занимать.
– Разве принцы так делают? – спокойно сказала она. – Давайте посмотрим, кто у нас принцы и принцессы, а кто нет. Ну-ка, принцы – идите сюда, а принцессы – сюда. Будем учить принцевскую песню.
И все кинулись к пианино. Яцек со спущенными штанами остался в одиночестве.
– Эта выходка без последствий все равно не останется, – сказал я коллегам. – Очевидно, нам предстоит пережить моду на обнажение. Естественная в детском возрасте фаза, но я полагал, что она наступит позже, во втором или третьем семестрах. У меня разработано несколько показательных тестов, с которыми я вас вечером ознакомлю, чтобы…
Мне пришлось сделать паузу, потому что раздался дверной звонок, он у нас довольно громкий.
– …Чтобы вы были во всеоружии, – закончил я, зная, что дверь откроет кто-нибудь из непедагогического персонала.
Через минуту вошла пани Марго, лицо у нее было напряженное.
– К вам пан Гарбер. Говорит, по срочному делу.
– Продолжайте работу, коллеги, – сказал я и вышел.
До сих пор я поминал Гарбера и «Двенадцатку» лишь мимоходом, поскольку это не имеет прямого отношения к педагогической работе. Но сегодня мне не спится, и я напишу подробнее. Коснусь и этой стороны нашего существования, иначе тому, кто когда-нибудь прочитает мои записки, будет трудно понять некоторые вещи.
Гетто представляет собой не только совершенно отдельный мир, но и является своеобразной пародией на государство. Высоко наверху, где-то на небеси, парит Высшая Сила, почти всегда невидимая, но всемогущая и вездесущая, периодически карающая смертных громами и молниями: это германская комендатура и Гестапо. Сверхчеловеков мы тут почти не видим, лишь иногда, подобно крылатым архангелам, по гребню стены вдоль Холодной улицы, проходят немецкие патрули. На земле же всем заправляет помазанник божий Юденрат, исполняющий волю Господа. И если исполняет ее плохо – Бог помазанника карает. Всякий член Юденрата, подобно благочестивому монаху, верный раб божий.
Никакое государство не может существовать без аппарата насилия, и у нас он тоже есть: Jdischer Ordnungsdienst, «Служба порядка», она же «еврейская полиция». Там собраны худшие человеческие экземпляры – те, кто согласен совершать гнусности за лишний паек или ради того, чтобы чувствовать себя менее несчастным на фоне еще более обездоленных. Руководит этой охранкой выкрест, бывший полковник польской полиции, про которого рассказывают ужасные вещи.
Но это власть официальная, а во всяком нездоровом и несвободном государстве неминуемо возникает параллельная структура, которая не слишком боится Бога, не признает установленных законов и помогает населению обходить многочисленные абсурдные запреты.
Четыреста тысяч человек живут в состоянии постоянного дефицита почти всего: еды, одежды, лекарств, защиты, необходимых для выживания документов. Выражаясь языком рыночным, на всё существует огромный спрос при очень скудном предложении. К тем, кто способен этот спрос удовлетворить, деньги текут рекой. А у кого деньги, у того и настоящая власть. В Америке подобную функцию выполняет мафия, в Гетто – «Двенадцатка». Это легально существующая организация, сидящая в доме 12 на улице Лешно. Официальное ее название «Группа борьбы со спекуляцией», но это как борьба кота со сметаной. Задумывалась «группа» как волонтерская, для добровольных помощников полиции, но очень скоро превратилась в истинный центр силы, у которого полиция и половина Юденрата на содержании.
«Двенадцатка» – мафия сугубо еврейского склада, вся построенная на коммерции. За плату она предоставляет любые товары, в том числе контрабандные и запрещенные, а также любые услуги: переравку людей из Гетто во внешний мир, выдачу пропусков и освобождений от работы, всякого рода разрешений и лицензий. Такса известна, исполнение обязательств гарантировано – одним словом, потребители довольны. Без этих удобнейших господ жизнь здесь была бы еще худшим адом.
Однако это не означает, что «Двенадцатка» торгует и всё. Она держится не только на выгоде, но и на страхе. Если надо – убивает, и делает это очень ловко. Все ее боятся до дрожи, включая Юденрат и полицию. Немцы, конечно, знают про это, но «Двенадцатку» не трогают, потому что она им тоже удобна: сотрудничает с Гестапо, предоставляет информацию о внутренней жизни Гетто. Железное правило всякого тоталитарного режима гласит, что за надзирающими тоже нужны надзирающие. А еще поговаривают, что «Двенадцатка» делится своими нешуточными прибылями с нужными сверхчеловечками, каковые, разумеется, есть и среди несгибаемых арийцев.
Самым страшным человеком в «Двенадцатке» слывет некто Гарбер, начальник ОДР, «Отдела дополнительных ресурсов». Это самые настоящие бандиты, которые вынюхивают, у кого есть припрятанные ценности, и отбирают их. В Гетто не так мало богачей, кто умудрился прихватить с собой из прежней жизни деньги или ювелирные изделия. На таких людей идет настоящая охота.
Нечего и говорить, что я со своими большими долларами и непривычкой к конспирации засветился почти сразу же.
В один из первых дней существования трезориума, когда пани Марго потребовалось закупить продукты длительного пользования, я поменял слишком крупную сумму, 200 долларов. На улице Павя есть такой Соломон, набожный талмудист, который всегда сидит у столика со свитками и читает вслух священные книги, а заодно ведет бойкую торговлю валютой. Мне, дураку, следовало бы понимать, что такой субъект не может не сотрудничать с «Двенадцаткой». Впрочем, неважно. Рано или поздно я все равно привлек бы внимание ОДР.
И вот сижу я ночью на первом этаже, в классе, один, прикидываю, как получше расположить сектора: стол мягких рукоделий, стол технических конструкторов, стол бумажных занятий, полки для кукол, солдатиков, машинок. Трезориум давно спит.
Не было никакого звонка, не лязгнула отмычка, не заскрипела дверь. (Правда, когда я очень сосредоточен, я почти ничего не замечаю.)
Я услышал шорох, рассеянно обернулся – и окоченел.
У меня за спиной стояли трое невесть откуда появившихся мужчин. На рукавах повязки с красной звездой Давида, знак принадлежности к «Группе борьбы со спекуляцией».
Впереди приземистый, в старомодной шляпе-котелке. Слева от него двухметровый, широченный человек-гора, справа худенький, вертлявый человек-вьюн. Но эти двое не имели значения, с первой секунды я понял, что смотреть нужно только на того, кто в центре.
– Я Гарбер, – сказал он сипло.
Лицо у Гарбера пугающее: грубой лепки, как у какого-нибудь грузчика или извозчика. На известного провокатора Азефа – вот на кого он похож. Фигура располневшего борца-тяжеловеса, длинные руки с огромными кистями. Глаза того типа, которые называются буравчиками, так в тебя и ввинчиваются.
Назвавшись, он ничего больше не сказал. Это его всегдашняя манера, приводящая непривычного человека в трепет.
– Очень приятно, моя фамилия Данцигер, – пролепетал я, и после этого мы молчали, не преувеличу, минуты две. Спросить «Чему обязан?» или «Как вы вошли?» я не посмел.
Кроме того, чутье подсказало мне, что не нужно проявлять суетливости. Поднявшись, я убрал за спину руки, чтоб не было видно, как они дрожат, и принялся рассматривать незваных гостей.
У здоровяка были сплющенные уши и сломанный нос. Тощий (с каким-то серым, словно не до конца прорисованным лицом) скрипел по ногтям пилочкой.
Наконец главный спросил, очень вежливо:
– Известно ли пану Данцигеру, что в Гетто иметь валюту строжайше запрещено? Она должна быть сдана властям под угрозой сурового наказания.
– Известно, – сказал я, обо всем догадавшись, но еще не решив, как себя вести. Выбор у меня тут был невелик.
– Это ордер на обыск. – Гарбер небрежно помахал какой-то бумажкой. – Если мы найдем в доме доллары, вы будете арестованы, переданы германским властям и расстреляны. Если отдадите сами, это будет считаться добровольной явкой.
При грубости и сиплости голоса говорил он мягко, очень вежливо, что показалось мне особенно жутким.
Что они найдут доллары, я не боялся. Чемодан был спрятан вполне надежно.
– У меня была валюта, но она вся потрачена на обустройство приюта. Ничего не осталось, – сколь мог твердо сказал я.
Он кивнул, будто другого ответа не ждал.
– Мышь, приступай.
Серый убрал пилочку и плавным, почти балетным шагом заскользил по помещению, крутя головой и будто принюхиваясь.
Остановился перед одним из зеркал, чем-то заинтересованный. Потрогал. Подозвал бугая, шепнул ему что-то. Человек-гора легко выдрал фальшивое зеркало из ниши, открылось окно в соседнюю комнату.
– Интере-есный у вас приют… – протянул Гарбер, просовывая туда голову. – Ищите здесь, ребята, а пан Данцигер пока отведет меня наверх.
На втором этаже я попросил шепотом:
– Пожалуйста, тише. Не разбудите малышей. Тут прятать негде. Дети нашли бы. Они всюду суют свои носы.
Не отвечая, страшный человек заглянул сначала в Морскую спальню, потом в Лесную. Лунный луч лежал прямо на личике Руты, оно казалось совершенно ангельским.
– Маловато детей для приюта, – сказал мне Гарбер на лестнице. – Похоже на прикрытие. Чем вы тут на самом деле занимаетесь?
– Поиском сокровищ.
– Это хорошо, что вы шутите. – Бугристое лицо оскалилось улыбкой, в которой не было и признаков веселости. – Со мной редко шутят. Собственно, никогда.
– Я не шучу.
И я стал рассказывать про свою педагогическую теорию, но он, похоже, не слушал.
– Наверху что?
Я объяснил. Он постоял, глядя на меня спокойными, немигающими глазками. Что-то прикидывал. Потом решил.
– Вы не боитесь, что я найду доллары. Значит, они не в доме, а в каком-то другом месте. Идемте-ка.
Крепко взял меня за локоть, повел вниз.
– Эй, ребята, кончайте искать. Приступаем к сердечной беседе.
Эти слова, видимо, были у них условленным сигналом, потому что в следующее мгновение серый подскочил ко мне сзади, взял за горло, что-то там сжал, и из меня будто вышла вся сила.
Еле переставляя ноги, я дал себя усадить. Мышь завернул мне руки за спинку стула.
Громила снял пиджак, похрустел суставами.
Гарбер стал спокойно объяснять:
– Сейчас Миллер (это не фамилия, а кличка – он растирает в муку лучше любой мельницы) будет ломать вам пальцы. Один за другим. Пока не скажете, где доллары.
И засунул в уши затычки.
Ужасная боль пронзила мой левый мизинец. Я прокусил губу до крови, чтобы не закричать, не разбудить детей.
Озадаченно посмотрев на меня, Гарбер велел:
– Еще.
Опять то же самое, теперь с безымянным пальцем. Только бы не завопить! Такое ночное пробуждение станет для воспитанников ужасной травмой, которую потом придется залечивать.
– Еще!
В третий раз, как ни странно, боль была уже не такой острой. Должно быть, начала неметь кисть.
– Ну вы и субъект, пан Данцигер. – Гарбер вынул затычки. – Я смотрю, теория о поиске сокровищ вам дороже жизни.
Значит, все-таки кое-что из моих объяснений он услышал.
– Доллары у меня есть, – сказал я, с трудом ворочая языком. Из губы по подбородку стекала кровь. – Но я их не отдам, хоть запытайте до смерти. Это лишит меня смысла жизни.
– Ишь ты… Детей, значит, любите. А если мы сейчас какого-нибудь малютку – например, ту, с ангельским личиком, притащим да обработаем? Думаете, кишка тонка? Видели бы вы, какие дела приходится проворачивать.
– Не думаю, что тонка, – ответил я. – Это будет очень тяжелое для меня зрелище, но денег я все равно не отдам. Без них дети так или иначе погибнут.
Гарбер надолго замолчал, шевеля густыми бровями.
– Ну-ка, расскажите мне про вашу педагогику еще. Поподробнее. Отпусти его, Мышь.
Никогда еще я не излагал свою гипотезу в таком состоянии. У меня ломило в висках, на левой руке будто висела раскаленная гиря. Но я очень старался и скоро, увлекшись, забыл о боли.
– Вы полоумный шлимазл, Данцигер, – сказал Гарбер минут через десять. – Надо бы прикончить вас, другим упрямцам в острастку. Но без таких психов на свете скучно. Живите, черт с вами. Мышь, вызови «скорую помощь», пану надо загипсовать пальцы.
Как я уже писал, «Двенадцатку» в Гетто боятся, но это страх, не лишенный уважения. Потому что часть своих барышей эти бандиты тратят на робингудство: подкармливают голодающих, иногда кого-то спасают или укрывают. И у них действительно есть собственная «скорая помощь», неплохо работающая. Конечно, делается это не из доброты, а по расчету. Без молчаливой поддержки населения темные дела под носом у немцев проворачивать было бы трудно.
– Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, – сказал далее Гарбер. – Возьму вас на абонемент. Платите всего 500 долларов в месяц, и за это мы гарантируем приюту полную защиту. От Юденрата, от полиции, от воров и всякой шпаны. Никто никогда вас не тронет. Соглашайтесь. Предложение выгодное.
Мне было понятно его великодушие: чем без смысла резать курицу, пусть лучше несет яйца.
– Сто, – сказал я.
Он засмеялся. Мы долго торговались и сошлись на двухстах пятидесяти. Кажется, своей торговлей я завоевал у Гарбера не меньше уважения, чем стойкостью под пыткой.
Сломанные пальцы срослись, а сделка оказалась для нас невероятной удачей. Мало того, что за все эти месяцы нас не потревожила ни одна инспекция или проверка, хотя этот род вымогательства в Гетто чрезвычайно распространен. Гарбер делает для нас намного, намного больше. При всякой проблеме – хоть водопровод прорвало, хоть крысы в подвале завелись, что угодно – я звоню Гарберу, и проблема моментально решается. Телефон, кстати говоря, тоже поставил он, это в Гетто несказанная роскошь. Кроме того, мне больше не нужно рисковать, сбывая доллары на черном рынке. Гарбер сам производит обмен, по льготному курсу.
Честно говоря, из обиралы он давно превратился в нашего благотворителя. Гарбер исправно берет свои две с половиной сотни, но его помощь и щедрые подарки многократно перекрывают плату.
Ему нравится бывать в трезориуме. Иногда он просто заходит ко мне поболтать. Гарбер – субъект весьма занятный. Его рассказы о собственной жизни невероятны, а суждения оригинальны. Представляю, что бы из него могло получиться, если бы в детстве он попал к хорошим педагогам…
Меня не занимает психологическое устройство взрослых людей, но над загадкой поведения этого – если называть вещи своими именами – убийцы и закоренелого злодея, я немало поломал голову. И вот какое могу предложить объяснение.
Гарбер – убежденный мизантроп. Его картина мира держится на том, что жизнь – сплошное Зло. Это оправдывает его в собственных глазах. А помощь трезориуму для него – что-то вроде личной слабости. Или лучика пускай бесполезной, но приятной надежды. Такое «а вдруг?». Как у Достоевского в романе «Подросток». Там художник собирается писать картину про самоубийцу, который по христианской вере должен быть обречен на вечные муки, и пускает навстречу ему с неба лучик – как надежду на то, что и этот непрощаемый грех, может быть, простится.
Ну, или я, как мне свойственно, теоретизирую и усложняю. Неважно. Важно то, с чем сегодня приходил Гарбер. Потому-то я так много о нем сейчас и пишу. Известие серьезное и тревожное.
– Работаете? – спросил он, когда я к нему вышел.
Я неплохо научился читать его грубое, вроде бы неподвижное лицо и сразу увидел: он чем-то сильно обеспокоен, но расспрашивать не стал. Захочет – скажет.
Сначала Гарбер отдал мне ампулы – «для вашей толстухи» (я ведь уже писал, что у Зоси обнаружен запущенный диабет, и если она неплохо себя чувствует, то лишь благодаря инсулину, совершенно невероятному дефициту, который где-то добывает наш добрый демон).
Я поблагодарил и осторожно сказал:
– Вы ведь пришли не только за этим?
Можно же было отправить и посыльного, у Гарбера полно всяких людей для мелких поручений.
– Тут вот какая штука… Там, – он ткнул пальцем в потолок, – появилась новая метла.
Я догадался, что «там» – это значит «в Гестапо» или «в Айнзацгруппе» (так называется подразделение СС, ведающее Гетто). Гарбер никогда не говорил мне, какое из немецких ведомств является его «куратором». Для нас этой темы просто не существовало. Да мне и неинтересно.
– Теперь я имею дело с гауптштурмфюрером доктором Телеки.
Я выжидательно молчал, не понимая, зачем он мне это говорит. Ну и странно, конечно: гауптштурмфюрер – доктор? В смысле, врач или ученая степень?
– Завтра Телеки придет сюда, в трезориум.
– Что?!
У меня потемнело в глазах. Скакнуло давление.
– Клянусь, он не от меня о вас узнал, – быстро сказал Гарбер. – Я бы ни за что на свете, слово. Скорее всего «Десятка» настучала.
Недавно у «Двенадцатки» появилась конкурирующая организация, с той же улицы, но занимающая дом номер десять. Надзирающие за надзирающими, обычная практика тоталитарной машины. Там всегда должно быть несколько соперничающих секретных структур. Я слышал, что у Гарбера сейчас тяжелые времена. Каждое утро на улице находят трупы – то с красной повязкой «Двенадцатки», то с синей «Десятки». Многие втихомолку радуются: пусть-де перебьют друг друга.
– Вызвал меня сегодня к себе в Гестапо, – продолжил Гарбер, супя лоб. (Значит, все-таки его курирует Гестапо.) – Стал расспрашивать. Тихий такой, интеллигентный, говорит вполголоса, через каждое слово «бит-те». Как очковая змея. Я думал, живым не выйду…
– Почему он придет сюда? Зачем?
– Понятия не имею. И не имел права вас предупреждать. Но будьте готовы… Не знаю, к чему.
А еще у Достоевского было про луковку, вдруг некстати вспомнилось мне. Которую злодейка один раз в жизни подала нищенке и тем обрела шанс на спасение души. Мы для Гарбера – луковка.
– Спасибо, – искренне поблагодарил я его. – Чтобы приготовиться, мне нужно понимать, что он за человек. Он какой, этот Телеки? Вы ведь хорошо разбираетесь в людях. Назовите самое главное его качество, по вашему впечатлению. Одно.
Подумав, Гарбер сказал:
– Умный. Если в черном мундире и умный – это самое опасное, что только бывает на свете.
И меня охватила лютая паника. Я и сейчас весь трясусь. Меньше, чем вначале, когда сел записывать сегодняшние события, но мысли все равно путаются.
На наш тихий, мирный Остров Сокровищ нагрянет гестаповец, да такой, что его испугался сам Гарбер! Неужели всему конец? Неужели великий проект, на который потрачено столько душевных сил и времени, столько…
В темнице там царевна тужит

Всё сразу пошло не так. Нет, не совсем сразу. Таня без проблем нашла на перекрестке люк Breslau Wasserwerk. Крышка была очень тяжелая, но поддела ее палкой, навалилась, сдвинула. Из серой уличной темноты спустилась в черную, подземную.
Думала, будет просто: на первой же развилке свернуть влево и потом только считать наверху колодцы. Но через несколько шагов Таня услышала сбоку какой-то шорох, посветила фонариком – а там большая стая крыс, сплошной массой. Когда видишь крысу в городе, она бросается наутек. Эти были неподвижны. Десятки, а может и сотни фосфоресцирующих точек. После той ночи в Гетто эти твари вызывали у Тани цепенящее омерзение, ассоциировались со смертью.
И сильная Таня дала слабину. С визгом, с гулким топотом кинулась бежать прочь. Бежала довольно долго, пока не опомнилась.
Потом, конечно, взяла себя в руки, обругала последними словами, остановилась. Но беду было уже не поправить. В панике не обратила внимания, миновала поворот или нет. Вернуться бы к началу, но как поймешь, что это именно тот колодец, через который спускалась? Да и неохота было туда возвращаться, к крысам.
Посветила туда-сюда. Кажется впереди, слева что-то чернеет. Так и есть, круглая дыра. Ответвление.
Поколебалась, но – была не была – свернула.
Исправно считала колодцы, однако уверенности, что движется в правильном направлении, не было. Все время водила лучом влево-вправо, вверх-вниз. Старалась производить побольше шума, чтобы распугать грызунов. Получалось гулко, еще и эхо подхватывало. Будто маршировал целый взвод.
Запах в подземелье был тяжелый, хуже, чем в госпитальном бункере. Там хоть вентиляция, а здесь смрад стоячей воды и, кажется, мертвечины. Зато талая вода уже почти вся сошла – зима выдалась малоснежная.
Пять колодцев Таня миновала за полчаса, но не остановилась. Чем дальше уйдешь за линию фронта, тем лучше. Чтоб уж наверняка.
Однако после девятого выхода пришлось идти обратно. Дорогу преградил завал. Может быть, кто-то наступил на мину. Или русские нарочно взорвали, чтобы немецкие разведчики не шастали.
Ладно, сказала себе Таня. Девятый колодец тоже годится. Он наверняка уже у наших.
Поднялась по скобам, но крышку поднять не сумела, хоть упиралась изо всех сил, плечами и затылком. Должно быть, люк придавило обломками.
То же вышло с восьмым колодцем. И с седьмым. Эта часть города вся лежала в руинах.
Накатила паника. Неужели придется возвращаться? Неужели всё было напрасно?
Но шестой железный круг заскрежетал, приподнялся. Таня сдвинула его чуть-чуть, сантиметров на десять. Замерла, прислушиваясь.
Видно в щель, конечно, ничего не было. Ночь. Но и звуков никаких не доносилось.
Спокойно, велела Таня колотящемуся сердцу. Дальше просто. Дождаться или рассвета, или голосов. Если заговорят по-русски – значит, всё хорошо. Но даже в этом случае до утра вылезать нельзя. А то наши в темноте, не разобравшись, подстрелят – будет, скажем так, обидно.
Устроилась под самым люком, чтобы видеть серую дугу, казавшуюся в черноте очень светлой.
Вынула из рюкзака тетин кашемировый плед, укуталась. Готовясь к путешествию, предвидела, что придется ждать.
Но понимала, что не уснет от волнения. Господи, скоро рассвет. Тьма рассеется. После стольких лет!
Быть среди своих. Где все говорят по-русски. Как мама. Как Пушкин. Там русский дух, там Русью пахнет!
Чтобы скоротать время, Таня стала декламировать вполголоса «Руслана и Людмилу». Больше занять себя было нечем, а музыка пушкинского стиха убаюкивала, будто мурлыканье вещего кота у лукоморья, и не мешала думать о другом.
Поэму Таня знала наизусть. Не только ее – весь мамин томик, от корки до корки. Когда-то неделями, месяцами читала его, чтобы забыться и чтобы услышать мамин голос, вот и выучила.
Откинувшись к бетонной стене, смотрела в пространство, вспоминала одно, другое. Бормотала:
Но вот Людмила вновь одна.
Не зная, что начать, она
К окну решетчату подходит,
И взор ее печально бродит
В пространстве пасмурной дали.
Дошла до строк:
«Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров –
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала – и стала кушать.
Сделала перерыв, поужинала (или позавтракала?) галетами, выпила из фляги холодный кофе.
Так, с Пушкиным, время до утра и пролетело.
Когда щель начала светлеть, Таня вскарабкалась наверх и очень медленно, стараясь поменьше скрипеть, сдвинула крышку настолько, чтобы пролезла голова.
Тихо, промозгло. Сырой асфальт. Над ним не то туман, не то рассветная дымка. Сквозь нее близко, в нескольких метрах, темнеет нечто плотное, громоздкое.
Пришлось еще минут пять подождать, прежде чем пелена проредилась и стало видно: это пушка. Небольшая, с коротким стволом. Почему-то скособоченная. А, это у нее отвалилось колесо. На щите что-то написано белыми буквами.
Вглядываясь в клубящееся марево, Таня разобрала первую букву. «К». Потом «a». Третья – «n» или «п». Высунулась насколько могла, потому что от этого сейчас все зависело – русская буква или немецкая?
Щекам стало горячо, радостно скакнуло сердце. Русское «пэ», без сомнений! Прочлось и всё слово. Немецкое, но написанное по-нашему: «капут». Потом вся надпись целиком «Гитлеру капут!».
Да, да, да!
И чудо: юная княжна,
Вздохнув, открыла светлы очи!
Казалось, будто бы она
Дивилася столь долгой ночи.
Вот оно какое, счастье! Таня и забыла. А может, никогда не знала. Счастье – это когда вся наполняешься радужной, звенящей силой.
Тяжеленная железная крышка, которую раньше было еле сдвинуть, легко отъехала.
Таня вылезла из-под земли на белый свет, огляделась.
Она находилась во дворе, стиснутом между домами, верхняя часть которых пока еще не просматривалась. Справа был угол, из-за него послышался шорох. Кто-то шел.
Испугавшись, что это какой-нибудь часовой, который, не разобравшись, пальнет, Таня быстро крикнула по-русски:
– Не стреляйте! Я своя!
Лязгнул затвор. Из-за угла высунулось дуло, за ним небритая рожа в каске. Немецкий солдат…
Таня зажмурилась.
– Лейтенант! Погляди, кто тут.
Голову под подушку прячут только дети. От реальности все равно не спрячешься. Поэтому Таня тут же открыла глаза.
Теперь их было трое. Еще один солдат, в дубленой крестьянской безрукавке поверх шинели, и офицер со шкиперской бородкой, в пыльном морском кителе. Стояли, пялились.
Оставалось только надеяться, что они не расслышали русской фразы.
– Слава богу! – затараторила Таня по-немецки. – Я заблудилась в тумане. Испугалась, что попала к иванам.
– Еще сто метров и попала бы, – улыбнулся лейтенант. – Ты чья, сестричка? Фольксштурмовская? Твои сменились вчера. Теперь тут мы, героический полк засранца Райнкобера.
И засмеялся.
В крепости Бреслау все полки назывались по имени командиров, и про полковника Райнкобера Таня, конечно, слышала. Полк был сборный, всякой твари по паре: и вермахт, и фольксштурм, и эсэс.
Как хорошо, что она пустилась в путь, не сменив обычного наряда: на груди распятие, на рукаве красный крест.
– Да, я из госпиталя на Штригауэр-плац, прикомандирована к батальону фольксштурма. Я знаю, что наши ушли. Но я, дура, оставила где-то здесь сумку, без нее хоть не возвращайся. Там аптечка, шприц, инструменты – всё. Старшая диакониса голову оторвет.
– Монашка, а отчаянная, – сказал тот, что в безрукавке.
– Как это ты мимо нас прошмыгнула, а мы не заметили? – подивился офицер.
Таня думала, он потребует документы, и уже приготовилась ответить, что они тоже в сумке.
Но лейтенант документов не спросил.
– Ничего не попишешь, детка. Теперь застрянешь тут до следующей ночи. Русские нас подрезали с флангов. Среди дня к своим не проберешься – секут пулеметами с двух сторон. Добро пожаловать на остров Мон-Сен-Мишель.
И опять засмеялся. Он, кажется, был весельчак.
Протянул руку.
– Мишель – это я, Михель Шредер, лейтенант Кригсмарине. Про остров Мон-Сен-Мишель слыхала? Это во Франции, я там был в сороковом. Красотища! Монастырь на приливном островке.
– На каком? – спросила Таня, еще не до конца уверенная, что выкрутилась.
– Это когда до острова можно добраться только при низком море. Вот и у нас тут то же самое. Придется тебе ждать следующего отлива. Мы не против. Верно, ребята?
– Я – точно «за», – оскалился солдат в безрукавке. Он был совсем молодой. Из-за спины у него торчал приклад, по краю весь в аккуратных одинаковых зазубринах.
Тот, что увидел Таню первым – немолодой, беспокойно похрустывавший суставами длинных пальцев, – серьезно сказал:
– Медсестра нам пригодится. Не сыщешь сумку – у нас своя аптечка есть… А чего это ты крикнула? Мне показалось, по-русски. Чуть не пальнул.
– Ага, по-русски, – с невинным видом кивнула Таня. – Думала, они. «Ne strelyaite!» Это значит: «Не стреляйте!» Один остарбайтер научил, санитар из госпиталя.
– А-а, надо запомнить. Мало ли…
И никаких подозрений. Полезно все-таки быть юной девицей с ясными глазами.
– Ребята, хорош болтать, – сказал командир. – Давай, Претцель, прикручивай колесо, пока русские не проснулись.
Объяснил:
– Вечером иваны драпали отсюда – бросили полковую 76-миллиметровку. Видишь, колесо отскочило. Отличная пушка. Красотища! И ящик вон со снарядами. Претцель у нас – мастер золотые руки. Сейчас насадит болт – и укатим к себе. Давайте, парни, давайте!
Солдаты взялись за дело. Молодой поднял колесо, Претцель чем-то звякал.
– Ты, может, и буквы русские знаешь? – спросил моряк. – Чего у них тут намалевано?
– «Гитлер капут», – с удовольствием прочла Таня.
– Поскорей бы уж, – пробормотал мастер золотые руки, вытирая рукавом лоб.
За такое высказывание в тылу могли бы и расстрелять, а тут лейтенант лишь легонько дал солдату пинка.
– Не болтай, работай, пока туман не поднялся! А то как шарахнут из депо.
Прикрутили колесо быстро, за минуту. Потом солдаты навалились, укатили орудие за угол. Лейтенант кряхтя нес снарядный ящик, приговаривал:
– Целых пять штук. Красотища!
Кажется, это было его любимое слово.
Гарнизон «острова Мон-Сен-Мишель» состоял человек из тридцати. Скоро Таня почти со всеми познакомилась.
Здесь, близ трамвайного депо и Еврейского кладбища, на пересечении городских магистралей, линия фронта стояла на месте уже вторую неделю. Вокруг были сплошные развалины. Русские напирали с юга, и на этой стороне Штайнштрассе у немцев оставался только клочок земли: два полуразрушенных трехэтажных дома и двор между ними. Гарнизон был разделен на две смены. Одна занимала дом, который был прямо на передовой и назывался «Фронт». Другая смена в это время отдыхала во втором доме – он назывался «Тыл». Сзади пролегала широкая улица с трамвайными путями. С трех сторон находились русские, но Тане объяснили, что впереди и слева густо заминировано, оттуда не сунутся. Нападения нужно ждать справа, со стороны депо – краснокирпичного здания на той стороне перекрестка. Оттуда, сбоку, простреливается весь двор. Если надо перебежать из дома в дом – то очень быстро. Тогда ничего, не успевают прицелиться.