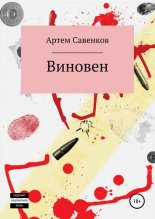Трезориум (адаптирована под iPad) Акунин Борис

Михель Шредер был подводник, родом из Бреслау. Приехал в отпуск, угодил в осаду. Он говорил, что чувствует себя на Штайнштрассе, будто в плавании. Вот подлодка с отсеками, вот экипаж. Если судьба гикнуться – так всем вместе.
Двое солдат, бывших во дворе, вроде как взяли Таню под свою опеку. «Мастера золотые руки» на самом деле звали Йени, «Претцель» было прозвищем: он, когда садился, переплетал свои длинные ноги кренделем. По профессии он был техник.
Молодого, в овчине, звали Кукук – Кукушка. Тоже кличка. Кажется, остальные считали, что этот парень малость куку. Он был снайпер, поэтому ходил не с автоматом, а с винтовкой, на ней оптический прицел, на прикладе засечки. Раньше Кукук изучал теологию в университете. Каким образом перешел от «не убий» к засечкам на прикладе – один бог, вернее, один черт знает. Глядя на улыбчивого убийцу, Таня думала: вот и вся Германия такая же. То у них Шуберт и причудницы-форели, то Гитлер и лагеря смерти.
Объявился и еще один попечитель, Францек, лесоруб из Верхней Силезии, говоривший на тамошнем смешном диалекте. Он, правда, редко раскрывал рот. Сам огромный, зверообразный, в рыжей щетине. Пялился на Таню мрачно, насуплено. Она даже забеспокоилась, стала думать нехорошее. Но он через какое-то время спросил: «Тебе сколько лет?». Она ответила, и дуболом вдруг заулыбался. «Нет, моей Магде только шестнадцать, ее на передовую не пошлют». Оказалось – беспокоится о дочке. Ее мобилизовали в военный госпиталь еще перед осадой, и с тех пор ни одной весточки.
Даже враг у Тани завелся. Санинструктор Лист, которого все звали «Лизхен». Лейтенант сказал ему: «Отдай сестренке сумку, возьми автомат. Из тебя медбрат, как из свиньи балерина». Лизхен и надулся – ему теперь после пересменки на Фронт идти.
Вообще Таня как-то моментально освоилась в островной жизни. Пан Директор сказал бы: «вросла в социум». Наверно из-за того, что у солдат на передовой жизнь короткая, как у бабочек-однодневок. И всё происходит быстро.
Пока русские не пошли в атаку, а только постреливали, делать было особенно нечего. Таня ходила по этажам, примеривалась, откуда ночью будет проще перебраться на другую сторону. Или сидела, слушала разговоры.
Поразительно, до чего тут вольно обо всем рассуждали. И офицера не стеснялись.
В «городе-крепости» на всех выступлениях и в газетах болтали о победе, о «секретном оружии фюрера», о том, что всех спасет армия генерала Шёрера, о грядущем «чуде под Берлином», когда большевиков разобьют и погонят обратно в Азию.
Здесь же на победу никто не надеялся. Только на то, что американцы возьмут Берлин раньше и подпишут мало-мальски приличный мир. Надо дать им время, а для этого необходимо как можно дольше держаться против иванов. К русским в плен никто не хотел. Загнешься в ихней Сибири от холода и голода.
Тут Францек разверз уста, говорит: «А я лесоруб, я не пропаду и в Сибири».
Лейтенант ему: «Не надейся. В плен они тебя не возьмут. Мы их тут положили видимо-невидимо. И сами пленных не берем, потому что куда их? Так что тайгу тебе не рубить. Тут сдохнешь. Потерпи малость. Нас и так от роты тридцать человек осталось».
Все приумолкли, а Таня иронически подумала: тридцать витязей прекрасных и с ними дядька их морской.
Около полудня, после особенно ожесточенной перестрелки, пришлось Тане перебраться на Фронт. Там кого-то ранили.
Францек сказал:
– С тобой пойду, – хотя их смене оставалось отдыхать еще час. Высунулся из-за угла. – Не отставай только. Нет, лучше дай руку. Упадешь, подхвачу, не бойся.
Рванул за собой. Из тени выбежали на свет, через несколько секунд опять оказались в тени. Таня ничего толком и не разглядела, только услышала, как сзади по щебенке что-то хлестко защелкало. Наверно дали очередь из трамвайного депо.
Напротив Фронта, по ту сторону узкой Менцельштрассе, в развалинах взорванной школы засели русские. Совсем близко. Поэтому у окон и амбразур все время дежурили пять человек: два пулеметных расчета и часовой на крыше.
Вот где остаться бы, прикидывала Таня, быстро бинтуя раненого. До своих отсюда полсотни шагов максимум.
Солдат был без сознания, пуля прошла через правое легкое, навылет. Поскольку в госпиталь попадет нескоро, скорее всего не жилец. И черт с ним.
– Мне нужно все время быть с ним, не то умрет, – сказала она.
Ее, конечно, оставили. Францек еще и по затылку погладил своей лапищей. А скоро произошла пересменка, и вокруг опять оказались знакомые.
Кукук перестал болтать, чуть высунулся из-за подоконника, приложившись к биноклю. Оконные проемы были затянуты сеткой. Михель объяснил, что это защита от гранат – у русских имелись мастера, которые могли точным броском кинуть лимонку через улицу.
– А у нас есть штука получше, потому что мы – цивилизация, – похвастал лейтенант. – Гляди, Хильде. Это катапульта.
Они с Претцелем установили на полу какую-то треногу с полосой резины, как на рогатке. Михель вложил ребристую гранату, натянул. Крикнул:
– Окно!
Солдат сдернул сетку, граната взлетела под острым углом вверх.
– На кого бог пошлет! – азартно крикнул моряк, приложил руку к уху.
Где-то далеко ударил взрыв.
– Метров на сто улетела. Прямо с неба на иванов, никаких мортир не надо! – засмеялся Михель. – Давай следующую!
А Кукук вдруг резко присел, отложил бинокль, потянул за ремень винтовку.
Прошептал:
– Он, точно он! Блеснуло между камней!
– Кто «он»? – спросила Таня.
– Русский снайпер. Они давно друг за другом охотятся, – ответил Францек. – Ты это, шла бы в заднюю комнату. А то отрикошетит…
И верно. Смотреть, как стреляют по нашим, было тяжело. Таня прошла коридором, среди битого кирпича, переломанной мебели, стреляных гильз, окровавленных бинтов в угловую комнату, выходившую на перекресток. В стене зияла дыра – наверно, от снаряда. В нее глядел дозорный – не затеют ли русские что-нибудь со стороны депо.
Посмотрела в пробоину и Таня.
Нет, с этой стороны нечего и пытаться. Широкое голое пространство, отовсюду простреливается. Ночью заденешь что-нибудь, и начнут палить на звук…
– Эй, – нервно сказал дозорный. – Чего-то они тут… – Оглянулся. Лицо напряженное. – Сестра, зови командира. Быстро!
Таня сбегала за лейтенантом, с ним и вернулась.
Из распахнутых ворот высунулось длинное дуло, за ним показалась зеленая броневая башня.
– Танк, – прошептала Таня.
Ротный поправил:
– Самоходка.
И заорал кому-то:
– Бауэр, не зевай там! Видишь?
– Вижу! – отозвались снизу.
Где-то на уровне земли, такое ощущение, что прямо под ногами, бухнул очень громкий выстрел. От железных ворот депо отлетела створка. Самоходка стала поворачивать ствол.
– Бауэр, скотина, живее! – закричал Михель. И Тане: – Уйди отсюда, уйди! Подальше, на тот конец дома!
Но она стояла, словно замороженная. Наблюдала, как орудийное дуло превращается в черную точку.
Внизу опять грохнуло. У русской самоходки от гусеницы полетели куски и клочки пламени. В следующий миг черная точка выплюнула огненный шар. Дом задрожал, Таню качнуло.
– Выше взял, кретин! – захохотал Михель. – Лупи беглым, Бауэр!
Трофейная пушка внизу пальнула еще трижды, потом замолчала. Из самоходки валил черный дым. Успел ли экипаж выбраться, было не видно.
На Менцельштрассе тоже стреляли, но не гулко, как здесь, а часто, дробно.
Кто-то там в комнате завопил. Лейтенант бросился на крик, а Таня осталась. Но через минуту ее позвали:
– Хильде! Хильде!
Побежала.
Несколько человек склонились на Кукуком. Тот сипел, изгибался. В левой глазнице зияла багровая дыра. Таня поразилась, как это он еще жив, но потом увидела, что пуля прошла наискось – выходное было в виске.
– Пустите, перевяжу!
– Достал русский снайпер нашего Кукука… – сказал лейтенант. – Чего он, кончается?
Таня быстро обработала жуткую на вид, но на самом деле не смертельную рану.
– Поживет еще… Ходить только пока не сможет. Тут еще и сильное сотрясение. Придется на руках нести. Вместе с тем уже двоих.
– Погоди, день еще длинный, – блеснул зубами Михель, но улыбка вышла кривая.
– Командир, сюда! – закричали теперь из угловой. – Все сюда! Атака!
– Первый расчет за мной, второй – остаетесь здесь, глядеть в оба! – приказал лейтенант.
Понесся, а за ним остальные, по коридору.
Таня посмотрела на раненых. Один без сознания, второй щупает руками толстую повязку на голове, всхлипывает.
Нет уж, лучше там.
В угловой комнате никто не стрелял. Все глядели в окна, лейтенант – в дыру. Посмотрела и Таня.
Из депо по рельсам выкатилась открытая платформа, обложенная мешками с песком или, может быть, с цементом. Над ними торчали верхушки касок. Передвижная баррикада медленно приближалась.
– Не стрелять! – приказал Михель. – Вот кретины. Спрятались! Лауниц, Завадски. Приготовить гранаты. Доедут до подбитого бронеавтомобиля – кидайте мячики к ним в корзинку. Это наши лучшие баскетболисты, – весело объяснил он Тане.
Но платформа остановилась на середине площади, немного не доехав до обугленного каркаса. Высунулись стволы автоматов. Взахлеб, сливаясь в единый заполошный треск, ударили очереди.
Лейтенант оттолкнул Таню от пробоины, сам тоже присел, но через каждые несколько секунд выглядывал наружу.
Комната наполнилась оглушительным щелканьем, яростным визгом. Лопнуло стекло на старинном посудном шкафе, внутри задребезжали тарелки. Посыпалась крошка с потолка.
– Аа…! – коротко вскрикнул сжавшийся под окном рябой солдат, имя которого Таня не запомнила. Схватился за плечо, завертелся на месте.
– Рикошеты! Чепуха! – крикнул Михель. – Перевяжи Гартманна.
На четвереньках она переползла к раненому. Кажется, перебита кость. Дрожащими руками стала накладывать проволочную шину. Рыжий больше не кричал, только мычал.
Стрельба не прекратилась, но визга и щелканья больше не было. Русские теперь обстреливали верхний этаж.
Михель выругался.
– А вот это уже хуже. Каюк нам, ребята…
Все поднялись с пола, высунулись.
Позади платформы с мешками неторопливо полз небольшой танк со странным узким дулом.
– Что это, лейтенант? – спросил кто-то.
– Огнемет. В штабе на инструктаже говорили. Броня у них хлипкая, да снарядов больше нет. Гранатой не возьмешь. А из панцерфауста пока прицелишься – с платформы подстрелят. Грамотно.
Таня про себя улыбнулась, гордая за соотечественников, что они так здорово воюют.
Претцель почесал щетину на подбородке:
– И знают ведь откуда-то, что у нас снаряды кончились.
Михель буркнул:
– Не будь идиотом. Это же их пушка. И снаряды тоже… Теперь ясно, зачем они самоходку выпускали. Чтоб мы на нее весь боезапас потратили.
– Что делать, командир?
– Драпать. Сейчас эта жестянка подтянется метров на сорок и начнет плеваться огнем во все окна подряд. Выжжет, как тараканов.
Он попятился от пробоины.
– Ребята, перебираемся в Тыл. Через двор по двое, рывком. Живо, живо!
Подошел к рябому. Тот сидел на полу, кусал губы, нянчил руку.
– Гартманн, бежать можешь?
Кивнул.
– Тогда ты первый. Марш-марш, быстрей!
Повернулся к Тане:
– От меня ни на шаг. Пойдем, на тех посмотрим.
Они вдвоем пошли по коридору в помещение, выходившее окнами на Менцельштрассе. Мимо бежали солдаты – к лестнице.
Лейтенант объяснил пулеметчикам ситуацию, велел брать «машинку» и сматываться. Покачал головой над солдатом с простреленным легким – тот был без сознания. Кукук лежал на спине, смотрел единственным глазом в потолок. Присев над ним на корточки, Михель сказал:
– Бежать можешь? Перенести тебя не получится. Срежут.
Снайпер покачал головой:
– Кружится всё.
– Тогда на. – Лейтенант вынул из кобуры пистолет, вложил ему в руку. – Иначе сгоришь заживо.
– Мне нельзя, – ровным голосом ответил Кукук. – Я христианин.
После паузы Михель покосился на Таню.
– Подожди-ка в коридоре.
Она вышла, думая только об одном. Сейчас бы спрятаться где-нибудь, пересидеть. Но ведь сгоришь вместе с домом…
Сзади грохнуло. Потом еще раз.
Появился мрачный Михель, на ходу застегивая кобуру.
– Мы последние. Они уже пристрелялись, поэтому через двор дуй, как на стометровке. Ты в школе бегала стометровку?
– Нет, я училась в католической.
– Ну вот, а стала протестантской диаконисой, – рассеянно пробормотал лейтенант, глядя на какой-то провод, тянувшийся вдоль ступенек лестницы. – Ты давай первая. Я немножко задержусь. Проверю, нет ли где обрыва… Ни о чем не думай, просто шпарь во всю прыть.
Так она и сделала. Как в прошлый раз: тень – свет – тень. Только в обратном направлении.
В дверях ее подхватили на руки, обняли.
– Молодец, сестренка. Где ротный?
– Он сейчас.
Таня раздраженно высвободилась. Может, надо было бежать не через двор, а вправо? Теперь же, наверное, придется ждать темноты…
Пришлось.
Боя больше не было. Все смотрели, как пылает соседнее здание. Потом, когда там все выгорело и пожар закончился, ждали, не займут ли почерневший дом русские. Лейтенант держал руку на коробочке, от которой тянулся провод. Оказывается, Фронт был заминирован.
Таня ужасно волновалась, но наши не дураки, соваться не стали. Выбили немчуру из опорного пункта, откусили от «города-крепости» еще один кусочек и тем пока удовлетворились.
Ночью, думала Таня. Ночью. Она уже отлично здесь ориентировалась и знала, как действовать.
Через окошко подвала выбраться во двор. Ползком вдоль пожарища. Потом на Менцельштрассе. А там уже наши. На мину бы только не наступить. Но Таня верила в свою везучесть.
Нашим она скажет: «Не тратьте зря людей. Эти немецкие солдаты сдадутся, если будут твердо знать, что вы их не убьете». А потом той же дорогой обратно. С запиской от русских или чем-то в этом роде. Ей, Тане, в роте поверят. Сложат оружие, останутся живы. И всем будет лучше. Пускай себе рубят сибирский лес.
Ей теперь не хотелось, чтобы гарнизон «острова Мон-Сен-Мишель» погиб. Особенно Михель Шредер.
Он был бы очень привлекательным со своей морской бородкой, непоказным бесстрашием, способностью не теряться в любых обстоятельствах. Если б не был немцем.
Ну и вообще – не ее тип.
Таня много думала о том, кого могла бы полюбить. И представляла себе его совершенно ясно, до мельчайших подробностей.
Внешне Он походил на Збигнева Красовского. Стройный, но крепкий. Пышноволосый шатен. С резными чертами лица, высоким чистым лбом. С серьезными внимательными глазами. Но не дубина, как Збигнев, а умный, тонко чувствующий, всё понимающий без слов. Храбрый – но не по-звериному, как Панцер-Карл, а по-человечески. И очень, очень добрый, потому что злости у Тани хватит на двоих. Сильный, но ранимый – чтобы нуждался в ее защите. Как бы она Его оберегала от любой беды! Никто никогда не причинил бы Ему вреда, пока она рядом. Ну и – это само собой – Он должен быть русский. Любящий литературу, начитанный. Услышал начало цитаты – и продолжил.
Она часто про Него мечтала, иногда даже с Ним разговаривала. Он, правда, больше слушал, как она рассказывала про свою жизнь. Но как слушал!
К концу дня Таня твердо решила, что сбежит, когда рота будет возвращаться в тыл. Боевое дежурство в городе-крепости было организовано так, что после суток на передовой бойцам полагались сутки отдыха.
Сначала сказала командиру, что лучше останется на месте, потому что опять заступят ее фольксштурмовцы. Чего зря таскаться взад-вперед? Но Шредер и слушать не захотел.
– На время пересменки здесь задержатся только пулеметные расчеты. А тебе после двух суток фронта подряд положено двое суток отпуска. И не спорь. Эту систему не дураки придумали. Когда человек долго на передовой, у него притупляется инстинкт самосохранения. От этого возрастают потери.
Велел все время быть рядом с ним. Очень боялся, что она окажется на каком-нибудь простреливаемом месте и попадет под пулю русского снайпера. Если Таня хотела отойти, Михель сразу вскидывался: «Куда?» Ей понадобилось по нужде – проводил во двор и ждал за дверью. Вот уж воистину:
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит.
И все время учил, как выжить на войне. Главное, говорил, знать, когда двигаться, а когда нет. На передовой без необходимости перемещаться не надо. Забился в щель, прикинулся булыжником. Но если надо поменять позицию – делай это четко и быстро. Перебралась – снова: бух, и застыла. Нет тебя.
Ну и прочее подобное. Надоел ужасно.
Сбегу по дороге, обещала себе Таня.
Но черта с два. Когда перед полуночью остатки роты тихо-тихо крались через широкую Штайнштрассе, Михель взял Таню за руку. Не отпускал, пока не оказались на батальонном командном пункте. А оттуда отправил в госпиталь с провожатым. Наверно, и сам бы пошел, да его к какому-то ротмистру Шмидту вызвали.
На прощанье щелкнул по носу.
– Счастливо, сестренка. Героическая ты девушка. Но больше на передовой мне не попадайся. Сразу отправлю в тыл. Нам такие живые нужны.
Назад в центр Таня плелась совершенно убитая. Наши были рядом, она их видела совсем близко – и такое ужасное невезение!
Не разучилась бы плакать – лила бы горькие слезы, а так только злобно скалилась и шмыгала носом.
Зам по строевой

– Товарищи офицеры, как вы знаете, ночью будет передислокация. Прошу слушать очень внимательно, особенно новеньким, которые из пополнения. Смотрим сюда, товарищи.
Комбат Репин взял сухую ветку, исполнявшую роль указки, повернулся к карте. В комнате, где Рэм получил от усатого адъютанта и невидимого Вали назначение в третью роту, собрались все офицеры батальона. Кто-то сидел на подоконнике, кто-то на полу, привалившись спиной к стене.
Время от времени по впалым щекам стоявшего перед картой капитана пробегала судорога, и тогда он на секунду-другую прерывался. Можно было бы подумать, что командир еле сдерживает раздражение, но Рэм, докторский сын, сразу определил по желтому цвету лица, что у комбата язва и сейчас, наверное, как раз приступ. Удивительно, сколько на передовой нездоровых людей, гораздо больше, чем в глубоком тылу, в том же Оппельне, подумал Рэм. У комроты Лысакова вон жесточайшая ангина, еле сипит. И во взводе чуть не половина простуженных. Но это всё вроде как не считается.
За столом сидело остальное батальонное начальство: замполит Левонтьев, адъютант со своими гусарскими усишками и какой-то старлей, откинувшийся на спинку стула и спустивший ушанку на самый нос. Было видно только нижнюю часть лица невероятной для фронтовых условий, прямо-таки глянцевой выбритости.
– Общая обстановка на нашем участке, стало быть, такая, – водил веткой по схеме Репин. – Город-крепость Бреслау полностью окружен нашей Шестой армией в середине прошлого месяца. Внутри, в кольце, предположительно до миллиона немцев, местных жителей и беженцев. Из них, по нашим разведданным, под ружье поставлено около 130 тысяч человек. Это вместе с фольксштурмом – выражаясь по-нашему, с ополчением. В городе огромные запасы продовольствия и боеприпасов, потому что здесь были сосредоточены военные склады. Кроме того, каждую ночь работает «воздушный мост». Десятки самолетов доставляют необходимое и увозят раненых. Одним словом, крепкий орех. Зубы обломаешь…
Капитан поморщился – словно у него в самом деле сломался зуб. Справился с приступом боли, продолжил:
– Мы и обломали, когда попробовали взять Бреслау с хода. Которые из вас были – помнят.
– Хрен забудешь, – откликнулся комроты-два, начальник Петьки Есауленко. – У меня четверть людей осталась.
– Потому что поперли напролом, ура-ура, да на заминированные мосты, да на дзоты вдоль железнодорожной дамбы, – сказал замполит. – Мы чего не учли, товарищи? Что у многих фрицев тут дом. Семьи. Что отступать им некуда. Когда крысу загоняешь в угол, она дерется насмерть.
– А нечего было лезть, – раздался голос из угла. Рэму было не видно чей. – В узкие улицы, где всюду каменные коробки. Сколько народу положили. Расхерачить с воздуха подчистую, и баста. Не было бы никакого Бреслау. И мы б тут не увязли, а пошли бы на Берлин.
– Товарищи, товарищи! – Командир постучал веткой по стене. – Тихо! Приказов верховного командования мы обсуждать не будем. Так, лейтенант Зотов? Ну то-то. А выводы какие надо сделаны. Вот отсюда, с юга, с линии Опицштрассе – Лотарингерштрассе, сильно укрепленной противником, дивизию перемещают на западный участок, в район Оппенау. Вот сюда. Сдаем занимаемые позиции 181-й и 309-й, которые подкреплений не получили, и располагаемся между Шмидефельдом и Нойкирхом. Наш полк конкретно вот здесь. – Ветка-указка ткнулась в бумагу. – Бросок будет произведен в темное время суток. Батальон пока ставят во вторую линию. Будем готовиться к новому штурму.
Тут адъютант (его фамилия была Секацкий) подмигнул, по комнате прокатился смешок – Рэм не понял, почему.
Репин обернулся.
– Зря обрадовались. Готовиться будем всерьез. Теперь у нас почти штат. Отпуск закончился. Из состава батальона выделяется сборная учебная рота. В нее включены взводы, где больше половины новобранцев. Будут учиться воевать в условиях уличных боев. По всей науке. Ответственный – зам по строевой части старший лейтенант Птушко. Эй, Валь! Спишь что ль? – обратился он к дремлющему старлею.
– За…закемарила малость, – ответил зам по строевой, сдвинул шапку на затылок и оказался молодой круглолицей женщиной.
Комбат гордо кивнул на нее:
– Знакомьтесь, кто еще не видал. Наша знаменитость. Валентина. Одна такая на всю армию: женщина – боевой офицер фронтовой пехоты. С сорок первого года воюет. Про нее сколько раз в газетах писали. Всё знает-умеет лучше любого мужика. И вас научит. Давай, Валя, тебе слово.
Репин прижал рукой верх живота, ссутулился, сел.
Женщина встала, сняла ушанку. Волосы оказались стриженными по-мужски, под полубокс. Подавила зевок, потерла глаза.
– Извиняюсь, товарищи. Ночью ездила с квартирьерами, смотрела новые позиции… Коль, – обернулась она к комбату. – Давай отпустим «старичков». Зачем им зря время терять?
Капитан кивнул. Глаза у него были страдальчески зажмурены.
– Ага. Тогда так. – Она достала листок. – У меня тут записаны взводы, поступающие в мое распоряжение. – Прочла пять фамилий, в том числе Рэма, причем фамилию повторила: – …Есауленко, Клобуков… Клобуков… – И еще раз, будто пытаясь что-то вспомнить: – Клобуков… Остальные свободны. Чего ученых учить? А кто со мной – пойдем на улицу. Там весна, солнышко.
Рэм и еще четверо вышли за удивительным замком-бата во двор. Сели на бревна. Валентина Птушко встала перед ними. Теперь – вблизи, при ярком свете – Рэм разглядел ее получше.
Наградные колодки в два ряда, четыре нашивки за ранения. Ого! Широкий обветренный лоб, небыстрый взгляд, плотный подбородок. Не мужчина, но и не женщина. Наверно, такой была Василиса Кожина, партизанская командирша, командовавшая мужиками в ту первую Отечественную.
Остальные взводные, такие же младшие лейтенанты, как Рэм, тоже смотрели на диковинного начальника, верней начальницу, и, похоже, ничего хорошего не ждали.
Старший лейтенант улыбнулась, и сразу стала похожа – нет, не на женщину, а скорее на простого, приветливого парня.
– Обычно на фронте офицерам, только что прибывшим из училища, говорят: «Всё, чему вас там учили, забудьте, на фронте это не пригодится». Я вам такого говорить не буду. На фронте вам всё пригодится: и тактика, и знание уставов, и строевая. Но потом, не в Бреслау. Вот я, как вы слышали, с сорок первого года воюю, а тут пришлось всему учиться практически с нуля. Курс наук у нас будет специфический. Только два предмета. Первый: как брать с боем городские постройки. И второй: как это делать с наименьшими потерями. Именно в такой последовательности, к сожалению.
Что было удивительно, говорила она, не пытаясь изображать мужчину, а совершенно по-женски. И речь была правильная, как у преподавателя.
Не Василиса Кожина, а скорее Комиссар из «Оптимистической трагедии», скорректировал первое впечатление Рэм. Но Птушко опять улыбнулась, как-то совсем не по-командирски, и он опять мысленно поправился. Комиссарша была жесткая, потому что хотела что-то доказать революционным матросам, а эта уже давно всем всё доказала, поэтому ничего из себя не изображает.
– Когда я под Москвой попала в ополчение, санитаркой, нас ничему не учили, времени не было, – продолжила инструкторша. – Только винтовку заряжать да на спуск жать. И сразу кинули на фронт, затыкать дыру. Там, в дыре, весь наш батальон и лег. Почти что без толку. Фрица мы задержали максимум на полчаса. А тут у нас будет по-другому. Я нашла отличное поле для учебного полигона. Боеприпасов для стрельб навалом. Погода тоже неплохая. Единственно – неизвестно, сколько времени до штурма. Поэтому наша с вами задача успеть как можно больше. Учиться будем все время. Бойцам – шесть часов на сон, и в течение дня три часовых перерыва. У вас, командиров, и того не будет. Нужно твердо понять одно: чем больше успеем, тем лучше будем воевать, а значит, быстрее закончим и меньше народу похороним. Напоминайте об этом вашим бойцам сто раз в день. На лишнее ни минуты тратить не будем. Окапываться, строем ходить, песни орать – это всё не для нас.
Слушали ее очень внимательно, еще лучше, чем комбата. А Рэм поймал себя на том, что чувствует себя будто в школе, на уроке, причем не на какой-нибудь тоскливой биологии, а на физике, которую так потрясающе вел Лев Львович, их классный.
– Учеба будет разбита на три этапа. Это как школа трех ступеней. Начальная – четыре дня. Занятия будут вестись поотделенно: как правильно ползать, перебегать, быстро заменить-зарядить диск, исправить заклин, перебежать-укрыться. И, конечно, первая медпомощь при ранении: товарищу и себе. Научим бойцов накладывать жгут, делать из подручного материала шину, а еще со склада прислали американские шприцы с противостолбнячной сывороткой. Это очень здорово, много жизней спасет.
Рэм поднял руку, но Птушко угадала вопрос.
– Как будут организованы поотделенные занятия? Очень просто. В каждом взводе есть ветераны. Они всё это умеют, покажут. Я тоже буду приглядывать. За день обойду всех, и не один раз. А через четыре дня устрою экзамен. Лично проверю готовность и каждого отделения, и каждого бойца. С этим ясно?
– Более-менее, – солидно сказал Петька.
– Хорошо. Потом будет школа второй ступени. Считайте – семилетка, потому что рассчитана она на семь дней. Действие взводом в условиях уличного боя. Действие в составе штурмовой группы, в танковом десанте и прочее. Будем штурмовать развалины и уцелевшие дома в освобожденной части города. Ну а если у нас после этого еще останется время – поучимся в старших классах. Тут пойдут всякие специальные хитрости и тонкости – наука, которую мы постигли в Бреслау и за которую дорого заплатили. Вот так. Вопросы есть?
Рыжий парень, кажется, из второй роты, игриво поинтересовался:
– Товарищ старший лейтенант, а про институт вы нам расскажете?
– Мы сейчас не в строю, а просто разговариваем, – ответила она, дружелюбно на него поглядев. – Поэтому зови меня «Валя» и на «ты». На институт у нас времени точно не будет. Десятилетку бы пройти – уже много.
– Ну а если было бы время? – не унимался рыжий.
– Тогда поучились бы «смежке». Научили бы каждого бойца быть и пулеметчиком, и минометчиком, и связистом, и даже наводчиком «сорокапятки». Тогда были бы наши солдаты не хуже фрицев.
– А так – хуже? – обиделся Петька.
– Конечно, хуже, – спокойно сказала Валя. – Немцы своих новобранцев знаешь как натаскивают? Минимум три месяца боевой подготовки. Потому и потери у них меньше, чем у нас.
– Зато в рукопашной наш всегда фрица порвет, – буркнул Есауленко.
– Ой, забыла! – Валя хлопнула себя по лбу. – Молодец, что напомнил. К восемнадцати ноль-ноль от каждого взвода пришлите по три человека. На инструктаж по рукопашке. В городе она все время нужна. Покажу несколько приемов, чтоб научили остальных. Присылайте не бугаев, а шустрых. Сила тут особенная не требуется, только сообразительность и реакция. Еще вопросы?
Вопросов не было.
– Тогда пять минут покурите, перемойте мне косточки – и по взводам, – засмеялась она. Взглянула на часы, слишком большие для тонкого запястья. – В одиннадцать приступайте к занятиям. Поотделенно. Перерыв на обед в четырнадцать. Ночью передислокация, поэтому завтра дадим личному составу поспать до девяти. В дальнейшем занятия начинать с восьми утра. Пока. Увидимся.
– Валь, а с нами покурить? – сказал рыжий, но уже не так бойко, как раньше. Известие о том, что старший лейтенант Птушко еще и инструктор по рукопашному бою, на всех произвело впечатление.
– Я медичка. Не курю. Для легких вредно.
– А воевать не вредно? – подал голос до сих пор молчавший взводный из первой роты. Он все время смотрел на Валентину исподлобья, ни разу не улыбнулся.
– Если на фронте убьют или покалечат – тут ничего не попишешь. А за просто так свое здоровье губить?
И пошла.
– Бой-баба, – шепнул Есауленко.
Мрачный сплюнул табачную крошку:
– Вообще не баба.
А Рэм курить и трепаться не стал. Отправился к взводу.
Все-таки очень ему повезло с помощником. Санин еще вчера, будто заранее знал про учебу, предложил раскидать людей так, чтобы в каждом отделении были фронтовики и «несломанные». В отделенные предложил Хамидулина, Носова и Ходжаева, дагестанца, все трое из «стариков». Рэм обратил внимание, что бывший майор ведет себя с ними по-разному. С рассудительным Хамидулиным он был разговорчив, со звероватым сибиряком Носовым немногословен, к дерганому, будто искрящемуся злостью Ходжаеву обращался исключительно по уставу. При этом не отдавал приказы, а будто советовался. Когда Рэм спросил – почему, Санин ответил, что каждый из отделенных чем-то хорош, а чем-то плох. Как вообще все люди. Главная задача командира – пустить бойца по течению, а не против.