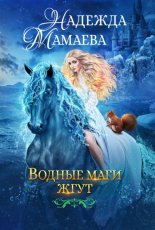Мюзик-холл на Гроув-Лейн Брандиш Шарлотта

Многодневный морской переход из Шанхая завершился с полным успехом, и 26 июля 1935 года Корабль Его Величества «Саффолк», оснащённый четырьмя паровыми турбинами, бросил якорь в гавани Портсмута. Мешкать не стали, и разгрузка началась немедленно.
Вместительные сундуки, обитые стальными листами, спешно выносили из трюма и бережно, со всеми предосторожностями, ставили на палубу крейсера таким образом, чтобы они образовывали аккуратные ряды с узкими проходами. Всего их было девяносто три, каждый сундук был заперт на внушительного вида замок, и на всех без исключения можно было заметить красные ленты, испещрённые иероглифами.
За разгрузкой пристально наблюдал сухопарый джентльмен в пенсне и стёганом суконном пальто, слишком тёплом для этого времени года, но отлично защищающем своего владельца от порывов сырого ветра, дующего с пролива. Когда один из матросов крейсера оступился на скользкой палубе и раздался глухой звук удара железа о дерево, джентльмен поморщился и, стремительно подойдя к виновнику, допустившему оплошность, наклонился к нему и сделал резкое замечание. Светлые глаза его за стёклышками пенсне сузились от гнева, пальцы непроизвольно сжали карандаш в кармане пальто, чуть не сломав его пополам. Выпрямившись, он натянуто улыбнулся, адресуя свою улыбку представителю китайской стороны, но тот остался невозмутим, и ни одна мышца не дрогнула на маленьком бесстрастном лице.
Пока сундуки выгружали из трюма, пока медленно сносили по трапу, наблюдающие сохраняли молчание. Ветер внезапно утих, затаился где-то высоко в оснастке корабля и теперь забавлялся тем, что заставлял полотнище флага отсюда, с палубы казавшееся размером не более носового платка, отчаянно трепетать, словно язычок пламени, сражающийся со сквозняком. Воды гавани в свете догорающего дня отливали тусклым оловом и с вкрадчивым плеском толкались в борта судна, пока ветер не сменил направление и не нагнал серые тучи, угрожающе повисшие над головой. Джентльмен в пенсне поднял воротник пальто и мысленно похвалил себя за предусмотрительность.
Разгрузка длилась до самой ночи, и всё это время портсмутская гавань была заполнена королевской охраной в штатском. Один за другим к трапу подъезжали крытые брезентом фургоны и увозили затем сундуки с бесценным грузом в направлении железной дороги. Всё шло по установленному плану, без проволочек и досадных недоразумений, и краснеть перед иностранцами не приходилось, но джентльмен в суконном пальто, а это был не кто иной, как сэр Персиваль Дэвид, директор выставки, видный учёный и страстный коллекционер китайских марок и керамики, всё равно был взвинчен до предела и по своему обыкновению ожидал всяческих неприятностей.
Глава первая, в которой Эффи Крамбл и Имоджен Прайс предпочитают смирению месть, а Марджори Кингсли и Лавиния Бекхайм терзаются ревностью
– Да её убить за это мало, миссис Бенни! Вот честное слово, попадись она мне сейчас, я… Я просто не знаю, что бы я с ней сделала!
Эффи Крамбл, субтильная узкоплечая блондинка с остреньким подбородком и лицом простоватым, но выразительным и не лишённым своеобразной прелести, сжала миниатюрный кулачок и потрясла им перед собой. Другая рука девушки скрывалась в уродливом коконе из серого гипса и не слишком чистых бинтов.
– Ну, уж прямо. Не стоит так злобствовать, золотко, – осуждающе покачала головой миссис Бенни, передавая Эффи чашку, наполненную тёмно-рубиновым чаем и блюдце с половинкой тоста, смазанного тончайшим слоем маргарина.
Несмотря на обуревающие её чувства, Эффи красноречивым взглядом выразила недовольство крошечной порцией, и миссис Бенни, заметив это, в обычной своей манере категорично пресекла все возражения:
– Растолстеешь – не поместишься в коробку и пробкой вылетишь из номера. Да и костюмы перешивать придётся.
Эффи вздохнула, признавая её правоту, и, капитулируя, приняла блюдце с тостом. Чашку с чаем она поставила на круглый умывальный столик, который вместе с невесть как затесавшимся сюда креслом-качалкой и узкой кроватью составлял всю обстановку её тесной комнатки в пансионе на Камберуэлл-Гроув. Даже платяной шкаф сюда не влез, заняв место в коридоре, прямо напротив двери, и по утрам, чтобы одеться, приходилось ждать, когда уляжется суета и можно будет без помех достать платье и чулки.
– Но всё же, миссис Бенни, что же мне теперь делать? – губы у Эффи задрожали от обиды. – Ведь я так этого ждала, так надеялась! Как же она могла так бессовестно со мной поступить?!
Миссис Бенни, или, как её любовно прозвали в труппе «Лицедеи Адамсона», Мамаша Бенни, наклонилась к ней и утешительно похлопала по колену.
– Хватит слёзы лить, – мягко посоветовала она, хотя Эффи ещё даже не приступала к полноразмерным страданиям. – Бог ей судья, этой выскочке. Она своё ещё получит, вот увидишь. Тут надо как можно быстрее связаться с этим мистером, что тебе ангажемент обещал, и без обиняков ему сказать, что так, мол, и так, произошло недоразумение, и на выступлении он видел другую актрису.
– Я уже!
Тут Эффи, не вняв доброму совету старшей подруги, мгновенно залилась слезами. С ошеломляющей быстротой, больше похожей на какой-то ловкий трюк, слезинки покатились по её подвижному личику, закапали на воротник халата из шерстяной фланели, на тонкий, почти прозрачный ломтик хлеба.
– Я уже, уже позвонила ему! Сразу же, как всё узнала! И он… – она всхлипнула, стиснула воротник здоровой рукой, судорожно вздохнула и продолжила: – И он мне сказал, что её уже утвердили! Им, оказывается, непременно нужна брюнетка! И ещё он сказал, что других ролей для меня у них нету! Вы и не представляете, миссис Бенни, какой это был ужасный разговор! – Эффи закатила глаза к потолку. – Ну просто сущий кошмар! Со мной никто никогда не говорил в подобном тоне. Он обращался ко мне: «Голуба моя!» Представляете? Ума не приложу, что ему наговорила про меня эта…
– …Ну-ну, золотко, не будем сквернословить, – миссис Бенни, в прошлой жизни много лет простоявшая за стойкой паба, принадлежавшего её мужу, ныне покойному, не терпела бранных слов в своём присутствии.
– Да я так зла, миссис Бенни, так зла, что меня всю буквально трясёт. Или это от холода? – Эффи прижала ладонь к щеке и вскрикнула: – Ну конечно! Я так продрогла, что у меня руки как ледышки!
Она бросила быстрый изучающий взгляд на свою гостью, а затем решительно достала из сумочки плоскую фляжку в потёртом замшевом чехле.
– Мне просто необходимо согреться, – пояснила она, подливая немного бренди в свою чашку с чаем, – а то не хватало ещё слечь, как два года назад. Не желаете ли капельку, миссис Бенни? – и она протянула фляжку гостье.
Та покачала головой, отказываясь, и, сделав большой глоток чая, поинтересовалась:
– Ты, золотко, лучше мне вот что расскажи: кто тебе сообщил, что она обскакала тебя с ролью?
От возмущения слёзы Эффи высохли так же стремительно, как и появились.
– Она, миссис Бенни, она же сама мне и сказала! И уж вся светилась от восторга, ярче, чем гирлянды на Трафальгар-сквер в рождественскую ночь. И смотрела на меня с этакой мерзкой ухмылочкой, точно ждала, когда я разрыдаюсь у неё прямо на глазах! Вы, миссис Бенни, непременно подумаете обо мне дурно, да только я уже решила, что сделаю. Да, да! Я так просто этого ей не спущу! Проберусь после вечернего представления к ней в гримёрку и вырву с корнем этот её уродливый цветок, над которым она так трясётся! Пусть он зачахнет, пусть! Это, похоже, единственное, чем она дорожит. И… и всё расскажу про неё Эдди! Он, дурачок, увивается за ней и знать не знает, какая она на самом деле гадкая. И не останавливайте меня, миссис Бенни. Я знаю, что это дурно, но она не оставила мне другого выбора, вы же видите!
Эффи вынула из пузатой дерматиновой сумочки, лежавшей рядом на подушке, носовой платок и осторожно промокнула лицо, стараясь не смахнуть остатки пудры. Торопливо опустошила чашку с чаем наполовину и переставила её на столик. Затем она бережно прикрыла повреждённую руку здоровой и, тихонько раскачиваясь, несколько минут безучастно смотрела в окно, за которым сгущались сизе сумерки. В этот час, когда весь театральный люд предавался отдыху в перерыве между дневным и вечерним выступлениями, в пансионе миссис Сиверли было на редкость спокойно, и тишину комнаты нарушал только уютный скрип кресла-качалки да едва различимый бодрый говорок радио, доносившийся из комнат хозяйки.
– А ведь это, миссис Бенни, был мой последний шанс, – вздохнула Эффи, и тон её был лишён всякого налёта театральной драматичности, которым частенько грешат актрисы.
– Ну, уж и последний, – Мамаша Бенни выпрямилась в кресле и с преувеличенной горячностью принялась убеждать Эффи, что всё у неё впереди, и сценическая карьера дело такое – сегодня пусто, а завтра густо, и что в Театре Флоссома не раз ещё о ней вспомнят, и что подлинный талант всегда найдёт свою дорогу к зрителю, и множество подобной этому жизнеутверждающей чепухи, в которую обе женщины на самом деле никогда не верили, но одна считала своим долгом всё это говорить, а другая слушать.
Когда Мамаша Бенни – чуть более пышная, чем следовало, и чуть более смуглая, чем можно было ожидать от уроженки графства Монмут – закончила свою полную оптимизма речь, Эффи порывисто сжала её тёплую ладонь:
– Миссис Бенни, погадайте мне! – попросила она.
Та, не отнекиваясь, поставила свою чашку на столик, с готовностью вынула колоду из кармана и, придвинувшись вплотную к кровати, принялась раскладывать карты. Первым на пёстром лоскутном покрывале появился юноша в колпаке с колокольчиками и с котомкой за спиной. Справа от него легла карта, изображавшая руку, сжимающую посох, слева – карта с тремя танцующими девами, поднимающими золотые кубки. Нахмурившись, гадалка добавила в расклад ещё одну. Сверху, над улыбчивым юношей, она выложила карту, изображавшую лежащее на земле тело, пронзённое девятью мечами. Губы её сжались в тонкую линию, и она неодобрительно покачала головой.
– Что там, миссис Бенни? – Эффи не скрывала тревоги. – Что-нибудь нехорошее?
Та быстрым движением руки перемешала карты и вернула их в колоду.
– Чепуха какая-то получилась. Что-то я сегодня не в форме, ты уж, золотко, прости.
Раздался дробный стук, дверь распахнулась и на пороге, освещённая тусклым светом коридорных ламп, появилась миниатюрная девушка с охапкой нарядных платьев на вешалках.
– Та-дам! – она приложила одно из них к себе, крутанулась на месте и ликующе заявила: – Эффи, милочка, ты только посмотри, какой сюрприз нам приготовил мистер Пропп! Уверена, ты будешь в восторге!
Не услышав радостных восклицаний в ответ, Имоджен Прайс внимательно оглядела расстроенные лица коллег по театральной труппе. Её улыбка погасла, она решительно прошла в комнату и бросила сценические костюмы на кровать, не заботясь о том, что они могут помяться.
– Ну, рассказывайте, что эта гадкая особа ещё натворила?
В гримёрку, освещённую лишь парой светильников с плафонами из зеленоватого помутневшего стекла, вошёл высокий представительный джентльмен во фраке, цилиндре и белоснежных перчатках. Он прикрыл за собой дверь, аккуратно и неторопливо снял перчатки и уложил их в коробку, стоявшую на гримёрном столике, в которой находились несколько запасных пар, обёрнутых замшевой бумагой. Закинул руки за спину, повозился неловко, расстёгивая пуговицы, которые почему-то находились не на подобающем им месте, и, не без труда сняв фрак, повесил его на безголовый манекен, бережно расправив фалды и щелчком сбив с плеча невидимую соринку.
Под фраком обнаружились белоснежный жилет и батистовая рубашка несколько меньшего размера, чем это принято у джентльменов, предпочитающих выглядеть по старомодному изысканно, и чёрные прямые брюки, которые по-хорошему давно было пора расставить в поясе. Джентльмен отцепил пышную манишку, перепачканную гримом, и бросил её в корзину, затем снял цилиндр и, когда удерживаемые им золотисто-каштановые волосы рассыпались по его плечам, преображение завершилось.
Напротив зеркала, привычно избегая смотреть на своё отражение, стояла молодая девушка, очень широкоплечая, с крупными руками и резкими чертами лица, впрочем, не лишёнными некоторой привлекательности. Она не была красива и прекрасно знала об этом, давно смирившись со своим внешним обликом. Природа отказала ей даже в той миловидности, что зачастую свойственна юности, но вот глаза её – широко распахнутые, тёмно-серые, как лондонское небо в ноябре, опушённые такими густыми и длинными ресницами, что те казались данью ухищрениям опытного гримёра, были по-настоящему хороши. Глаза и, пожалуй, волосы – пышные, сияющие приглушённым мягким блеском в свете настенных ламп.
Кто-то пробежал по коридору, послышались весёлые восклицания. Она встряхнулась, быстро сняла остатки сценического костюма, оставшись лишь в одной шелковой сорочке со следами аккуратной штопки, и принялась торопливо снимать грим. Стерев остатки кольдкрема, припудрила лицо и распахнула шкаф, где висели несколько платьев. Поколебавшись, выбрала самое нарядное – лиловое, скрадывавшее её крупную, лишённую волнующих изгибов, фигуру, – и торопливо натянула его. Ловко застегнула мелкие пуговки на груди, причесалась, старательно взбивая над широким выпуклым лбом примятую цилиндром чёлку.
Из сундучка, задвинутого в самый уголок шкафа, она вынула роскошную коробку шоколадных конфет, крест-накрест перевязанную золотистой муаровой лентой. Немного постояла с коробкой в руках, с задумчивой нежностью проводя пальцами по гладкому картону, а потом одёрнула воротничок платья и отправилась на поиски того, кому предназначался сладкий дар.
В коридоре было пусто, и она, никем не замеченная, тайком поднялась по неприметной лестнице на следующий этаж, где располагались гримёрные актёров.
Напротив зелёной двери с плоским жестяным номерком она остановилась, старательно выравнивая участившееся от волнения дыхание, быстрым движением поправила волосы и деликатно постучала.
Дверь открыл молодой человек весьма приятной наружности. Его светлые волнистые волосы обрамляли мужественное лицо с выпуклым подбородком; широко посаженные, чуть навыкате, ярко-голубые глаза взирали на мир с детским простодушием и с великолепной, внушающей зависть уверенностью в себе, которая больше свойственна представителям высшего класса, а не актёру странствующей труппы. Сейчас, когда до его выхода на сцену оставалось не более четверти часа, он был одет в безупречно сидевшие белоснежные брюки и короткий светлый пиджак, и этот сценический костюм лишь подчёркивал его изящную, но вместе с тем атлетичную фигуру.
– О, Эдди, я всего лишь на минуточку! Не хочу тебя отвлекать перед выступлением…
– Лучше войди, Марджори, – он неохотно отошёл в сторону, освобождая проход, и, хотя голос его был преувеличенно бодрым, радости в нём не слышалось.
Девушка на секунду замерла, не отводя взгляда от лица молодого человека, а после неловким движением вынула из-за спины коробку с конфетами и протянула её, шагнув вперёд. Она улыбалась, но на душе скребли кошки, и шею обдавало жаром, как если бы она чересчур близко подошла к пылающему камину.
Эдди сделал шаг назад, потом ещё один. На его лицо набежала тень, и видеть это Марджори было невыносимо.
– Я просто подумала, мне одной она ни к чему, а мы могли бы как-нибудь вместе выпить чаю и поболтать, – заговорила она торопливо и весело, стараясь быть естественной и не выдать, как больно её ранит его холодность.
– Тебе не следовало… – с усталой досадой произнёс Эдди, проводя ладонью по волосам, отчего на гладкий лоб упала волнистая прядь.
Такими волнистыми бывают волосы после морской воды, после того, как солнце высушит их, сделав жёсткими от соли, а ветер наполнит ароматом водорослей и неуловимого счастья. Взгляд Марджори остановился на руке Эдди Пирса – на широкой ладони с длинными пальцами и перламутровыми, как изнанка морской ракушки, чистыми округлыми ногтями.
– Марджори, я ведь тебя уже просил об этом. Незачем ставить и себя, и меня в глупое положение, – в тоне его появилась жёсткость, будто его слова тоже побывали в морской воде и высохли на ветру, как льняные салфетки, измятые после пикника.
Он так и стоял в отдалении от неё, не принимая подарок из протянутых к нему рук, и ей не оставалось ничего иного, как положить коробку на гримёрный столик. После этого говорить больше было не о чем, и надо было уходить, но она не удержалась.
– Это всё из-за неё, да? Из-за Люсиль? Из-за неё ты больше не хочешь быть мне другом?
– Что за глупости, Марджори. Мы по-прежнему друзья с тобой. Просто я не хочу, чтобы ты выдумывала себе всякую чепуху, – он, наконец, высказал то, что давно собирался, и это освободило его и сделало жестоким. – Пойми, я о тебе же забочусь, и потому не хочу, чтобы ты выставляла себя на посмешище.
В дверь постучали. Джонни Кёртис, второй участник танцевального дуэта, заглянул в гримёрку напарника и, никак не показывая того, что заметил в ней Марджори Кингсли, флегматично предупредил:
– Арчи с Лавинией уже закончили. Нас объявят через пять минут.
Облегчение, появившееся на лице Эдди, сказало Марджори больше, чем все его недавние слова, и она быстро выбежала из его гримёрной, стараясь сжаться в своём крупном теле и никого не задеть.
Он отвергал её уже не в первый раз. На прошлой неделе, после дневного представления, она специально попалась ему на пути – предложила вместе пройтись, выпить по чашке чая в закусочной, поболтать о том о сём. Она была так же весела и беспечна, как те девушки, что стайками порхали по оживлённой Денмарк-хилл, задорно стуча каблучками, и на ней была надета новая шляпка, которая очень ей шла и стоила в два раза больше, чем она могла себе позволить.
Но чуда не случилось. Эдди отклонил её приглашение и разговаривал с ней сухо и бесстрастно, хуже, чем со случайной знакомой. Пока они говорили, его ротанговая тросточка выбивала по асфальту нетерпеливое стаккато, а глаза смотрели куда угодно, но только не на неё.
Она тогда забежала в первый попавшийся кинозал, в его спасительную темноту, и сидела там до самого окончания ленты, бездумно наблюдая, как зеленоглазая красотка с капризным гуттаперчевым личиком льёт глицериновые слёзы, и на какое-то время ей стало легче. Но после того как титры побежали по экрану и немногочисленные зрители принялись выбираться со своих мест, преодолевая препятствия в виде кресел так, словно шли по колено в воде, воспоминания недавнего позора вновь заставили её корчиться от жгучего стыда.
Вот и сейчас она шла по коридору, ничего не видя от выступивших слёз, и в очередной раз давала себе зарок навсегда забыть, выжечь в памяти тот летний день на побережье, когда лазурная морская гладь и опрокинутая синь небес внушили ей надежду на счастье.
Просторная, с той же высотой потолка, что и в вестибюле, и с такими же великолепными висячими люстрами, льющими яркий свет, многократно умножаемый зеркалами, костюмерная в театре «Эксельсиор» была царством Гумберта Проппа, где он безраздельно властвовал над платьями, фраками, смокингами, костюмами и шляпками. Вся эта деликатнейшая роскошь, хоть и являлась формально собственностью антрепренёра, на самом деле принадлежала ему и подчинялась лишь его умелым рукам.
Подобно главнокомандующему, каждое утро он проводил смотр своего шуршащего, пенящегося кружевами и сияющего шелковыми лацканами войска, расположенного на бесчисленных манекенах, стоявших вдоль стен, обитых плюшем. Ни одна мелкая пуговка, повисшая на нитке, или же кусочек оторвавшейся тесьмы не смели нарушить безупречное великолепие сценических костюмов, а если это и случалось по небрежности актёра или актрисы, две ловкие приходящие горничные, без устали утюжа, отпаривая и подшивая детали туалетов, нуждающихся в починке, возвращали нарядам тот лоск, которого они заслуживали. И только в самом углу, подальше от любопытных глаз, на передвижной конструкции с колёсиками располагались костюмы, работу над которыми Гумберт Пропп никогда не доверял чужим рукам.
Вечернее представление завершилось, но, несмотря на поздний час, он, бережно поддёрнув брючины на тощих ногах, стоял на коленях перед манекеном, облачённым в пышное платье из нежно-розовой, леденцового оттенка тафты.
Вооружившись подушечкой с иголками, хмуря высокий лоб с глубокими залысинами и вполголоса мурлыкая себе под нос бравурную песенку, Гумберт Пропп так и этак закалывал материю, всякий раз оставаясь недовольным результатом.
От работы его отвлекли торопливый перестук каблучков и звонкий голос, выпевающий заключительный куплет моряцкой песенки, которой всякий раз оканчивалось субботнее выступление:
- И в штиль, и в самый ужасный шторм,
- Я лишь одного хочу,
- Увидеть тебя ещё разок, милая,
- А об остальном промолчу!
Мисс Имоджен Прайс танцующей походкой пересекла костюмерную и, выдвинув на середину комнаты плетёное кресло, демонстративно упала в него, откинувшись на спинку и вытянув перед собой стройные ноги в узких коротких брючках, составляющих вместе с тельняшкой в талию и фуражкой с низким козырьком премилый ансамбль, наводящий на мысли о безмятежных морских прогулках. Фуражку она тотчас сняла и небрежно бросила на стол для раскроя тканей, отчего стала ещё больше похожа на расшалившегося юнгу, украдкой хлебнувшего рома.
Пригладив медового цвета локоны, она взглянула в зеркало и капризно пожаловалась манекену в смокинге, шутливо подёргав его за рукав:
– Терпеть не могу эту фуражку, слышите? Всякий раз, когда её снимаю, я похожа на страшилище. И следы на лбу остаются. Гумби, вы должны, вы просто обязаны с ней что-то сделать! Этот околыш, он слишком узкий для моей огромной головы. Не понимаю, зачем вообще нужна эта штука, ведь даже распоследнему болвану в зале ясно, что мы с этой гадкой Люсиль Бирнбаум – девушки.
Гумберт Пропп, обычно молчаливый, в присутствии мисс Прайс оживился и, пока она с недовольной гримаской разглядывала себя в зеркале, принялся уверять девушку, что нет, голова у неё ну просто истинный образец идеальных пропорций, и да, с фуражкой он непременно сделает что-нибудь такое, что обуздает её зловредный нрав.
Неловкие, но, вне всяких сомнений, искренние комплименты слегка успокоили мисс Прайс, и она соблаговолила поинтересоваться, чем же таким секретным занят костюмер труппы в столь поздний час, когда большинство актёров и актрис спешат в пансион в надежде получить сытный ужин и чашку чая или сидят в пабе за углом, согреваясь стаканчиком горячительного. Вместо ответа он показал ей свою работу, выдвинув манекен с платьем, и на лице его появилось горделивое выражение, ведь нежно-розовое облако рюшей и оборок предназначалось, конечно же, для мисс Прайс и номера, в котором она изображала нарядную куклу, покидавшую картонную коробку и принимавшуюся петь и танцевать под светом волшебного фонаря.
– Я тут подумал, мисс Прайс… То платье, в котором вы выступаете сейчас, не слишком-то годится для вас. Светло-зелёный – опасный цвет, в лучах софитов он придаёт лицу желтизну, а у меня как раз имелись четыре ярда превосходной розовой тафты…
– Ох, мистер Пропп, я просто с ног валюсь, – прервала она его, вновь откидываясь на спинку кресла. – Кажется, что больше не смогу сделать ни шагу. Эта противная Люсиль танцует из рук вон плохо, а поёт ещё хуже, и мне приходится отрабатывать за двоих. Угораздило же недотёпу Эффи отправиться за жареными каштанами и сломать руку. Как будто ей неизвестно, что возле колонки мальчишки устроили настоящий каток! И когда?! В самом начале сезона! Девочки тоже жалуются на Люсиль, и неудивительно. До чего же она подлая! Сегодня, например, кто-то из зрителей бросил на сцену плюшевого зайца, так она подхватила его и утащила в свою гримёрку! А вчера, когда я отправляла на почте посылку… – Имоджен вдруг осеклась, как если бы сказала больше, чем намеревалась, и, не вдаваясь в подробности, продолжила: – В общем, она следила за мной самым гнусным образом, мистер Пропп. Представляете?
Гумберт Пропп немедленно выразил своё неодобрение, но девушке было этого мало. Она долго перечисляла прегрешения напарницы по номеру и завершила обвинительную речь тем, что звонко хлопнула ладошкой по подлокотнику кресла:
– Решено! Давно пора избавиться от неё! И не смотрите на меня так осуждающе, мистер Пропп! Вы в труппе без году неделя, а я в ней уже четыре года. А кое-кто, например, Мамаша Бенни, Румяные Щёчки или Бродяга вообще страшно сказать сколько лет. За эти годы мы все привыкли выручать друг друга и стали настоящей дружной семьёй, но даже одна такая гадюка, как Люсиль Бирнбаум, может всё испортить. Я уже видела подобное и не раз. Взять, например, труппу Бернштейна, – Имоджен наклонилась к собеседнику и заговорщически понизила голос: – Одна девушка у них тяжело травмировалась, упав с декораций, и заменить её взялась племянница антрепренёра, – мисс Прайс сделала многозначительную паузу, хотя ничего особенно зловещего пока сказано не было, и, когда пауза раскалилась как кочерга в огне и держать её дольше стало невозможно, прошептала: – Так они же там все перессорились, мистер Пропп! Все до единого! Труппа распалась, Бернштейн разорился, актрисы спешно повыскакивали замуж, а актёры разбрелись кто куда. Счастливчика Феликса, говорят, видели в одном из варьете Вест-Энда, но этот всегда умел устраиваться, а про остальных никто и никогда больше ничего не слышал. Вот так-то!
– Но ведь нам это не грозит. Никто из нас не собирается ссориться, – примирительно сказал Гумберт Пропп, считавший свои долгом успокоить мисс Прайс, которая не на шутку разошлась.
– Ха! Скоро начнём, вот увидите, – мрачно пообещала Имоджен, с досадой подумав: «Какой-то он всё-таки слабохарактерный, честное слово! Другой бы на его месте сам уже что-нибудь предложил, а этот смотрит на меня, как на рожок с мороженым, которое вот-вот растает». – Если так и будем бездействовать, то непременно всё перессоримся, – усилила она натиск.
Под суровым выжидающим взглядом мисс Прайс Гумберт Пропп почувствовал себя неуютно. В прошлом, в жизни до театра, он был владельцем магазина готового платья для джентльменов, который достался ему от отца, и участие в закулисных интригах было ему в новинку.
Момент был поистине щекотливый. В конце концов, мисс Прайс пришла за помощью именно к нему, и он не смел обмануть её доверие. Опять же, собственные принципы не позволяли ему действовать во вред другой девушке, пусть даже она и демонстрировала ужасные манеры и успела завести в театре немало врагов.
Однако мисс Прайс ждала его решения. Он долго приглаживал жидкие волосы цвета грязного песка, поджимал тонкие бледные губы под редкой щёточкой усов, потом откашливался, чтобы выиграть немного времени, и, наконец, после долгой паузы неуверенно предложил:
– Ну… если я чем-нибудь могу помочь… В самом деле, это ведь так не по-товарищески…
И Имоджен Прайс, захлопав в ладоши, возликовала:
– Я знала, мистер Пропп, знала, что вы непременно что-нибудь придумаете! Вы ведь такой умный и так много всего умеете! Как же хорошо, что я обратилась именно к вам!
Она одарила его восхищённым взглядом, и он сразу же ощутил, как в груди разливается тепло и его словно окутывает облаком блаженства. В самом деле, стоит ли придавать так много значения беззлобной шутливой проделке? Ведь ни на что по-настоящему дурное Имоджен не способна, он был в этом абсолютно убеждён.
Рафаилу Смиту, довольно известному в театральных кругах иллюзионисту, которого в труппе прозвали Бродягой, с недавних пор были ненавистны фотографические карточки. И они сами, и те, кто был на них изображён, казались ему одной великой ложью. В своё время он избавился почти от всех немногочисленных свидетельств прошлой жизни, которая оборвалась для него с известием о гибели горячо любимой жены, полученным спустя три недели после её похорон. Во время Великой войны, в те месяцы, когда шли самые ожесточённые бои, бывали ещё и не такие задержки корреспонденции.
Когда он вернулся в родные края, то нашёл дом, в котором они оба были когда-то счастливы, пустым и холодным. В очаге громоздилась горка сажи и пепла, рядом валялся стул с отломанной спинкой. Кто-то оставил дверь чёрного хода открытой, и в кухне на полу намело снежный сугроб. Бродячая кошка устроила на его кресле лежбище и разместилась там с клубком новорождённых котят, угрожающе шипя всякий раз, как он подходил к ней ближе, чем на три фута. Котята бестолково копошились возле её тощего живота. Что она ест, подумалось ему. Здесь же нет ничего. Ничего, кроме сажи и пепла. Дом был так безжизнен, что, казалось, в нём не было даже мышей.
Он тогда поднялся на второй этаж, в спальню, где стояла кровать под пологом, расшитым васильками. Постоял перед ней, потом подошёл к комоду и стал методично вынимать из рамок фотографии. Отнёс их вниз и бросил в камин, а после долго трясущимися руками не мог разжечь огонь. Кошка прекратила шипеть и наблюдала за ним с усталым любопытством. Когда наконец пламя принялось жадно облизывать угощение, он, не выдержав, выхватил из стопки одну фотокарточку, пальцами притушил искры, поедающие верхний край, – и все эти годы, неважно, каким испытаниям подвергался он сам, и куда швыряла его жизнь, – он бережно хранил изображение единственной женщины, которую любил.
Фотограф запечатлел новобрачную на качелях – такую юную, беспечную, хохочущую, – что сердце вдруг болезненно заныло, как принимаются ныть замёрзшие пальцы, когда попадаешь в тепло. Развевающиеся ленты, надувшийся колоколом подол лёгкого платья и раскинутые в стороны руки, точно она хотела сжать в объятиях и его, и весь мир в придачу – ни он, ни она и представить себе не могли, какое будущее их ждёт.
Рафаил Смит, как и тогда, много лет назад, вынул фотографию из простой деревянной рамки, и теперь держал снимок в руках, глядя не на изображение юной беспечной девушки, а поверх него, в зеркало, в котором отражалась другая женщина, много старше и красивее той, что сгинула в жадной пасти времени.
– Ну же, ни к чему медлить, – с повелительной нежностью произнесла она, поправляя шляпку и находя в зеркале отражение глаз старого фокусника. – Ушедших не вернёшь, так ведь? Ты и сам знаешь, как важно уметь прощаться с прошлым. Прощаться и прощать. Без этого нет жизни, нет будущего.
Она подошла ближе, положила руки ему на плечи. Тепло её ладоней придало ему сил. Сдерживая обещание, он разорвал фотографию сначала на четыре части, а потом каждую четверть ещё надвое. Посидел, глядя на кучку мусора, в которую превратилось его прошлое. В какой-то момент пришла ярость: захотелось скинуть женские руки со своих плеч, сжать пальцы с тёмными от лака ногтями так, чтобы увидеть на прекрасном распутном лице замешательство и страх.
Будто ощутив перемену в нём, она отступила на несколько шагов. Вынула из сумочки помаду, выкрутила яркий конус и мазнула им по губам. Подхватила из груды обрывков клочок фотографии и приложила к губам обратной стороной, снимая лишнюю краску. Бросила его в мусорную корзину, со снисходительной лаской взглянула на Рафаила Смита, улыбнулась и вышла, победно стуча каблуками, оставив его размышлять о самом главном иллюзионисте этого мира – о времени и о его бесстыжих фокусах.
Рафаил Смит только закурил трубку, набитую дешёвым скверным табаком, какой предпочитают лишь отставные моряки чином не выше боцмана и уличный народ, ночующий на грязных улочках Бетнал-Грин, когда в дверь его гримёрки постучали. Не испытывая желания в этот момент говорить с кем бы то ни было, он всё равно сварливо крикнул: «Войдите!» – молясь про себя, чтобы это не оказался Филипп Адамсон, которому опять спешно потребовалась помощь в решении одного из многочисленных организационных вопросов.
Его молитвы были услышаны, однако альтернатива вовсе его не обрадовала. В гримёрную вошла женщина средних лет, одетая с пышной старомодной изысканностью. Глядя на неё, можно было вообразить, что эдвардианская эпоха в самом начале своего расцвета, и не далее как вчера Лондон от Тауэра до Ламбета пересекло траурное шествие, провожающее Викторию в последний путь.
– Лавиния, дорогая, что стряслось? Я и не думал, что здесь кто-то остался, – он ловким движением натренированных пальцев незаметно смахнул клочки разорванной фотографии в мусорную корзину, стоявшую под столиком. Теперь они лежали там вперемешку с табачным пеплом, и в его голове всплыли строчки: «…пепел к пеплу, прах к праху…»
– Ох, я и правда что-то припозднилась сегодня, – Лавиния Бекхайм жеманно улыбнулась и, не снимая пальто, присела на краешек кресла, не слишком достоверно изображая непринуждённость.
Смиту было совершенно ясно, что она только что прибежала из пансиона, в котором проживала вся труппа «Лицеедев Адамсона». Также он отлично знал, что именно ей от него требуется, но из дружеских чувств не спешил, дожидаясь, когда она сама задаст волновавший её вопрос.
Сначала Лавиния Бекхайм, которую в труппе за глаза прозвали мисс Румяные Щёчки, неспешно и крайне обстоятельно рассказала Смиту пару старых, уже потерявших свежесть сплетен, и он сделал вид, что слышит их впервые. Она никогда не переходила к сути вопроса сразу, и, хоть и досадуя на эту её особенность, он не менее четверти часа притворялся, что с интересом её слушает.
К счастью, вскоре запас пустячных тем иссяк. Гостья, притворившись, что эта идея только что пришла ей в голову, прекратила терзать пышный бант шелковой блузы, украшавший её грудь, ненатурально оживилась и воскликнула:
– А что если нам, мистер Смит, зайти за Арчи и всем вместе отправиться в одно из этих уютных местечек, куда остальные ходят по субботам? Как думаете? По-моему, это отличная идея! Нет, правда, мы каждый день развлекаем публику, почему бы нам и самим не развлечься немного? – и она изобразила руками в воздухе нечто, что должно было означать бурное веселье.
Вот оно, наконец-то. Смит украдкой вздохнул. Чтобы не смотреть на неё в этот момент, он принялся выбивать трубку в огромную морскую ракушку, служившую ему пепельницей.
– Арчи давно ушёл, Лавиния. Сразу после вашего с ним выступления.
– Ну надо же! – Лавиния Бекхайм всплеснула руками, продолжая спектакль. – А я была уверена, что он всё ещё в театре. И куда это он отправился? Верно, сыграть партию-другую в бильярд с этими молодыми щёголями, Эдвардом и Джоном, – и она вновь принялась теребить бант, сохраняя на лице игривую безмятежность.
Пальцы её то сматывали в трубочку, то разматывали один из шелковых кончиков банта, и отчего-то смотреть на это было неприятно.
– Не знаю, Лавиния. Может статься, что и так. Ты ведь знаешь Арчи не первый год, – он отвечал ей бесстрастно, чтобы она не искала в его словах потайной смысл.
– А Люсиль? Она ещё здесь? В пансионе её нет, – проговорилась она, не в силах сдержаться.
– Возможно, она ещё здесь, – уклончиво выразился мистер Смит, не желая давать однозначный ответ.
Тотчас руки её опустились на колени и замерли там. Голову с высокой причёской по моде начала века она запрокинула как можно дальше, видимо, чтобы слёзы не вздумали прочертить по напудренным щекам позорные дорожки.
Голосом глухим от сдерживаемых чувств и оттого, что её голова была запрокинута, как на приёме у дантиста, она неуместно восхитилась:
– Ты только посмотри, какие здесь высокие потолки! Ну просто настоящая роскошь! Как вспомнишь, где ещё недавно мы все ютились, так просто мороз по коже. Я, Лавиния Бекхайм, вынуждена была пригибаться всякий раз, когда входила в общую гримёрную, в эту убогую клетушку. А теперь у каждого есть собственная, и места хоть отбавляй. Всё-таки, кто бы что ни говорил, а мистер Адамсон буквально спас нашу труппу.
Минута слабости прошла, она села как подобает и гордо вскинула голову. Рафаил Смит криво улыбнулся в ответ, постаравшись, чтобы сочувствие, которое он испытывал к ней, не слишком бросалось в глаза.
Было заметно, что уходить ей не хотелось. Лавиния Бекхайм ещё разок прошлась по гримёрной, рассматривая её обстановку так, как если бы находилась тут впервые, и уделив особое внимание искусно вышитому гобелену, украшавшему стену напротив солидного дубового шкафа, где хранился реквизит. На гобелене был изображён трёхголовый Цербер, стерегущий врата в царство Аида, и она тихонько пропела старую песенку, копируя наивную манеру прошлых лет:
- …Волшебный шлем Аида
- На голову надень,
- И даже Артемида
- Не попадёт в мишень…
Всё это время Рафаил Смит молчал, удерживая на лице вежливую улыбку. Наконец, украдкой вздохнув, Лавиния Бекхайм набросила на плечи пальто и взяла в руки сумочку. Уже приготовившись уходить, она вдруг приглушённо вскрикнула, округлив глаза. Иллюзионист вздрогнул и проследил за её взглядом. Он был устремлён на его гримёрный столик, где валялась пустая деревянная рамка, окружённая мелкими клочками разорванной фотографии, и забытый, или же, наоборот, оставленный с умыслом, золочёный футляр с помадой.
– Боже мой, Рафаил, – голос Лавинии задрожал, – как же это? Вы же так ею дорожили! Значит, и вы поддались чарам Люсиль? И вы причислили себя к её многочисленным поклонникам, готовым на всё ради её расположения?
Не дождавшись ответа, она повернулась и выбежала из гримёрки. Комкая найденный в кармане пальто носовой платок, она спешно пересекла галерею и, неловко ступая по скользким мраморным ступеням парадной лестницы, спустилась в вестибюль. Там она постояла с минуту, приходя в себя и вытирая горячие слёзы. Её рука с платком мелко дрожала. За спиной послышался шорох – она обернулась, но старинный друг не последовал за ней, глупо было и ждать, что он поспешит с утешениями. «Нет утешения в мире, слёзы и тлен лишь вокруг», – вспомнились ей слова из оперетки, партию в которой она исполняла когда-то. В те времена голос её ещё обладал притягательной силой, а сама она была так молода, что слова эти казались ей бессмысленными и никакого отклика в душе не находили. Лучшие годы промелькнули с той же стремительностью, с какой равнодушный ветер пролистывает страницы распахнутой книги. Дуновение, шелест – и вот уже солнце юности, ещё недавно такое щедрое, гаснет, оставляя печаль по безвозвратно ушедшей радости.
На Гроув-Лейн её встретил колючий ноябрьский дождь, и всю дорогу до пансиона она дрожала в его объятьях. Лёгкое пальто было плохим защитником от непогоды, и она так продрогла, что, войдя в свою комнату на третьем этаже, под самой крышей, тут же сбросила его и закуталась в одеяло.
Долго ходила по узкой комнате, не обращая внимания на скрип половиц, потом, погасив лампу, караулила у окна, из которого было видно полукруглое крыльцо у парадной двери. Свет фонаря превращал его в подобие сцены, и она недолго оставалась пустой.
Сначала послышался приглушённый смех, потом на ступеньках появились импозантный джентльмен с тростью и стройная, очень красивая женщина из тех счастливиц, чей истинный возраст определить невозможно, как ни пытайся. Модная шляпка лишь подчёркивала необычные черты лица – полные губы, лоснящиеся от помады, высокие скулы, большие, широко расставленные глаза с приподнятыми вверх уголками. Её плечи и шею от промозглого ветра прикрывал серебристый мех: тонкие лисьи лапки печально свисали на одну сторону, с другой болталась безглазая плоская мордочка с прижатыми ушами. Люсиль Бирнбаум держала в руках букетик поникших на ледяном ветру гортензий и улыбалась загадочно и нагло.
Словно догадываясь, что за ними наблюдают, она приподнялась на цыпочки, потянулась к самому уху джентльмена и сказала что-то такое, от чего он расхохотался, запрокинув голову. От этой сцены Лавинию Бекхайм бросило в жар. Пламя обиды выжгло остатки гордости, и она чуть не кинулась прочь из комнаты, надеясь застать их внизу, в холле, чтобы заглянуть в глаза негодяю Арчи, вопреки всем обещаниям, вновь обманувшим её.
Уже взявшись за дверную ручку, она отдёрнула ладонь. Благоразумие одержало победу над чувствами. Лавиния Бекхайм вспомнила слова своей наставницы, сказанные той много лет назад и по совершенно иному поводу, однако сейчас они как нельзя лучше остудили её гнев. «Запомните, девочки, истинная леди никогда, никогда не выставляет себя на посмешище. Всегда есть способ добиться своего, сохранив достоинство», – говорила мисс Тирли, обводя внимательным взглядом юных воспитанниц.
К сожалению, эта поучительная сентенция недолго служила ей утешением. Она разделась, не зажигая света, потом ещё долго вытаскивала многочисленные шпильки из причёски, чувствуя, как вся покрывается гусиной кожей, и улеглась в постель, всем телом ощущая ледяной холод простыней. Сон долго не приходил к ней, но, когда она наконец скользнула в мутный плен видений, несколько слезинок всё же вырвались на свободу, торопливо пробежали по щекам и скрылись в пышном кружевном воротничке ночной сорочки.
А вот Эффи Крамбл в эту ночь спала сном младенца. Ей не понадобилась даже бутыль с горячей водой, которую она каждый вечер демонстративно требовала у горничной в надежде пристыдить хозяйку пансиона, экономившую на отоплении. То, что она совершила, прокравшись в гримёрку Люсиль Бирнбаум после того, как все покинули театр, согрело её так, как не согревали ни ежевечернее какао со щедрой порцией бренди, ни аплодисменты зрителей. Эффи подготовилась к тому, что совесть слегка её помучит, но ничего подобного – на душе, напротив, воцарилось спокойствие.
К утру уродливый цветок с мерзкими болтающимися корнями, похожими на извивающихся червей, зачахнет, и Люсиль на собственной шкуре почувствует, каково это, когда лишаешься чего-то очень ценного для себя. Вообще, отмщение оказалось делом приятным и вовсе необременительным, и это открытие позабавило Эффи и в очередной раз заставило усомниться в догмах морали, вокруг которых все вечно поднимают такой шум.
Глава вторая, в которой дневное представление в театре «Эксельсиор» оказывается несколько пикантнее, чем надеялись зрители, а Эдди Пирса ожидает жестокое разочарование
На следующий день Сара Матильда Бенджамин, или Мамаша Бенни (это прозвище пристало к ней давно и стало уже таким привычным, что порой в мыслях она и сама себя так называла) с раннего утра не могла избавиться от необъяснимого гнетущего чувства. Оно царапало сердце, как когтистая лапа голодной бродячей кошки, и могло означать лишь одно – скорые перемены.
Жизненный путь Мамаши Бенни не был безоблачным, и умение быстро ориентироваться в происходящем не раз служило ей добрую службу. Эта постоянная готовность предугадать, выхватить из воздуха нити зарождающихся событий и определила её дальнейшую судьбу после того, как тяжёлый на руку и скорый на расправу супруг тихо угас от непонятной болезни, а принадлежавший ему паб, в котором она двадцать лет кряду цедила из бочонков пиво и протирала стойку, пошёл с молотка в оплату счетов от докторов-шарлатанов.
Оказавшись в буквальном смысле на улице, пятидесятилетняя вдова быстро покончила с трауром и обратила природную предприимчивость себе во благо. Мадам Элоиза – под этим именем её узнали легковерные жители Эдинбурга, которым требовалось утешение, развлечение или подсказка – всё едино! – и у которых были на это лишние шиллинги и пенсы.
Пребывая в хорошем расположении духа, мадам Элоиза обещала молодым замужним женщинам скорого прибавления в семействе, незамужним – сердечного друга или удачный брак, зрелым дамам благополучия и крепкого здоровья, джентльменам в возрасте – приращение капитала и приятное приключение, юным – рост по карьерной лестнице или выгодную женитьбу. В скверные же дни, когда на душе скребли кошки, предсказания мадам Элоизы сулили всем лишь казённые хлопоты, пустые дороги и провал всех начинаний.
Деятельность эта, осуществляемая с большим тактом и осмотрительностью, какое-то время приносила ей неплохой доход, пока в городе не объявилась заезжая знаменитость из Марселя с волшебным стеклянным шаром, в котором каждый мог узреть своё будущее (во что предприимчивая вдова, разумеется, не поверила ни на секунду), и не переманила всю постоянную клиентуру, падкую на внешний блеск и трюкачество.
Когда накопления иссякли, и стало ясно, что в Эдинбурге её более ничего не ждёт, Мамаша Бенни уложила в дорожный сундучок затёртые карты, шаль с бахромой и вышитыми руническими символами и прочие немногочисленные пожитки, и примкнула к труппе странствующих артистов. Поначалу скептически отнёсшаяся к очередному витку судьбы, она неожиданно обрела и покой, и постоянный (весьма скромный, не чета прошлому) заработок, и собственное место среди людей таких же неприкаянных, как она, но вовсе этого не стыдившихся.
Однако годы брали своё, и вскоре постоянные разъезды и выступления летом в душных павильонах, а зимой в холодных промозглых залах стали её тяготить. Поэтому, когда одержимая большой сценой (иначе это и не назовёшь, кроме как одержимостью, сама-то Мамаша Бенни была начисто лишена актёрских амбиций) Имоджен Прайс торжествующе объявила всем членам труппы, что в этом сезоне их ждёт постоянный ангажемент и к их услугам будет целый театр в Лондоне, она встретила новый поворот событий с облегчением.
Филипп Адамсон не произвёл на неё убедительного впечатления. Простачок, каких пруд пруди, так охарактеризовала она его про себя, а простачками Мамаша Бенни называла всех, кто находился от неё по другую сторону стола и готов был выслушивать небылицы и безропотно расставаться с медяками. Что уж там наплела ему чертовка Имоджен, чем заманила – её не особенно интересовало, но вот рвение, с каким новоявленный антрепренёр взялся за дело, изрядно её позабавило.
Подумать только, всерьёз решить, что их странствующая труппа комедиантов мало того, что станет трамплином для сценической карьеры Имоджен, так ещё и искренне надеяться составить конкуренцию ведущим лондонским мюзик-холлам! Прав был её старинный приятель Рафаил Смит, с которым они исколесили всю Англию, прав во всём – больше всего в этой жизни, едва ли не больше, чем дышать, люди хотят верить в чудо. Ну, и, конечно, надежда. Под этими двумя знамёнами и маршируют простачки от колыбели до могилы, и лишь немногим хватает ума выйти из строя и воспользоваться наивностью ближних себе во благо.
Но одно дело простаки – сытые, лоснящиеся, с тугим кошельком, и совсем другое – те, кто сидит по ту же сторону стола, что и ты. Кто делит с тобой и скромную трапезу, и изысканные яства, и солнечные дни на побережье лучших морских курортов, и осеннюю сырость, когда от зрителей и улыбки-то не дождёшься, не вывернувшись перед ними наизнанку.
Мамаша Бенни не первый год на свете жила и знала доподлинно (да и видела такое не раз): если в труппе начинаются склоки, добра не жди. Мелкие обиды и разногласия – это одно дело, куда без них, – но то, что началось в театре Адамсона с появлением Люсиль Бирнбаум, могло плохо кончиться, а начинать всё сначала и вновь отправляться в путешествие, не зная, где окажешься завтра, было не по ней.
Неплохо разбираясь в людях, Мамаша Бенни сразу поняла, что увещевать новенькую вести себя поскромнее бесполезно. Люсиль точно была не из простаков, но её неоправданная дерзость симпатии отнюдь не вызывала. За своё недолгое пребывание в театре она умудрилась настроить против себя большую часть труппы, и на пользу общему делу это явно не пошло.
Выраженный актёрский темперамент Имоджен Прайс заставлял ту вспыхивать как порох всякий раз, когда Люсиль пыталась раззадорить её малопонятными намёками на некую тайну, а заноза Эффи так и вовсе зеленела как кочан салата, когда новенькая позволяла себе отпускать колкости на её счёт. Марджори Кингсли глубже и сложнее всех переживала крушение своих иллюзий, произошедшее сразу после появления в труппе Люсиль, но тот, кто не умел достойно выдерживать удары судьбы, не мог претендовать на сочувствие Мамаши Бенни.
Самые же большие опасения у неё вызывало состояние Лавинии Бекхайм, которая вот уже много лет безуспешно ждала, когда для неё и Арчибальда Баррингтона, комика в амплуа «светский лев», запоют-загудят свадебные колокола. Ни для кого не являлось секретом, что Арчи падок на молодых актрис и в бурных житейских волнах его корабль готов бросить якорь в каждой гавани, что сверкает манящими огнями. Лавинии, не желающей смотреть правде в глаза, стоило больших усилий соблюдать внешнюю благопристойность и держать свои чувства в узде, но, как было хорошо известно Мамаше Бенни, порой чашу терпения способна переполнить всего лишь одна капля.
Этим утром, за завтраком, отменный по обыкновению аппетит демонстрировала только Эффи. Из мужчин никого не было – Адамсон с Рафаилом вставали рано и сразу же отправлялись на Гроув-Лейн, в театр, мистер Пропп уходил в костюмерную к восьми, а Арчи, Эдди и Джонни почти всегда пропускали завтрак, валяясь в постелях до тех пор, пока не наступало время готовиться к дневному представлению. Имоджен Прайс тоже находилась у себя, так как её утреннюю трапезу неизменно составляла лишь чашка кофе и апельсин, посыпанный корицей, которые ей приносила горничная Элис прямо в комнату.
Люсиль Бирнбаум, тщательно причёсанная, надушенная и с подкрашенными губами, набросив на плечи кашемировый кардиган цвета топлёных сливок, сидела и листала газеты отдельно от всех, у окна, за которым кружились неряшливые снежные хлопья. Она единственная из жильцов пансиона завтракала всегда долго и основательно, и сейчас перед ней на столе стояла большая тарелка, полная разнообразной снеди – яичница-глазунья, подрумяненный бекон, грибы, ломтики копчёной рыбы и треугольнички тостов, поджаренные строго с одной стороны (и нельзя сказать, что подобная требовательность так уж радовала кухарку). Лицо её казалось непроницаемым, но возле рта обозначились жёсткие складки, словно она крепко-накрепко сжала зубы.
Марджори, напудренная до полного сходства с мраморной статуей (само собой, если бы кому-то пришло в голову придать изваянию её грубые черты), со вселенской печалью в коровьих глазах цедила чай и вопреки обыкновению не притрагивалась к тостам. Лавиния Бекхайм тоже выглядела так, будто бы уксуса хлебнула – даже не верилось, что через несколько часов и та, и другая выйдут на сцену, и публика будет рыдать от смеха от каждого их движения, от каждой реплики, метко пущенной в зал, точно плоский камешек по воде. Это перевоплощение актёров, то, как они умудряются сбрасывать собственную шкуру и примерять на себя чужую личину, завораживало Мамашу Бенни и вызывало у неё чувство сродни суеверному трепету.
Потому-то ей и хватило одного взгляда на Эффи, чтобы всё понять. Обычно та по утрам бывала вялой и хмурой, но сегодня девушка сияла, прямо-таки вся лучилась довольством и радостью. Она исподтишка посматривала на Люсиль, и в уголках её губ трепетала шкодливая улыбка, сказавшая Мамаше Бенни всё, что ей нужно было знать.
С сожалением отвергнув предложенную горничной вторую чашку обжигающе горячего чая, Мамаша Бенни сослалась на необходимость выйти за покупками и быстро поднялась к себе. У неё было не больше получаса, чтобы предотвратить неизбежный скандал. Выходка Эффи могла иметь далекоидущие последствия и стать первым звеном в цепи будущих раздоров, которые могли привести к провалу всей программы и возвращению к неустроенной и беспорядочной жизни странствующих артистов.
Кляня про себя безмозглую дурёху Эффи, дородная Мамаша Бенни, переваливаясь, как гусыня, и задыхаясь от быстрой ходьбы, спешила через людную в этот час дня Камберуэлл-Гроув. Она не знала, что Люсиль решительно отложила газеты и встала из-за стола, не притронувшись к завтраку, ровно в ту же минуту, когда Мамаша Бенни вышла из пансиона через чёрный ход. Тем не менее какое-то шестое чувство заставляло её не сбавлять темп до самого театра и, чуть не угодив под автобус, она вошла в здание, выиграв фору в семь с половиной минут.
В вестибюле ей повстречался Рафаил Смит. Он поприветствовал её кивком и, как это принято у старинных знакомых, не утруждая себя предисловием, начал втолковывать ей что-то про свой новый номер. С минуту Мамаша Бенни покорно слушала его, но вскоре, понимая, что это может затянуться надолго, а времени остаётся всё меньше, не слишком вежливо прервала того и направилась к лестнице, которая вела на второй этаж, где были расположены гримёрные для актрис.
Сейчас все они были пусты, и Мамаша Бенни уже было вздохнула с облегчением, как в глубине коридора показался Филипп Адамсон. Он издал приветственный возглас и поспешил ей навстречу.
– Вас-то я и искал, миссис Бенджамин, – довольно сообщил он. – Надеялся, что вы придёте пораньше, и у нас с вами до репетиции будет минутка поболтать. Мне нужен ваш совет насчёт шатра гадалки: эскиз готов, но мистер Пропп почему-то ни в какую не хочет использовать ту материю, что вы хотели. Я постарался его переубедить, но вы же знаете, каким он бывает упрямым.
– О, мистер Адамсон, да пускай сам выберет, я не буду в обиде, – заверила его Мамаша Бенни и поспешила вперёд по коридору.
Филипп Адамсон недоумённо уставился ей в спину. Не далее как позавчера дискуссия по поводу обустройства нового шатра гадалки заняла целый вечер, и итогом её стали две противоположные и непримиримые позиции.
– Но… Миссис Бенджамин! – Филипп посмотрел на часы, но всё же решил догнать Мамашу Бенни и уладить текущие вопросы, чтобы не оставлять их на потом. – Вы должны взглянуть на эскиз! Мистер Пропп внёс в него правки, и я не уверен, что…
Мамаша Бенни резко остановилась. Когда она обернулась, то лицо её не выражало ничего, кроме подчёркнутого внимания, и только тот, кто очень хорошо её знал, понял бы, что она пребывает в сильнейшем раздражении. Филипп ожидал, что обсуждение продолжится у неё в гримёрной, но она взяла эскиз, всмотрелась в него, близоруко прищурившись, а потом быстро вернула, бодро сообщив:
– Превосходно, мистер Адамсон! То, что надо. У вас просто врождённый талант!
– Но эскиз делал не я, – запротестовал Филипп. – Мистер Пропп взял на себя смелость…
– И хорошо! – оборвала его Мамаша Бенни. – И замечательно! Я полностью доверяюсь мистеру Проппу в этом вопросе. Уверена, шатёр получится – загляденье! – и она закатила глаза в мнимом восторге. – А сейчас прошу меня извинить, мне срочно нужно… пересчитать карты Таро и отполировать шар судьбы.
С этими словами она юркнула в свою гримёрную и заперлась. Морщась от тянущей боли в спине, склонилась и приникла ухом к замочной скважине. Секунду было тихо, а потом до неё донеслось мелодичное посвистывание. Она выпрямилась, крайне осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор.
Филипп Адамсон стоял напротив гримёрной Имоджен Прайс. Придвинувшись вплотную к двери, он подышал на позолоченную табличку с цифрой 8, а потом долго полировал её рукавом пиджака, добиваясь блеска. Всё это время Мамаша Бенни бесшумно переминалась с ноги на ногу, обзывая его про себя идиотом и молодым ослом.
Наконец, Адамсон прекратил своё поистине дурацкое занятие, выставлявшее его в наиглупейшем свете, и, насвистывая, зашагал по направлению к лестнице и вскоре скрылся из виду.
Мамаша Бенни тут же выскользнула в коридор и на удивление резво для такой пышной особы добежала до гримёрки Люсиль Бирнбаум. Она осторожно потянула дверь на себя, состроив приветливое выражение лица на случай, если всё-таки её опередили и, лишь убедившись, что комната пуста, вошла и осмотрелась.
Загубленный цветок она увидела сразу. Благодарение небесам, дурочка Эффи не расколотила вазон, а всего лишь выдернула ни в чём не повинное растение с корнем и бросила его на гримёрный столик, прямо на белоснежную фуражку от костюма юнги. Молочно-белые корешки, все в подсохшей земле, уже омертвело скукожились, листья подвяли.
Мамаша Бенни осуждающе поцокала языком. Стряхнула землю с фуражки, сгребла её со столика и высыпала в цветочный вазон. Потом, сложив пальцы лопаточкой, принялась выкапывать в подсохшей земле глубокую ямку, одновременно размельчая комки. Шершавое это ощущение зацепило со дна памяти воспоминания из детства, проведённого на ферме в Уэльсе, вытащило их на поверхность, точно ведром из колодца, но она не успела удивиться причудам человеческого разума – в гримёрную Люсиль Бирнбаум настойчиво постучали.
Мамаша Бенни так и замерла на месте. От неожиданности пальцы её сжали круглый земляной комок в горсти так сильно, что ладонь заныла. Сердце пропустило удар и сразу же застучало, заторопилось так, что в ушах зашумело. Она поднесла ладонь к глазам и внимательно осмотрела её содержимое.
– Люсиль? – робко позвали из-за двери. – Люсиль, ты у себя?
Мамаша Бенни, стараясь успокоиться, растёрла оставшуюся землю в руках, пересыпала в другую ладонь и, поднеся к вазону, проследила взглядом, как тёмная струйка медленно образует холмик.
– Люсиль, я пришёл просить прощения, – в голосе послышались страдающие нотки. Мамаша Бенни нахмурилась и склонила голову к плечу. – Я повёл себя как распоследний идиот, честное слово. Забудь, пожалуйста, всё, что я наговорил. Это было глупо с моей стороны, глупо и нечестно. И я больше никогда так не поступлю, обещаю. Люсиль, ты слышишь меня?
Мамаша Бенни мигом сообразила, что не одному только Арчи устраивают сцены ревности. Эдди, чтоб его! И надо же ему было выбрать именно тот момент, когда она здесь, в чужой гримёрке, и Люсиль вот-вот объявится на пороге и потребует объяснений.
Теперь, чтобы выпутаться из всего этого кошмара без потерь, Мамаше Бенни необходима была удача. В свете новых событий молиться она не посмела, чтобы не навлечь гнев Господа. Она стиснула зубы и очень тихо, очень аккуратно поместила в вырытую ямку пустую фарфоровую коробочку, а затем увядшее растение. Присыпала корни землёй, стараясь, чтобы сверху оказалась сухая почва. Эдди тем временем всё продолжал каяться и уверять дверь гримёрной, что больше никогда не посмеет вести себя неподобающим образом.
В пяти футах от него Мамаша Бенни беззвучно выдохнула, отряхнула руки и осторожно опустилась на гримёрное креслице напротив зеркала. Собственное отражение напугало её – вытаращенные глаза, бисерины пота на лбу, съехавшая набок шляпка. Она привела себя в порядок, стараясь пошире расставлять локти, чтобы не шуршать рукавами, и тут в коридоре, прямо возле двери, послышались чьи-то тяжёлые шаги.
В первую секунду Мамашу Бенни охватил ужас, но она быстро сообразила, что лёгкая поступь Люсиль ничуть не похожа на этот слоновий топот. Тем не менее ситуация осложнилась – она чувствовала, что хозяйка гримёрной вот-вот явится и застанет непрошенную гостью на месте преступления.
– Слушай, Эдди, мне нужно потолковать с тобой кое о чём. Красотка Молли подвела меня, пришла предпоследней, а я тут малость задолжал одному типу…
Мамаша Бенни заскрежетала зубами в беззвучной ярости. Джонни Кёртис! Только его здесь ещё не хватало! В здании театра столько укромных уголков, а этим бездельникам нужно решать свои дела непременно у гримёрки Люсиль Бирнбаум. На мгновение её охватил порыв распахнуть дверь и выбежать наружу, а там будь что будет, но новые обстоятельства не позволяли поступить столь опрометчиво.
Голоса стали отдаляться. Она медленно подобралась к двери, наклонилась, заглянула в замочную скважину. Потом приоткрыла дверь на полдюйма – в конце коридора, у лестницы, ведущей на третий этаж, виднелись Эдди и Джонни, стоявшие к ней спиной и увлечённые разговором.
Другого шанса не будет, решила она и выскользнула из чужой гримёрки, со всей возможной осторожностью прикрыв за собой дверь. Коленки у неё дрожали, когда она шла по коридору, не осознавая, куда идёт и зачем, и чувствуя, как изнанка платья прилипла ко взмокшей спине. Встретив по дороге Люсиль Бирнбаум, идущую ей навстречу, Мамаша Бенни опустила взгляд, опасаясь, что выдаст себя, а иначе бы она непременно заметила, что на высокомерном лице новенькой застыло несвойственное ей выражение сильнейшего испуга.
Скандал, которого Мамаша Бенни так стремилась избежать, всё же разразился.
Во время дневного представления по понедельникам публика была немногочисленной и в основном тихой – контрамарочники, почтенные матроны с детьми, горничные из лондонских предместий, развлекающиеся в свой заслуженный выходной, – поэтому адский шум, поднявшийся в зале, стал полной неожиданностью как для Филиппа Адамсона, так и для остальных членов труппы, дожидавшихся выхода на сцену.
Крики «Возмутительно!», «Разврат!», «Прекратите это немедленно!», улюлюканье, топот – зрители вскакивали со своих мест, пробирались к выходу и требовали вызвать администрацию театра, чтобы подать жалобу. Громче остальных возмущались дамы, особенно те, что пришли с детьми, джентльмены же ухмылялись себе в усы и билеты сдавать не торопились.
Рафаил Смит и Филипп Адамсон, узнав причину волнений, попытались вернуть благосклонность публики, заверив их в непреднамеренности действий актрисы и пообещав контрамарки на весь театральный сезон, но часть зрителей всё же покинула зал, кипя от возмущения.
Люсиль Бирнбаум, оказавшаяся в эпицентре скандального происшествия, не проронила ни слезинки. Переступив через ком ярких лоскутков и кружевных лент, в который неожиданно для всех превратился её сценический костюм, в короткой шелковой сорочке с низким вырезом, облегающих панталонах и кружевном поясе для чулок, она спустилась через заднюю часть сцены и приняла из рук Эдди, по-джентльменски опустившего взгляд, его бархатный плащ, в котором он изображал испанского гранда, поющего серенаду под балконом возлюбленной. Работник сцены, регулировавший движения занавеса, оказался не так хорошо воспитан и смотрел на побледневшую от ярости артистку до тех пор, пока она, сверкая глазами, не объяснила в мельчайших подробностях, куда ему следует отправиться, отчего Эдди Пирс весьма заметно покраснел.
Новость разнеслась по театру в считаные секунды. Все, конечно, тотчас сообразили, что к чему, но выказывать сочувствие Люсиль Бирнбаум никто, кроме верного Эдди, не спешил. Имоджен, во время инцидента находившаяся вместе с ней на сцене, успела укрыться в своей гримёрке, чтобы её имя никак не связали со скандалом. Представление оказалось сорвано, посетители осаждали кассу, требуя вернуть им деньги за билеты. Филипп Адамсон готов был от отчаяния провалиться сквозь землю, и только выдержка Рафаила Смита, оказавшегося рядом, спасла его от опрометчивых решений.
Пока антрепренёр разбирался с недовольными и опровергал обвинения в нарушении общественной морали, Люсиль чеканила шаги по направлению к артистической уборной Имоджен Прайс. Губы её плотно сжались, сузившиеся глаза метали молнии, на Эдди, путающегося под ногами, она не обращала ровно никакого внимания. Как была, в алом бархатном плаще и танцевальных туфлях, она, выпростав руку из складок материи, толкнула дверь гримёрной, не постучав.
Для Имоджен визит Люсиль не стал неожиданностью. На её месте она бы тоже была взбешена сверх всякой меры и немедленно потребовала бы объяснений. Имоджен не переоделась, оставшись в пышном кукольном платье, только сняла гигантский розовый бант, крепившийся к поясу булавками, да прошлась по разгорячённому лицу пуховкой. Когда дверь распахнулась, она встретила гостью победной улыбкой, в которой не было и тени раскаяния. У бедняги Эдди, попавшего в перекрестье взглядов двух женщин, объявивших друг другу войну, перехватило дыхание, и он счёл за лучшее отступить с линии огня.
Люсиль вошла внутрь, и некоторое время на этаже было тихо. Лавиния Бекхайм, Мардж, Эффи и Мамаша Бенни – все одновременно приоткрыли двери и принялись с азартом вслушиваться в невнятное бормотание, доносившееся из гримёрки Имоджен. Эдди стоял у окна и от волнения сжимал и разжимал ладони, не зная, как ему поступить, если послышатся звуки потасовки или крики о помощи. Кого в этом случае он должен защищать? Имоджен, с которой его связывала артистическая солидарность и три года, проведённые бок о бок на театральных подмостках? Или же Люсиль, вокруг которой, казалось, сам воздух накаляется и вибрирует, словно над неукротимым пламенем? Не успел Эдди честно признаться себе, что, подобно отважному герою из рода Муциев, чаявшему великой славы и мало ценившему плоть, готов пожертвовать на этот огненный алтарь не только правую руку, но и всего себя целиком, как дверь гримёрки открылась, и Люсиль вышла в коридор. Остановившись напротив застывшей на пороге Имоджен Прайс, она победно расхохоталась.
– О, будь уверена, я всё тебе верну стократно! – пообещала она и улыбнулась особенно сладкой улыбкой. – Только вот это случится тогда, когда ты не будешь ожидать, милая Имоджен. Я же всё время буду настороже, и ты больше не сумеешь застать меня врасплох. Конечно, я ведь могу и передумать, так что на твоём месте я была бы очень, очень вежливой. Слишком многое на кону, правда, дорогая? Ты так долго к этому шла… Будет досадно, если все усилия окажутся тщетными, не правда ли? – Люсиль послала растерянной Имоджен воздушный поцелуй, повернулась на каблуках – её позабавило, как в ту же секунду одновременно захлопнулись все двери на этаже – и не спеша направилась к своей гримёрке.
Эдди, чья защита не понадобились ни одной из участниц несостоявшегося поединка, не успев осознать, что делает, двинулся за ней в надежде, что слова поддержки ободрят её и утешат, но его жестоко отвергли. В силу житейской неопытности и поглощенности собственными чувствами он не учёл, что Люсиль Бирнбаум относится к тому типу женщин, что лучше возденут противника на копьё или переедут колесницей, чем будут предаваться унынию и лить слёзы в тиши своей гримёрки. Внутри у Люсиль, будто олово в тигле, плавилась ярость, и щёки её пылали вовсе не румянцем стыда оттого, что все в зрительном зале увидели какого цвета её подвязки, а чистым пламенем жажды отмщения.
Услышав за спиной робкие шаги Эдди, она обернулась и дала волю чувствам. Этот тюфяк с лицом и телом мускулистого боттичеллиевского ангела успел до смерти ей надоесть. Поначалу он и его робкие ухаживания забавляли её, позволяя отвлечься от забот, и она даже немного подыгрывала ему, но с каждым днём он всё больше действовал ей на нервы.
– Что тебе нужно?! – она обернулась, и Эдди отпрянул от неприкрытого насмешливого презрения в её взгляде. – Да сколько же можно за мной таскаться, господи? – Люсиль закатила глаза, демонстрируя, что сил её нет больше это терпеть. – Что ты вечно мычишь как телёнок? Отстань от меня, слышишь?! Не смей за мной ходить! Ты понял, Эдди? Видеть тебя не могу!
Ошеломлённый переменой в ней, он стоял очень близко и силился понять, что же он сделал, чем заслужил такой бурный гнев. В алом плаще, струившемся вокруг её тела, с глазами, сияющими после недавней словесной баталии, Люсиль показалась бы ему прекрасной жрицей культа огнепоклонничества, если бы не выражение лица и жалящие слова, злыми осами слетавшие с её губ. И даже такой она оставалась ему дорога – в ореоле искр, порождённых неутолённым гневом, с бледным от пудры лицом, искажёнными злобой чертами – прекрасная, точно в жилах её текла не кровь смертных, а божественный ихор, и потому ей было позволено больше прочих.
– Уходи же, Эдди! Разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Лучше иди к Марджори Кингсли, к этой безобразной толстухе, что вечно таскает тебе шоколад и пирожные. Не сомневаюсь, что вы составите с ней отличную пару! Будете до самой старости распевать на сцене куплеты и веселить отребье с галёрки.
Он всё ещё оторопело смотрел на неё, и Люсиль в ярости, что не может его прогнать, топнула ногой, а затем ещё раз, и ещё.
– Уходи! Сейчас же! Да уйди ты, наконец!
– Нечестно так говорить, Люсиль, – Эдди, который был немного тугодум, предпринял попытку вступиться за старую подругу. Он не принял во внимание тот факт, что все артистки театра «Эксельсиор», включая Мардж, прильнули к замочным скважинам и жадно ловят каждый звук, и потому слов не выбирал. – Марджори очень одинока, и мне было её жаль, только и всего. Я никогда не ухаживал за ней, всего лишь старался быть к ней добрее. Никогда, никогда я не относился к ней так, как к тебе! И ни она, ни кто другой не значат для меня столько же, сколько ты! Ты можешь мне верить, Люсиль!
У всех на виду Эдди покорно проследовал в подготовленную для него западню и даже не понял, когда наспех сплетённая крышка хлопнула над головой, отрезая путь к отступлению. Добыча была настолько бесхитростна и наивна, что Люсиль Бирнбаум не ощутила даже удовлетворения.
– Ты первостатейный идиот, Эдди Пирс, – сказала она устало перед тем, как швырнуть ему в лицо плащ испанского гранда и запереться у себя.
Он так и остался стоять под её дверью, комкая бархат в руках так, что нежная материя зазмеилась полосками, а совсем рядом, в своей гримёрке беззвучно рыдала, закусив кулак, Марджори Кингсли, которая опрометчиво приняла жалость за любовь.
Тот, кто однажды выбирает для себя путь служения Мельпомене, знает, что рассчитывать на карманы, полные звенящих монет, могут лишь немногие, а вот тяготы обретения мастерства и неизбежные тернии ждут каждого. У Джонни Кёртиса наблюдался прискорбный недостаток первого и не менее удручающий избыток второго.
Деньги в его руках никогда не задерживались надолго. Сколько бы он ни выигрывал на бегах, всё утекало сквозь пальцы, будто мелкий речной песок. Недельное жалование, которое полагалось ему как второму танцору труппы, было, по его нынешним меркам, просто смехотворным. Как правило, его хватало на пару-тройку дней, а потом приходилось снова выгребать медяки из подкладки пальто и брать взаймы на приличный табак. Нищета, от которой он страдал в прошлом, внушила ему стойкое отвращение к экономии и склонность к неуёмным тратам и экстравагантным жестам.
Тем не менее Джонни и в голову не приходило требовать у Адамсона надбавку. В глубине души он был уверен, что не стоит и тех денег, которые ему платят. Вот Эдди Пирс – это да! Всё, что Джонни знал о сцене, о работе с публикой, о танце – он узнал от Эдди, и разница в жаловании казалась ему вполне справедливой. Если бы не Эдди, научивший его всему, то он бы так и остался в Дареме, где его ждала судьба отца и старших братьев, годами вдыхающих угольную пыль.