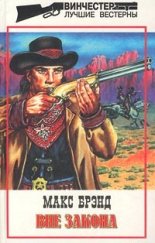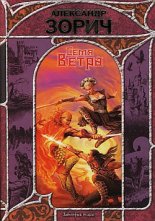Ближний берег Нила Вересов Дмитрий

— А если бы не батя, тогда что? — высокомерно спрашивает она. Лицо моргает, выжав из нечистого уголка глаза микроскопическую слезинку. — На конвейер бы поставили? Сперва ты, потом начальник твой, потом в спецприемнике воспитатель в погонах, потом еще какой-нибудь гражданин начальник… Нет, не люди вы, менты, а псы позорные.
— Но-но, ты полегче… — прикрикнуло было лицо, но рык сполз на фальцет.
— Батя приедет, мы первым делом в поликлинику… — Она откладывает недоеденный пирожок и сладко потягивается. — Потом к прокурору. Суши сухари, Бузинов.
Его заскорузлые толстые пальцы нервно разглаживают мятые купюры на краю стола.
— Вот… Возьми… Только бате не закладывай, Христом Богом…
— Поезда тут долго стоят, — задумчиво говорит она, не глядя на деньги. — Бабульки мно-ого чего продать успевают. И рыбку, и морошку, и огурчики. Торговля бойкая… А с каждой бабульки-то по полтиничку… Или по рублику, а, Бузинов? — В ответ слышится только громкое сопение. — На «Москвича» набрал уже, или еще копишь?
— Коплю…
— И сберкнижка есть?
— Есть…
— Бате еще часа два ехать… Давай, Бузинов, поспешай, успеешь еще две сотни положить — твое счастье…
— Ах ты…
Мерзкое лицо наливается краской.
— На передачи больше уйдет. Если, конечно, женка их тебе носить не побрезгует, педофилу сраному.
— Я тебе не пидор… — хрипит вконец униженный Бузинов.
— Будешь, если бабки не принесешь. В две секунды опетушат…
Принес. Пыхтя, вывалил перед ней на стол. Вид красных червонцев и сиреневых четвертных не согревает. Греет другое: мысль о том, что в следующий раз она слиняет из родительского дома не бродяжкой беспаспортной на товарняках, легкой добычей любого самца, наделенного властью или просто силой, а законнейшей пассажиркой мягкого вагона, при деньгах и документах…
— Все теперь? — сипит Бузинов.
— Почти. — Она не спеша прячет деньги во внутренний карман курточки. — Наклонись-ка. И остывшим какао — в рожу.
— Умойся, Бузинов. А то вот-вот начальство нагрянет…
Ей пятнадцать лет…
— Позор! — визжит мать, заткнув уши, чтобы не слышать никаких возражений. — Дочь-начальника милиции города!..
— И директора универмага… — послушно вторит папаша, а на пропитой физиономии выражение тихой радости, что не его, горемычного, сегодня ефантулит дорогая супруга.
— Шлюха помоечная! С последней шпаной, по подвалам!..
— Ключи бы от дачи не прятала, так было б не по подвалам…
— Что! Отец, ремня! В колонию! Валидолу мне!.. Мать в изнеможении валится в кресло. Отец, кряхтя, шарит по полкам в поисках лекарства. Секунда передышки…
— И как нам теперь людям в глаза смотреть прикажешь?!
— А вы меня с этих самых глаз сплавьте куда подальше. В Москву, на худой конец в Ленинград. В торговый техникум?..
Ей шестнадцать…
— Это все? Да на один наркоз, как минимум, тридцатник нужен.
— Я и так шапку продал… — В глазах Сережки недоумение, упрек, обида. — И вообще, не надо из , меня негодяя делать, а? Сама напросилась, а теперь…
— Сама, говоришь?.. А не пошел бы ты, Жибоедов…
Ей семнадцать…
— Чего ревешь-то, подруга, радоваться надо. Теперь гуляй сколько хошь — и подзалететь не страшно! Да и кому они нужны, спиногрызы-то, при такой нашей жизни?.. А что из техникума поперли — так у нас на химическом лаборанткам лимитную прописку дают и общежитие… Да, на восемьдесят рэ, конечно, не разбежишься, ну, ничего, я тебя подрабатывать научу — не фиг на фиг! Значит, вечерком одевайся пофасонистей, подмажься… В ресторан пойдем!
Восемнадцать…
— Где это я? Что было?
— Было, родная… Правило у меня такое, для подобных случаев жизни — бокальчиками обменяться, быстро и незаметно для дамы. Если бы помыслы твои были чисты, гуляла бы сейчас с честно заработанной двадцаткой, а не валялась здесь, бледная, как спирохета… Так что, гражданочка Ильинская Ольга Владимировна, выходит, ты теперь моя со всеми потрохами.
— Паспорт отдай…
— Это же за какие такие заслуги?
— Я тебе денег дам…
— Сколько мне надо, у тебя нет.
— В менты сдашь?
— А что я с этого буду иметь? Нет уж, я тебя, Ольга Владимировна, намерен использовать с максимальной выгодой… Кофейку хлебнешь? Бодрит.
— Ты что задумал?
— Не боись, родное сердце, не расчлененку… Топорно работаешь, Ольга Владимировна. Клофелинчик твой — штука иногда нужная, но примитивная и, как видишь, небезопасная. Пора, дорогая, разнообразить арсенал, повышать квалификацию.
— Учить будешь?
— Чем иронизировать, лучше скажи — насчет хипеса как мыслишь? Никак. В картишки не интересуешься? Тоже нет. Где и на чем солидного клиента брать — знаешь? Не знаешь. Почем сейчас доллар стоит? Тоже не знаешь. Знакомства в гостиницах есть? А в комиссионках?.. Учиться тебе и учиться, дорогая Ольга Владимировна, как завещал великий Ленин.
— Меня Линда кличут…
— А меня Ринго. Говорят, похож.
— Похож. А на самом деле как зовут?
— Виктор. Виктор Васютинский. Правда, родился под другой фамилией. Знаешь, какой?.
— Ну?
— Штольц. Так что наша встреча — знак судьбы.
— Штольц и Ильинская? Как в «Обломове»?
— Неужели читала?
— Я много чего читала…
Девятнадцать…
— Слушай, а как там твои папахен с мамахеном? Может, проведаем, устроим, так сказать, возвращение блудной дочурки?
— С чего это вдруг? Совсем крыша протекает?
— Не скажи. Недельку комедию поломаем, обаяем старичков, подарочками ублажим, глядишь, папашка твой мне рекомендацию по всей форме нарисует.
— Куда рекомендацию? В страну Лимонию тайгу валить? Это он быстро.
— Ой, помягше к людям надо, Линда Батьковна, помягше, а вот мыслить — ширше и перспективнее… Мне, душа моя, не на лесоповал надобно, а, наоборот, на юридический факультет университета..
— Ну точно, тронулся…
— Не скажи. Умным людям даже .верхнее образование не помеха. Если, допустим, и нет у нас с тобой в жизни амбиций кроме как потрошить жирных карасей всеми известными способами, так ведь диплом в кармане и должность, соответствующая этому делу, могут очень даже поспособствовать. Я и тебя, лапушка, всерьез к наукам приобщить намерен. Ты у меня через годик на филологический поступишь.
— Мило. А почему именно филологический?
— Официальная маза для контактов с фирмой. Сама ведь замечаешь, как они к нам зачастили. Америкашки, япошки, не говоря уж про турмалаев и прочих шведов.
Разрядка, душечка… Плюс факультет невест. Там со всего города чудо-охломончики пасутся — пухленькие, богатенькие, глупенькие. Только сачок подставляй.
— Я тебе остохренела? Мерси!
— Зачем так ставить вопрос? Надо же нам в этом чудном городе легализоваться. А то, о чем я говорю, — способ испытанный, нехитрый, недорогой и надежный. Охмурить какого-нибудь маменькиного сыночка из приличной семьи, выскочить за него замуж, быстренько развестись и отсудить квартирку с имуществом. Учти при этом, что и я со своей стороны буду делать ровно то же самое. И тогда через пару-тройку лет…
Самое смешное в авантюре с университетом было то, что все получилось. С блеском! Родичи, увидев доченьку ласковой, гладкой и благоустроенной, вмиг оттаяли до соплей, а ее обходительный и завидно состоятельный друг — Ринго назвался работником портовой таможни — и вовсе их очаровал. Мамаша от них не отходила, кормила от пуза и все нарывалась к детям в гости. Пришлось сослаться на текущий ремонт и предстоящий переезд и обещать непременно пригласить на новоселье. Папаша в лепешку расшибся, но добыл для него нужную рекомендацию с присовокуплением красивой грамоты победителю областного смотра общественных рыбинспекторов. Потом, уже дома, Ринго немного похимичил с трудовой книжкой и характеристиками, и совокупности предъявленных бумажек с лихвой хватило на то, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования на вступительных экзаменах и последующее триумфальное зачисление на юридический факультет. Еще бы — по документам он получился потомственный стопроцентный пролетарий, отличник боевой и политической подготовки, обладатель трехлетнего трудового стажа по специальности.
Линду он метил на финское отделение, но, трезво сопоставив конкурс и проходной балл со своими возможностями, она предпочла более доступное албанское, куда и поступила — тоже без особых проблем.
Приехав в Житкове с опозданием — неделю провалялась с ангиной, — она почему-то не застала там Ринго, но первые дни даже и не вспоминала о нем, потому что случилось нечто, не подлежащее предвидению и перспективному планированию.
В ее жизнь ворвался Нил Баренцев.
Первый же взгляд на него отозвался внезапной слабостью в ногах и головокружением и только потом оформился мыслью: «Какой красивый мальчик!»
Красивые мальчики были ей, конечно, не в новинку, но в каждом из них, встречавшихся ей доселе, сквозило природное, неподавляемое никакими манерами и воспитанием и дико раздражающее ее самоощущение элитного жеребца. Непробиваемая убежденность в собственной неотразимости, пресыщенно-снисходительные улыбочки — дескать, погарцуй передо мной, кобылка, изобрази что-нибудь этакое, тогда я, так и быть, тебя покрою. Может быть… Для таких она даже придумала хитрое словечко — «засимплексованные», то есть полная противоположность закомплексованным…
Томлением по подобным экземплярам она не маялась, к тому же патентованные красавцы сплошь и рядом оказывались весьма хреновы в общении — особенно в горизонтальной его разновидности.
Но этот был иной. Она сразу определила эту «инаковость» по глазам — большим, не правдоподобно синим, не по возрасту печальным. И еще прочитала она в этих глазах ответный зов, напугавший ее своей робостью… Дурея от сладкой вибрации во всем теле, она последним усилием воли прикрылась улыбчивой, чуть грубоватой личиной «своего парня» и в этой стилистике выдержала всю сцену на чердаке, куда они поднялись после импровизированной экскурсии по бараку. Малыш, кажется, ничего не заметил…
Боже, каким облегчением было появление Стефанюка — манерного, приторного, изломанного, по внешности своей и повадкам показавшегося ей злобной пародией на грациозного, неосознанно пластичного Нила, каждое движение которого сводило ее с ума! А голос! А длинные музыкальные пальцы, так проворно и сноровисто бегающие по гитарному грифу!.. Потом, когда под навес столовки стянулся народ, она развеселилась, стряхнула с себя наваждение, забыла о нем… А зря — ибо оно нахлынуло с удесятеренной силой, когда Линда вдруг обнаружила себя наедине с Нилом на безлюдной деревенской улице, ощутила на своих плечах тепло его рук, почувствовала, обмирая, как он рывком поднял ее с земли и понес куда-то, не разбирая дороги…
В те минуты он мог сделать с ней все. Не сделал.
Потом была одинокая бессонная ночь на темном продувном чердаке, искусанная подушка… «Хороша! — шипела она, подавляя слезы. — На самой клейма ставить негде, а туда же, влюбилась, как гимназистка! В сопляка! В малолетку!»
И весь следующий день, превозмогая отвращение, напропалую кокетничала с четырьмя прочими представителями сильного пола — как на подбор, один другого гаже. Это такую казнь себе устроила за проявленную слабость. Заодно надеялась отвлечься.
Получилось только до вечера, а когда увидела Нила, вышедшего к полю встречать ее, так и стукнул в головушку невероятный, багрово-фиолетовый сентябрьский закат…
Уже на берегу, извиваясь в его жарких объятиях, стремительно погружаясь в золотистое безумие, последними остатками воли и рассудка, как в последнюю соломинку, вцепилась в жалкий насквозь лживый лепет. Про покинутую мать, про несуществующую сестру.
Подействовало… И от нахлынувшей победной пустоты хотелось выть волчицей.
Ну не могла она позволить себе потрафить чувству, внезапному и мощному, как селевый поток. Понимала, что легкого, необременительного романчика здесь не получится. Толкового гешефта, как замыслили они с Ринго, — тем паче. И так прикинь, и эдак — ничего кроме тяжелейших проблем, эта связь не сулила.
Когда на другой день он внезапно заболел и уехал в город, стало легко и пусто.
О том, что случилось с Ринго, она узнала в правлении совхоза, куда скоренько пристроилась, не горя желанием ишачить в поле. Там только об этом и судачили. А через недельку он и сам все рассказал ей, когда побитой собакой притащился из Выборга, отощавший, небритый, провонявший «обезьянником».
Рассказал откровенно, с прежде ему не свойственными подвываниями и придыханиями.
Приехал в знакомые места и чуть не сразу расслабился с аборигенами, у которых в бытность свою ефрейтором взрывпакеты на самогонку выменивал.
Подписался на дебильную пьяную кражу, опомнился, когда уже в его полуторку дизель загружали, и свалил по-тихому, предоставив остальным самим разбираться.
Тем только и уберегся от тюрьмы, а скорее всего и от чего похуже, поскольку оба его подельника разбились насмерть, вывозя добычу. Но из университета выперли без малейших шансов на восстановление, о чем уведомили в приказе, копию которого ему предъявили в выборгской ментовке. Сволочи, такие перспективы обломали!
Он изнемогал от жалости к себе и явно нарывался на сочувствие, но удостоился лишь холодного презрения. Прокололся по собственной дурости, а теперь плачется в жилетку! В ее глазах он моментально утратил всякое право не только на лидерство, но и на партнерство. Она прекрасно сумеет устроить свои дела самостоятельно…
В Ленинград она возвращалась, полная всевозможных планов. И в этих планах не было места Нилу Баренцеву. Линда упорно внушала себе, что в разыгрываемой ею партии он — фигура лишняя, отвлекающая, вносящая ненужный сумбур в мысли и чувства.
Но бороться с этим сумбуром было свыше ее сил, хотя, видит Бог, она старалась. С головой погружалась в учебу, в рамках программы жизнеустройства легко добилась индивидуального приглашения в гости от двух перспективных мальчиков, но дальнейшего развития отношения не получили — один слишком уж нахраписто распустил ручонки, а второй, мгновенно выжрав все спиртное, заготовленное на случай затяжного интима, безнадежно вырубился. А, между прочим, квартирки у обоих несостоявшихся кавалеров были вполне барские…
От этих визитов на душе остался грязный осадок. Одно дело эксплуатировать людские пороки, заставляя расплачиваться за жадность, тупость, похоть, но провоцировать любовь, с тем, чтобы потом наказывать за нее?.. Линда злилась, ругала себя сентиментальной дурой, но ничего с собой поделать не могла. И тем неудержимее влекло ее к Нилу…
Поход в больницу принес ей и облегчение, и растерянность. Малыш очень обрадовался ее появлению, принесенным подаркам, — но в дивных его глазах больше не было того тихого зова, который вмиг перевернул все ее существо там, в деревне. «Ты отличный парень, Линда!» — говорили теперь эти глаза…
Перегорело у него. «Все к лучшему!» — решила она. И когда он пришел на факультет, действительно стала для него отличным парнем. Курили на лекциях и на переменках, пили кофе, бегали в киношку. Украдкой, внушая себе, что ее это нисколько не задевает, она следила за его неуклюжими, щенячьими потугами снискать благосклонность надменной рыжей красотки Захаржевской с английского и тихо радовалась, понимая, что там ему вряд ли что обломится. И это правильно — не такая ему нужна подруга… Ей было весело от того, что удалось пролететь над пламенем, не опалив крылышек.
Щас! Как увидела его, растерянно озирающегося в вестибюле общежития, так будто повторилось роковое двенадцатое сентября. Пришлось спрятаться за колонну и отдышаться, прежде чем шагнуть ему навстречу. А не шагнуть было свыше ее сил.
Может быть, ничего этого и не случилось бы, если бы., как на грех, днем в общагу не заявился Ринго. Снова на коне — веселый, напористый, распираемый прожектами. Угощением, крайне притягательным для студенческого желудка, складным разговором быстро расположил к себе недалеких Иоко с Джоном, внедрился, так сказать, с большим знаком плюс, так что выгнать его теперь было неловко. А потом состоялась первая подкурочка, и зачем-то потянуло проветриться на первый этаж…
Туман в мозгах рассеялся уже за полночь, когда обнаружила себя развалившейся в кресле, Джона с Иоко — храпящими в двух койках, а Ринго — восседающим на третьей и лукаво на нее щурящимся.
— Где Нил? — хрипло спросила она. Ринго молча ткнул пальцем вниз. Нил лежал на холодном линолеуме, раскинув руки, похожий на распятого ангела.
— Надо бы его на кровать, замерзнет ведь, — сказала она.
Вдвоем кое-как переложили. Он был безмятежен и прекрасен в свете догорающих свечей.
— Хочешь его? — неожиданно прошептал Ринго. Соврать не получилось, а правда не выговаривалась. Она молча кивнула.
— Повязать бы мальчонку. Для верности, — сказал Ринго.
— Как повязать? — не поняла Линда.
— Кровью… Ладно, не испепеляй меня взглядом. Сама ведь понимаешь, что я имею в виду…
Помог стащить с беспамятного Нила штаны, принес из холодильника чей-то фарш, возвращенный после того, как его отжали через марлечку и окропили простыню в районе оголившихся чресл.
А дальше было то, что было…
Теперь прошлое беспощадным потоком хлынуло на нее, накрыв с головой, сбив с ног. И не требовалось большого ума, чтобы понять, чья злая воля разрушила плотину, любовно возводимую ею…
Решительными движениями Линда ополоснула лицо и быстро вышла из ванной.
IV
— Все ваше существо, всякое ваше движение приобретали для меня сверхчеловеческий смысл! Когда вы шли мимо, мое сердце поднималось, словно пыль, вслед вам. Вы были для меня, как лунный луч в летнюю ночь, когда всюду благоухания, мягкие тени, белые блики, неизъяснимая прелесть, и все блаженства плоти и души заключались для меня в вашем имени, которое я повторял про себя, стараясь поцеловать его. Выше этого я ничего не мог себе представить. Я любил госпожу Арну именно такою, как она была, — нежную, серьезную, ослепительно прекрасную и такую добрую! Этот образ затмевал все другие. Да и мог ли я даже думать о чем-нибудь другом? Ведь в глубине моей души всегда звучала музыка вашего голоса и сиял блеск ваших глаз… Что, ба?
Нил отложил книгу и склонился над кроватью.
— Довольно…
Он не столько расслышал эти слова, сколько догадался по движению пересохших губ.
— Устала? Может быть, водички?
— Нет… Поправь подушку, хочу сесть… В комоде, в верхнем ящике… Там ключи… Нашел? Давай сюда.
Трясущимися руками бабушка отобрала из связки старых ключей самый маленький.
— Вот… Это от сундука… Открой. Нил снял отрезок красной ковровой дорожки со стоящего в углу старого сундука, вставил ключик в замок, подернутый патиной времени и чуть тронутый ржавчиной, повернул… Из-под крышки пахнуло древней пылью и немножко нафталином.
— Тут рухлядь какая-то, — пробормотал он. — Тряпки, ноты. Афиша старая…
Нил бережно развернул древнюю желтую афишу. На плохой бумаге — красные буквы характерного пролеткультовского начертания.
— «Артист Владимир Грушин, — прочел Нил. — Чудеса без чудес. Разоблачение церковной магии». Владимир Грушин — это мой дед?
— Евангелие… Там должно быть Евангелие…
— Сейчас. — Нил выпрямился, держа в руках небольшую книгу в красном сафьяновом переплете, с тускло-золотым крестом на обложке. — Оно?
— Да… Дай мне…
— А помнишь, как мне в детстве от тебя влетело за этот сундук? Это из-за Святого писания? Или из-за деда? Там, в альбоме, — тоже он? Почему ты о нем никогда не рассказывала?
— Были резоны. Сядь-ка., .
С артистом Владимиром Грушиным бабушка познакомилась, когда он был еще Вальтером Бирнбаумом, в середине двадцатых заброшенным судьбой в паршивенькую гостиницу города Самары. Плут-импресарио дал деру со всеми наличными, и изголодавшийся Бирнбаум на свой страх и риск устроил бесплатный сеанс магии в местном синематографе, но был не правильно понят и сдан в областную ЧК. Все это могло бы кончиться для него плачевно, но Вальтер сообразил продемонстрировать свои способности на первом допросе, чем немало заинтересовал тогдашнего председателя ЧК Мотю Кацнельсона. Грозный Мотя имел мужскую проблему интимного свойства, которую Вальтер успешно снял посредством лечебного гипноза, наладив пациенту и эрекцию, и эякуляцию. Малограмотный Мотя попросил записать ему эти красивые иностранные слова и с тех пор щеголял ими к месту и не к месту. В благодарность Мотя не только обеспечил Вальтеру покровительство своего всесильного учреждения, но и пристроил в штат областной филармонии, где как раз начинала трудовой путь молодая пианистка Шурочка Илецкая.
Помимо прочего, поводом для их сближения послужило наличие общих воспоминаний и даже общей родни. Оказалось, что Вальтер — блудный сын Франца Бирнбаума, старшего мастера у прославленных братьев Карла и Агафона Фаберже.
Шурочка же была с дядей Францем прекрасно знакома — в двадцатом году пожилой швейцарец неожиданно женился на. Женечке, ее старшей сестре. Большой любви там не было, просто добряк-ювелир спасал молодую талантливую художницу, увозя ее на свою гемютную родину из кровавой и нищей России. Семью же Евгении вывезти не получилось, и вскоре юная Шурочка с матерью оказались у дальней родни в Самаре-городке. Вальтер же расстался с отцом намного раньше, еще до революции, и при обстоятельствах весьма скандальных.
Не имея охоты и призвания к отцовскому ремеслу, он с юных лет обнаружил в себе небывалую ловкость рук и мощный дар внушения. Но этими дарами он воспользовался не во благо: будучи по протекции отца принят в торговый дом Фаберже, он начал в общении с покупателями производить кое-какие лишние пассы, благодаря которым в скорейшем времени обзавелся капиталами и привычками, неприличными для начинающего приказчика и вчерашнего гимназиста. К счастью, он не успел утратить чувства меры до того, как был разоблачен — и, к двойному счастью, разоблачен не взбешенными клиентами, а собственными сослуживцами. Дело, как сугубо внутреннее, не стали предавать огласке, однако же Бирнбаум-младший со службы вылетел и в короткое время примкнул к бродячей музыкальной антрепризе, где его сырой талант постепенно обрел профессиональную огранку и прочную закалку в горниле революционных катаклизмов.
В начале тридцатых покровитель Мотя бесследно исчез, а вскоре за Вальтером в первый раз приехали. В хорошо знакомом ему кабинете в начальственном кресле сидел тщедушный субъект со злобно прищуренными глазками. Закончился визит благополучно-у Гриши, старшего уполномоченного ОГПУ, вследствие перегрузок и хронического недосыпа развилась та же проблема, что и у его предшественника.
Исправили и ее, а вскоре молодая чета Бирнбаумов переехала в роскошную квартиру расстрелянного за вредительство инженера, где и родилась дочка, названная Ольгой.
Следующий хозяин сакраментального кабинета, Петр Степанович, попавший в начальники самарского НКВД прямо из Бутырок, где надзирательствовали еще его деды и прадеды, в укреплении мужской силы не нуждался, ибо был здоров и крепок, как медведь. Его Бирнбаум пользовал от тяжелых запоев. Перед вторым сеансом хмельной Петр Степанович, заведя беседу о внешнеполитическом моменте, невольно натолкнул Бирнбаума на мысль, доказавшую впоследствии свою ценность. Мировая революция захлебнулась, вещал Петр Степанович, французские социалисты свой рабочий класс предали, в Англии Чемберлен лютует, в Италии — Муссолини, в Испании поднимает голову гидра реакции, на Востоке японцы шкодят, в Германии ускоренно вооружается Гитлер, а Коминтерн вот-вот прикажет долго жить. СССР все более становится похож на остров, со всех сторон осаждаемый врагами. В связи со сложной международной обстановкой идеологический переход первого в мире социалистического государства на национально-патриотические рельсы — лишь вопрос времени, причем скорейшего. И тогда, в числе прочих, ох как поплачут всякие Карлы, Клары и Фридрихи, а заодно те Ваньки и Егорки, которые легкомысленно променяли исконные свои имена на заграничных Джонов и Жоржей… На другой же день артист пошел в комиссариат и из Вальтера Францевича Бирнбаума стал Владимиром Федоровичем Грушиным.
В самом скором времени это неброское имя прославилось на весь СССР. Гипноз, чтение мыслей, передвижение предметов на расстоянии, разоблачение религиозных «чудес». На его сеансах разговаривали картины и статуи, поднимались и парили над сценой столы, стулья, тяжелые вазы с цветами, а люди вытворяли такое, о чем мгновение назад и помыслить не могли: пели голосами Карузо и Неждановой, крутили двойные сальто, в уме перемножали четырехзначные цифры. «Чудес нет, — комментировал сам Грушин свой уникальный дар. — Я просто сосредотачиваюсь и перепощусь мыслью в другого человека, в неодушевленный предмет, и он начинает жить, подчиняясь моей воле и делясь со мной всеми своими тайнами. На время мы становимся как бы единым целым». — «Вам бы с вашим талантом, да в столицу», — говорили ему знакомые и малознакомые почитатели. «А зачем? — улыбался в ответ Владимир Федорович. — Столица сама ко мне придет».
Так и вышло.
Осенью сорок первого немцы были на подступах к Москве. Все посольства и многие правительственные учреждения, включая и наиглавнейшие, были эвакуированы в Куйбышев. Это обстоятельство не прибавляло спокойствия в доме Грушиных. Каждый день ждали ареста, депортации, а то и чего похуже, вздрагивали при скрипе тормозов за окнами — глава семьи слишком хорошо знал нравы бдительных органов, чтобы надеяться на то, что его немецкое происхождение останется без внимания. Но на протяжении нескольких месяцев никто их не обеспокоил, и постепенно напряжение улеглось.
Однако суровым февралем сорок второго к подъезду Грушиных подъехал длинный черный автомобиль. В сопровождении двух мрачных мордоворотов явился вежливый лысый очкарик с ромбиками старшего политрука в петлицах и предложил отдыхавшему Владимиру Федоровичу срочно проследовать за ним. Александра Павловна, простоволосая, в накинутой прямо на ночную рубашку шубейке, выбежала следом за отъезжающим автомобилем, но споткнулась, упала в заледенелый сугроб и несколько минут пролежала так, без движения, не выпуская из рук авоську с наспех собранным теплым бельишком для мужа. Потом поднялась, подобрала авоську, зашла в дом и, не проронив ни слезинки, стала лихорадочно прикидывать, как бы половчее переправить мать и семилетнюю Оленьку к тетке в Казахстан. О себе и о муже она старалась не думать.
Через два дня Грушин вернулся. Веселый, в белом генеральском полушубке без знаков различия, в каракулевой папахе. От него приятно припахивало легким кахетинским вином. Расцеловав жену и дочку, он с достоинством прошел в комнату, уселся за стол, достал из кармана бордовую с Золотом пачку довоенной «Тройки», неспешно затянулся толстой сигаретой с золотым обрезом и сообщил жене, что выступал с сольным концертом ни больше ни меньше как в Ставке Верховного Главнокомандующего. Гвоздем программы стал сеанс внушения. Два командарма, обнажившись по пояс, продемонстрировали рукопашную схватку по правилам греко-римской борьбы, товарищ Микоян самозабвенно и без малейшего акцента прочитал главу из «Евгения Онегина», а молодой нарком вооружений товарищ Устинов сплясал зажигательную лезгинку к полному восторгу присутствовавшего там же товарища Берия. Грушина накормили царским, по тем временам, ужином, а потом к нему тихо подошел Поскребышев и сообщил, что его желает видеть Сам. На негнущихся от волнения ногах артист долго шел за личным секретарем товарища Сталина извилистыми переходами, пока не оказался у сплошной дубовой двери без всякой таблички — единственной на весь коридор.
Вождь и учитель оказался очень похож на многочисленные свои портреты, только выглядел бледным и усталым. Тихим, глуховатым голосом он предложил Грушину садиться и, выпустив кольцо дыма из знаменитой трубочки, задал несколько общих вопросов. Тот принялся отвечать — дрожащим голосом, несколько более многословно, чем того требовала ситуация. Иосиф Виссарионович слушал, не перебивая, и чертил что-то левой рукой на листке бумаги. В конце недолгой аудиенции товарищ Сталин сложил листок и без слов вручил артисту. Уже в коридоре Грушин развернул бесценную бумажку. Там лаконично, неровными буквами — но без ошибок! — было сформулировано личное задание вождя, которое надлежало выполнить в течение суток.
Утром в местное отделение Госбанка СССР вошел человек в сером пальто с ничем не примечательным коричневым чемоданчиком в руках. Он прошел прямо к окошку кассира, протянул сложенный вчетверо листок, раскрыл чемоданчик и начал укладывать в него тугие пачки пятисотрублевок, услужливо протягиваемые кассиром.
Так и не сказав ни слова, человек вышел из банка и через час, миновав нескольких военных патрулей, приблизился к тщательно охраняемому комплексу зданий, где временно расположилось руководство страны. Беспрепятственно войдя в здание, человек безошибочно направился по извилистым переходам и коридорам. На усиленных постах охраны, расположенных едва ли не на каждом повороте и укомплектованных отборными бойцами НКВД, либо вовсе не замечали человека в сером пальто, либо замирали, отдавая честь, после чего бросались отпирать перед посетителем охраняемые воротца и двери. В очередной раз поднявшись по лестнице, человек остановился перед единственной на этаже сплошной дубовой дверью без таблички, миновал первую комнату — двое находящихся в ней людей не обратили на него ни малейшего внимания, — вошел во вторую и молча поставил чемодан перед сидящим за письменным столом усатым пожилым человеком.
— Принесли, Владимир Федорович? — тихо, с легким кавказским акцентом, спросил усатый.
— Ровно сто пятьдесят тысяч, Иосиф Виссарионович, — ответил Грушин. — Желаете пересчитать? Впервые с начала войны Сталин засмеялся.
На следующий день кассир, выдавший сто пятьдесят тысяч рублей в обмен на вырванную из учебника географии страницу с описанием рек Франции, заведующий отделением Госбанка и начальник правительственной охраны были расстреляны, а Грушина включили в состав особой творческой группы, возглавляемой известным советским драматургом Меркуловым.
Скороговоркой пересказав жене эту историю, Владимир Федорович умчался в заснеженную даль на казенном авто, оставив после себя сумку со сказочным богатством — три буханки горячего белого хлеба, десяток банок американской тушенки, мешочек гречневой крупы, огромный ломоть копченого сала, хозяйственное мыло и, специально для Оленьки, круглую прозрачную дыньку.
В течение еще двух месяцев такие же сумки трижды привозил молчаливый капитан, один взгляд на каменные скулы которого отбивал всякую охоту задавать вопросы. А в начале апреля Владимир Федорович приехал сам.
— В тот вечер я видела его в последний раз, — тихо, с хриплыми придыханиями, продолжила бабушка. — Вальтер был нежен, внимателен и в то же время выглядел растерянным…
«Знаешь, моя родная, завтра, очень рано, я отбываю в длительную командировку. Писать тебе вряд ли смогу, условия будут специфические, но ты не волнуйся, все будет хорошо, — сказал он. — Я оставляю тебе офицерский аттестат, но не только. Вот». И он протянул ей продолговатый сафьяновый футляр. Она открыла и не поверила своим глазам — на белом атласном ложе покоилось редкостной красоты ожерелье, крупные синие сапфиры, обрамленные бриллиантами, в оправе из белого золота. «Это работа моего отца, — сказал Вальтер. — Его руку я узнаю без всякого клейма. А это ожерелье помню особо — ведь отец изготовил его не на продажу, это был его подарок на свадьбу сестры, моей покойной тети Эльзы. Можно только гадать, какими путями оно оказалось в личном сейфе всесоюзного ста…» Он резко замолчал, но она уже поняла, о ком речь. «Ты ограбил самого Калинина?!» — прошептала в ужасе. Он улыбнулся. "Еще вопрос, кто кого ограбил. Я возвратил семейную собственность. К тому же старик сам с радостью отдал мне ожерелье.
Впрочем, теперь он едва ли об этом вспомнит… Если вдруг со мной что-то случится и я не вернусь, — продолжил он совсем другим тоном, от которого ей стало не по себе, — ты сможешь поддержать себя и Олю, потихоньку продавая камушек за камушком надежным людям. Но, умоляю, ни в коем случае не пытайся продать все сразу — это очень опасно. А сейчас давай-ка мы его хорошенько припрячем. Кажется, я знаю подходящее местечко…"
Бабушка дрожащей рукой показала на сундук. — Да, — сказала она, проследив за взглядом Нила. — Мы выгребли оттуда все барахло прямо на пол, Вальтер взял стамеску и молоток и начал, стараясь не шуметь, вырезать нишу в стенке сундука.
Я быстренько сварила клейстер, набрала газет. Вальтер еще возился с сундуком, и я взяла футляр в руки, вновь раскрыла его. Момент был не самый подходящий, но я не удержалась, застегнула ожерелье на шее и подошла к зеркалу. Боже мой! Мне захотелось сбросить с себя омерзительное тряпье, уложить волосы, надеть открытое платье, сделать маникюр, почувствовать себя женщиной!..
Она начала задыхаться. Нил поспешно налил воды из графина, дал ей напиться.
Несколько минут бабушка лежала молча, потом вновь приподнялась на подушке.
— Я очнулась от того, что Вальтер вдруг нежно обнял меня за плечи, — я даже не заметила, как он подошел сзади, — глядя на мое отражение в зеркале, тихо произнес: «Как ты, однако, хороша…» И мы с ним тихо заплакали — от безысходности, от невозможности выбрать для себя другую жизнь, от неизбежной, может быть, окончательной разлуки….
Кончилась война, а от Вальтера не было никаких известий. Однажды вечером, в июне сорок пятого, раздался звонок, и она открыла дверь. Перед ней стоял средних лет мужчина в хорошем темно-сером костюме. «Александра Павловна Грушина?» — спросил он. «Да, это я». — «Полковник Серов, Иван Николаевич. Позвольте войти?»
Сердце у нее заныло от дурных предчувствий. «Мне трудно говорить, — с грустью произнес Серов, — но я должен… В течение трех лет ваш супруг, Владимир Федорович Грушин, успешно выполнял труднейшую разведывательную работу на территории Германии и сопредельных стран. Ему удалось внедриться в ближайшее окружение Геринга и наладить передачу исключительно ценной ин-' формации, благодаря которой наше командование имело возможность соответствующим образом упредить события и тем самым сохранить многие тысячи жизней. Полковник Грушин работал в условиях глубочайшей конспирации и связаться с вами не мог. ^Последнее сообщение от него мы получили в конце апреля сорок пятого года, во время берлинской операции. Он находился в Берлине до самого последнего дня и, по свидетельству надежных источников, погиб при налете авиации союзников. Сейчас весь Берлин лежит в развалинах, и его тела, к сожалению, найти не удалось. Если бы он был жив, он обязательно дал бы о себе знать. Это был честный советский патриот… Полковник Грушин Владимир Федорович награжден двумя орденами Ленина и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награды я передаю вам вместе с наградной книжкой и личным посланием нашего шефа».
Она развернула плотную бумажку, там были две строки: "Горжусь Вашим мужем.
Глубоко сочувствую. Лаврентий Берия"… Эта бумажка очень пригодилась через год, когда она затеяла вернуться в Ленинград, чтобы Ольга могла получить лучшее музыкальное образование. И еще Серов оставил документы на пожизненную персональную пенсию…
— Почему же ты до сих пор молчала? Почему я только сейчас узнаю, что у меня, оказывается, дед был герой-разведчик, настоящий, невыдуманный Штирлиц? — с горечью спросил Нил.
— Твоя мать не знает об этом до сих пор, ей известно лишь, что ее отец погиб в самом конце войны, — с трудом произнесла бабушка. — На прощание Серов взял с меня слово, что этот разговор останется между нами, а летом пятьдесят третьего меня вызвали в Большой дом и заставили подписать бумагу о неразглашении… Так что теперь, рассказывая тебе о деде, я совершаю государственное преступление. Только мне уже все равно, .их суд мне уже не страшен…
Бабушка отвернулась, поднесла платок к глазам. Нил застыл, как громом пораженный — он и не подозревал, что она способна плакать. Он робко подошел к ней, положил руку на неожиданно хрупкое, будто птичье, плечо.
— Не надо, ба…
— Не надо чего? — Она подняла на него молодые насмешливые глаза. — Что-то разболталась я… Дедовы ордена и документы к ним лежат в сундуке, на самом дне.
Погляди, коли любопытно, назад положи и сундук запри. И смотри, язык-то не распускай, тебе еще жить тут и жить. Опять же, охотников нынче много, украдут, как ожерелье украли… Эх, чуяло мое сердце, что не ко времени Оленьке его показала…
Бабушка опустила голову на подушку и отвернулась к стене. Нил на цыпочках подошел к сундуку, стал тихо вынимать из него вещи, разглядывать по очереди и складывать на пол. Несколько афиш, высокая шляпная картонка, из которой он вынул твердый шелковый цилиндр, из цилиндра выпала черная маска, тоже обтянутая шелком. Пахнущая нафталином старинная черная крылатка. Альбом в темно-синем бархатном окладе. Плоская коробочка алой кожи с золотой застежкой, еще одна. В правой боковой стенке, оклеенной газетой военных времен, рядом с карикатурой — плачущий Гитлер играет на гармошке, а из раскрытого рта ленточкой вылетают слова: «Последний нонешний денечек» — зияла прямоугольная дыра. Нил ощупал ее неровные края пальцами, чувствуя, как краска заливает лицо…
С фамильным ожерельем у него была связана своя тайна, которая, в отличие от бабушкиной, не содержала в себе ничего героического, романтического или хотя бы достойного…
Впервые он увидел эту красивую штучку на шее матери в тот день, когда в театр нагрянула весть, что ей присвоено звание народной артистки РСФСР. Ольга Владимировна не отходила от зеркала, принимая всякие вычурные позы. Нилу это показалось нелепым, скоро наскучило, и он не выказал никакой реакции по поводу очередной маминой побрякушки. Назавтра Ольга Владимировна отбыла в Москву, в Министерство культуры, а вечером ее показали по телевизору. В большом красивом зале она лобызалась с представительным седовласым мужчиной в черном костюме, который вручил ей большой диплом и роскошный букет цветов. Еще через день мама приехала и привезла с собой несколько фотографий, деланных на торжественном банкете. На одной из них с ней танцевал человек, вручивший ей награду, — мама с гордостью сказала, что это сам министр. На открытой шее было отчетливо видно ожерелье. Увидев его, бабушка словно окаменела и строгим голосом велела маме выйти с ней в ее комнату. Они долго не возвращались, а потом мама появилась с красными, заплаканными глазами, держа в руке сафьяновый футляр…
Минуло несколько месяцев. Нил сидел на скамеечке и угрюмо ковырял палкой землю под ногами. Домой он попасть не мог — бабушка, наверное, отправилась по магазинам, а ключи он оставил в кармане зимнего пальто, из которого только вчера перелез в весеннюю шуршащую курточку, привезенную мамой из-за границы. Во дворе было скучно и пусто, возле лужи дрались за хлебную корку воробьи, и в песочнице копошилась малышня, сооружая куличики.
— А ты чего не играешь? — спросил прямо над ухом кто-то незнакомый.
Нил поднял голову и увидел мужчину лет тридцати пяти, хорошо одетого, с холодными серыми глазами.
— Это с ними, что ли? — Нил указал на песочницу.
Незнакомец опустился на скамейку рядом с ним и поддакнул:
— Мелюзга сопливая. А ты в каком классе учишься?
— В третьем.
— Большой уже. А хочешь, научу в ножички играть?
Незнакомец достал из кармана узкий складной ножик с красной ручкой, открыл и принялся ловко кидать в землю. Ножик проделывал в воздухе самые замысловатые вращения, но всегда втыкался острием. Затем незнакомец принялся кидать с каждого пальца по очереди, с ладони, с локтя, с колена — но острие постоянно входило в землю. Нил восхищенно наблюдал.
— Теперь ты попробуй.
Незнакомец протянул ножик Нилу. Тот взялся двумя пальцами за лезвие и кинул в землю, но ножик плюхнулся плашмя. Нил повторил еще и еще раз, все равно ничего не получалось. Губы непроизвольно растянулись, еще чуть-чуть — и расплачется.
— Ну ничего, еще натренируешься, — утешил незнакомец и протянул нож Нилу. — Дарю.
Нил даже порозовел от радости. Сколько ни просил маму, бабушку купить ему нож — те не соглашались ни в какую.
— Как зовут-то тебя?
— Нил Баренцев.
— Баренцев? Слушай, а певица, народная артистка Баренцева — это не твоя мать?
— Моя, — с гордостью кивнул Нил. Незнакомец достал из кармана фотографию.
Мама на приеме в министерстве, в декольтированном платье, с роскошным ожерельем на шее.
— Красивая у тебя мать и певица замечательная. Она мне очень нравится, — продолжал незнакомец. — Какое у нее красивое ожерелье — это, наверное, папа подарил?
— Нет, папа у меня летчик, на Украине работает, а раньше в Китае. Он маме веер подарил и халат с драконами. А ожерелье бабушкино — она его в сундуке прятала, а мама взяла потихонечку и надела, тогда бабушка ее отругала, только мама все равно его не отдала и заперла в свою шкатулку, — разоткровенничался Нил.
— Так ты только с бабушкой живешь и с мамой?
— Еще с бабуленькой — это бабушкина мама, — только она совсем старая, глухая и не соображает ничего.
Незнакомец поднялся и протянул Нилу руку.
— Ну давай, Нил Баренцев, тренируйся, а если тебя про ножик спросят — скажи, что нашел, а то еще отругают, что подарок взял.
Недели через две случилось то, что должно было случиться. Мать открыла шкатулку — и не нашла в ней коробочку с ожерельем. Скандал был неописуемый, бабушка слегла на неделю, мать была в отчаянии. Специально приглашенный по этому поводу знакомый адвокат, выслушав сбивчивые объяснения матери, сказал, что раскрыть это дело — дохлый номер.
— Слишком уж информирован был вор. Действовал точно, быстро, явно по наводке. Уж кто из вас проболтался — разбирайтесь сами, но засветила ожерелье ты, — сказал он матери. — В милицию заявлять я не стал бы — мороки много, а толку все равно не дождетесь.
Мать выспрашивала бабушку, Нила, но тот только ревел — ревел от злости и досады, потому что понял все. Лицо маминого «почитателя» он запомнил на всю жизнь…
V
Не прожив без Линды и трех дней, Нил остро почувствовал, что значит «не находить себе места». Где бы он ни был — в университетской аудитории, в квартире на Моховой, вновь приютившей его, на осенней улице, пробирающей до костей холодом или промозглой сыростью, на площадке очередной дискотеки или в очередных пьяных гостях, — казалось, что сам воздух выдавливает его отсюда, указывая и;) его, Нила Баренцева, несовместимость именно с этим кусочком пространства. Бежать было некуда, иногда удавалось на время забыться, но надолго спрятаться в учебу, в музыку, в вино, в уход за бабушкой, отлеживающейся дома после срочной и тяжелой операции на сердце, не получалось. Все чаще, задумавшись о чем-то, садился не в тот троллейбус или отклонялся от намеченного пешего курса и неизменно опоминался на Петроградской, ввиду знакомого грязно-голубого дома с вычурными башенками и высоким гнутым фонарем в центральном дворе. Всякий раз он поворачивал обратно — еще не чувствовал себя готовым зайти.
Решительность явилась вместе с морозами, внезапно грянувшими в конце ноября. Объяснялась она до банальности просто — в старенькой болонье и легких полуботинках ходить стало нестерпимо холодно, а весь его гардероб, в том числе и зимний, остался там, в комнате, которую он еще два месяца назад делил с Линдой.
— Я даже не посмотрю в ее сторону, — шептал он, поднимаясь в антикварном лифте. — Отвернусь и скажу так: «Все, что ты хотела получить от меня, ты получила, и пусть оно у тебя остается, мне ничего не нужно. С твоего позволения, я заберу только свою одежду, тебе она никак не пригодится. Если захочешь оформить прекращение наших отношений, ты знаешь, где меня найти…» Главное — не глядеть на нее, только не глядеть…
Отворачиваться не пришлось, и не понадобилось ничего говорить. В безупречно прибранной комнате пахло давним безлюдьем, оставленная на столе и прижатая вазой записка успела чуточку пожелтеть и скрутиться по краешкам: «Я забрала только свою одежду, тебе она никак не пригодится. Больше мне ничего не нужно. Если хочешь оформить развод, ты знаешь, где меня найти…» Он скомкал записку, положил в карман, лег на широкий матрац и лежал там, пока давление пустоты не сделалось нестерпимым.