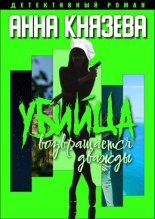Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем Найт Фил

«Тепло душевное согреет, и ты увидишь чудеса».
Дальше – Рим, несколько дней провел, шляясь по маленьким трактирам, уминая горы макарон, заглядываясь на красивейших женщин и на самые красивые туфли из когда-либо виденных мною (римляне в эпоху цезарей верили, что если надевать вначале правый, а затем левый ботинок, это принесет процветание и удачу). Я внимательно осмотрел руины спальни Нерона, грандиозные развалины Колизея, необъятные залы и комнаты Ватикана. Избегая толпы, я всегда оказывался у входа на рассвете, намереваясь быть первым в очереди. Но очередей ни разу не случилось. Город оторопел от небывалого похолодания. Все достопримечательности оказались полностью в моем распоряжении.
Даже Сикстинская капелла. Оказавшись под потолком с фресками Микеланджело, я получил возможность сколько моей душе было угодно изумляться и удивляться. Я прочитал в своем путеводителе, что во время создания своего шедевра Микеланджело был в очень подавленном состоянии. У него болели спина и шея. Ему в глаза и на волосы постоянно попадала краска.
Друзьям он постоянно жаловался, что скорее бы с этим покончить. Если даже самому Микеланджело не нравилась его работа, думал я, на что же надеяться всем нам?
Я поехал во Флоренцию. Потратил несколько дней на поиски Данте, читая Данте, озлобленного ссыльного мизантропа. Мизантропия у него возникла до или после? Была ли она причиной или же результатом его озлобления и ссылки?
Я стоял перед Давидом, потрясенный выражением гнева в его глазах. У Голиафа не оставалось шанса.
Поездом добрался до Милана, интимно пообщался с Да Винчи, рассмотрел его красивые записные книжки и подивился его своеобразным навязчивым мыслям. Главная из них была о человеческой ноге. Шедевре инженерного искусства, как он сам ее называл. Произведении искусства.
Кто я такой, чтобы спорить?
В последний мой вечер в Милане я провел, слушая оперу в театре «Ла Скала». Предварительно я проветрил свой костюм от Брукс Бразерс и с гордостью носил его, оказавшись среди итальянцев, затянутых в смокинги, пошитые на заказ, и итальянок в платьях, усыпанных драгоценностями. Все мы с восхищением слушали «Турандот». В тот момент, когда Калаф затянул арию Nessun dorma: «Меркните, звезды! На рассвете я одержу победу, я одержу победу, я одержу победу!» – глаза мои наполнились слезами, и с падением занавеса я вскочил с места. Брависсимо!
Далее мой путь лежал в Венецию, где я провел несколько томных дней, ходил по следам Марко Поло и простоял, не знаю как долго, перед палаццо Роберта Браунинга. Если вы приобретете простую красоту и ничего больше, вы, пожалуй, будете обладать лучшим из того, что изобрел Бог.
Время мое истекало. Дом звал меня. Я поспешил в Париж, спустился глубоко под землю в Пантеон, слегка коснулся рукой гробниц Руссо и Вольтера. Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям. Я снял номер в захудалой гостинице, полюбовался на потоки зимнего дождя, заливавшие переулок, который был виден из моего окна, помолился в Нотр-Дам и заблудился в Лувре. Купил несколько книг в магазине «Шекспир и Компания» и постоял в том месте, где спали Джойс и Ф. Скотт Фицджеральд. Потом медленно прошелся вдоль Сены, остановившись, чтобы выпить чашечку капучино в кафе, где Хемингуэй и Дос Пассос читали Новый Завет друг другу вслух. В последний день я прогулялся по Елисейским Полям, отслеживая путь освободителей и все время думая о Паттоне. Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью.
Из всех великих генералов он больше других был одержим мыслями о солдатской обувке. Солдат в ботинках – просто солдат. Но в сапогах он становится воином.
Я вылетел в Мюнхен, выпил кружку ледяного пива в «Бюргербройкеллер», где Гитлер стрелял из пистолета в потолок и откуда начался путч. Хотел посетить Дахау, но когда обращался с вопросом, как туда проехать, люди отворачивались, делая вид, что не знают. Я отправился в Берлин и пришел на пограничный КПП Чекпойн Чарли. Русские часовые, с плоскими лицами, в тяжелых шинелях, изучили мой паспорт, похлопали меня по спине и поинтересовались, что за дела у меня в коммунистическом Восточном Берлине. «Никаких», – ответил я. Я был в ужасе, ожидая, что они каким-то образом узнают, что я посещал занятия в Стэнфорде. Буквально перед моим прибытием в Берлин два студента из Стэнфорда попытались тайно переправить на «Фольксвагене» подростка на Запад. Их до сих пор держали в тюрьме.
Но часовые, пропуская меня, лишь помахали мне вслед. Немного пройдя, я остановился на углу Карл-Маркс-плац. Огляделся по сторонам. Ничего. Ни деревьев, ни магазинов, никакой жизни. Я вспомнил нищету, виденную мною в каждом уголке Азии. Но это была иная нищета, более умышленная, что ли, и более предотвратимая. Я увидел троих детей, играющих на улице. Я подошел и сфотографировал их. Двое девятилетних мальчишек и девочка. Девочка – в красной шерстяной шапочке, розовом пальтишке – взглянула мне прямо в глаза и улыбнулась. Смогу ли я когда-нибудь забыть ее? Или ее туфельки? Они были из картона.
Я отправился в Вену, на тот судьбоносный, пахнущий душистым кофе перекресток, где в один и тот же исторический момент жили Сталин и Троцкий, Тито и Гитлер, Юнг и Фрейд и где они слонялись по одним и тем же душным кафе, планируя, как спасти мир (или покончить с ним). Я прошел по той же булыжной мостовой, по которой ходил Моцарт, пересек изящный Дунай по красивейшему из всех виденных мною каменному мосту, остановился перед уходящими в небо шпилями собора Святого Стефана, в котором Бетховен обнаружил, что он оглох. Он поднял глаза, увидел испуганных птиц, взлетевших с колокольни, и, к своему ужасу, не услышал колокольного звона.
И наконец я полетел в Лондон. Я быстро сходил к Букингемскому дворцу, потом в Уголок ораторов в Гайд-парке, в универмаг «Хэрродс». Посетил даже палату общин. Закрыв глаза, я вызывал в воображении дух великого Черчилля. Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа – победа любой ценой, победа, несмотря на все ужасы; победа, независимо от того, насколько долог и тернист может оказаться путь к ней… без победы мы не выживем. Мне отчаянно хотелось запрыгнуть в автобус, идущий в Статфорд, чтобы увидеть дом Шекспира. (Женщины елизаветинских времен носили красную шелковую розу на носке каждой туфли.) Но у меня время было на исходе.
Последнюю ночь я провел, перебирая в памяти всё произошедшее во время моего путешествия и делая заметки в дневнике. Я спросил себя – что было самым ярким?
Греция, подумал я. Вне всяких вопросов. Греция.
С момента отъезда из Орегона больше всего меня волновали два пункта из моих планов. Я хотел довести до сознания японцев свою Безумную идею. И я хотел постоять перед Акрополем.
За несколько часов до посадки в самолет в аэропорту Хитроу я продолжал медитировать, переживая вновь тот момент, когда я, запрокинув голову, смотрел на те удивительные колонны, испытывая вдохновенный шок, который вы получаете от любой необычайной красоты, наряду с сильнейшим чувством – узнаванием.
Было ли это лишь моим воображением? В конце концов, я стоял там, где зародилась западная цивилизация. Может, я просто хотел, чтобы увиденное мною показалось знакомым. Нет, не думаю. Мною овладело абсолютно ясное ощущение. Я уже бывал здесь раньше.
А пока спускался по выцветшим ступеням, четко ощутил: вот где все началось.
Слева от меня высился Парфенон, свидетелем строительства которого был Платон, наблюдавший за группами архитекторов и рабочих. Справа – храм Афины Ники. Согласно моему путеводителю двадцать пять веков тому назад его обрамлял красивый фриз с изображением богини Афины, которая, как считалось, приносит победу.
Это было одним из чудесных даров, которыми была наделена Афина. Она также вознаграждала ведущих переговоры о сделках. В трилогии Эсхила «Орестея» она произносит: «Я чту… взор убежденья». Она была, в некотором смысле, покровительницей переговорщиков.
Не знаю, сколько я простоял там, впитывая энергию и силу этого эпохального места. Час? Три часа? Не знаю, сколько времени прошло после того дня, когда мне в руки попала пьеса Аристофана, действие которой происходит в храме Ники Аптерос. Там есть сцена, в которой воин передает в дар царю пару новых башмаков. Не помню, когда до меня дошло, что название пьесы «Всадники» перекликается с моей фамилией (Knights – аналогия с фамилией Фила Найта – Phil Knight. – Прим. пер.). Но одно я знаю точно: когда я развернулся, собираясь уходить, мой взгляд упал на мраморный фасад храма. Греческие мастера украсили его изящной резьбой, живописующей несколько сцен, включая наиболее известную рельефную плиту, изображающую богиню, наклонившуюся, чтобы… поправить ремешок на своей сандалии.
24 февраля 1963 года был мой двадцать пятый день рождения. Я вошел в дверь дома на улице Клейборн: волосы до плеч, борода в три дюйма длиной. Мама вскрикнула. Сестры заморгали, будто не узнавая меня, или же до них все еще не дошло, что я куда-то уезжал. Объятия, восклицания, взрывы смеха. Мама заставила меня присесть, налила мне чашку кофе. Она хотела все услышать. Но я был в изнеможении. Оставил чемодан и рюкзак в холле и направился к себе в комнату. Как сквозь туман, увидел свои голубые ленты. Мистер Найт, как, говорите, называется ваша компания?
Я свернулся калачиком на кровати, и сон сошел на меня, как опускающийся занавес в «Ла Скала».
Час спустя меня разбудил мамин голос: «Ужинать!»
Отец вернулся с работы. Он обнял меня, когда я вошел в столовую. Он тоже хотел услышать все в подробностях. А я хотел ему все рассказать. Но прежде я хотел узнать одну вещь.
«Пап, – спросил я, – кроссовки прислали?»
Сомнения
Отец пригласил на кофе с пирожными и на просмотр «слайдов Бака» всех соседей. Покорный, стоял я у проектора, апатично нажимая на переключатель для перехода к следующему слайду и давая описание пирамид, храма Ники. Но сам я в комнате отсутствовал. Я был у пирамид, в храме Ники. Я думал о заказанных кроссовках.
Прошло четыре месяца после той знаковой встречи в компании «Оницука», когда я завязал контакт с ее руководителями и убедил их своими аргументами, или же я думал, что убедил, – а кроссовки так и не прислали. Я настрочил письмо: «Уважаемые господа, касательно нашей встречи осенью прошлого года, была ли у вас возможность отправить мне образцы?.»
Затем я решил несколько дней отдохнуть, выспаться. Нужно было постирать белье, встретиться со старыми друзьями.
Вскоре я получил ответ от «Оницуки». «Кроссовки готовы к отправке, – говорилось в нем. – Прибудут буквально через несколько дней».
Я показал письмо отцу. Он поморщился. Буквально через несколько дней?
«Бак, – сказал он, посмеиваясь, – тех пятидесяти баксов уже давно нет».
Мой новый внешний вид – волосы, как у потерпевшего кораблекрушение и осевшего на необитаемом острове, борода, как у пещерного человека, – все это было перебором для мамы и сестер. Я ловил на себе их удивленные и неодобрительные взгляды. Я почти слышал, что они думают обо мне: бродяга. Поэтому я побрился. Разглядывая себя в небольшом зеркале, установленном на комоде в той части дома, которая когда-то отводилась для прислуги, я произнес, обращаясь сам к себе: «Официальное заявление. Ты вернулся».
И все же пока это было не так. Я ощущал в себе нечто такое, что уже никогда не вернется. Мама заметила это раньше других. Однажды за ужином она посмотрела на меня долгим, испытующим взглядом. «Похоже, ты стал более… искушенным».
«Искушенным», – повторил я про себя. Боже правый!
До прибытия кроссовок, – да если они вообще прибудут, – мне надо было бы найти, как и чем зарабатывать деньги. До своей поездки я выдержал интервью в брокерском доме «Дин Виттер». Может, ещё раз туда сходить? Я переговорил об этом с отцом, в его телеуголке. Он потянулся в своем виниловом кресле и предложил мне вначале побеседовать с его старинным приятелем Доном Фрисби, главным исполнительным директором и председателем правления «Пасифик Пауэр энд Лайт».
Я знал мистера Фрисби. Я проходил у него летнюю стажировку. Мне он нравился, и мне импонировало, что он выпускник Гарвардской школы бизнеса. Когда речь заходила о школах, я становился немного снобом. А ещё меня поражало то, как ему так быстро удалось дорасти до исполнительного директора компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже.