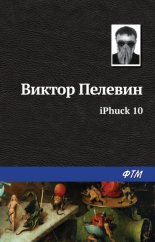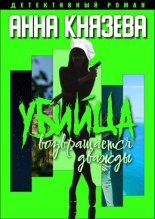Желание Спаркс Николас

– Я работаю. Она это понимает. И потом, она приедет сюда двадцать восьмого. Мы побудем немного вместе, посмотрим, как опустится шар на Таймс-сквер, и все такое.
– А я с ней познакомлюсь?
– Если хотите.
– Если вам понадобится выходной, дайте мне знать. Уверена, пару дней я как-нибудь продержусь здесь своими силами.
В этом она сомневалась, но ей вдруг захотелось предложить ему отдых.
– Я вас предупрежу.
Мэгги сделала еще глоток смузи.
– Не знаю, упоминала ли я об этом в последнее время, но вы отлично справляетесь с работой.
– Она мне в радость, – ответил он и выжидательно умолк, она снова убедилась, что он твердо решил не задавать личных вопросов. И это означало, что ей придется либо рассказывать о себе по собственной инициативе, либо хранить молчание.