Колымские рассказы Шаламов Варлам
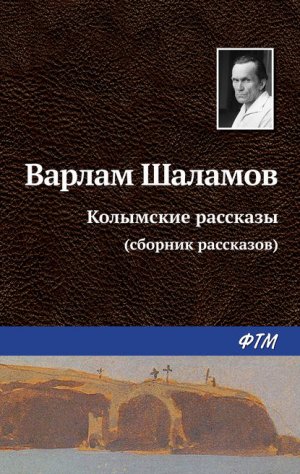
Голодные глаза Шейнина заблистали.
– Сейчас я кипятку…
– Да не надо кипятку!
– Нет, я сейчас, – и он исчез.
Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: вопервых, кому-то плохо, вовторых, плохо не мне. Это не зависть, нет…
Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.
Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив.
Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое: Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты – счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.
Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, – начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, – начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках – в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские.
Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.
– Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!
Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.
Рябов грел руки о печную трубу.
– Есть котелки – значит, есть что варить, – глубокомысленно изрек начальник прииска. – Это, знаете, признак довольства.
– Да ты бы видел, что они варят, – сказал Коваленко, растаптывая котелки.
Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я – ягоды, Синцов – размокший, бесформенный хлеб, а Губарев – крошки капустных листьев. Мы все сразу съели – так было надежней всего.
Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, – когда-то я этого не мог, но опыт, опыт… Сон был похож на забытье.
Жизнь возвращалась, как сновиденье, – снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.
Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.
– Ваш человек? – и смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.
– Это Ефремов, – сказал дневальный.
– Будет знать, как воовать чужие дрова.
Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» – мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался – он лежал и тихонько стонал.
1960
Дождь
Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и кайла заправлялись без всякой задержки – редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать – работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки не переставая. На каменистой почве нельзя узнать – час льет дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блатарей – даже для зависти у нас не было силы.
Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатым, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать, до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» – известным лагерным сооружением.
Мы не могли выходить из шурфов – мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу – мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья.
За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни – того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади – я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и, хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное: что человек стал человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.
Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой, потому что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоком, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное – по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я – навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я точно подготовил место, куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом – и камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похвалил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось, – я отдернул ногу. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины – вот и весь результат так хорошо подготовленного дела.
И я понял, что не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей удачей был конец рабочего дня, три глотка горячего супу – если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок – трехлитровая консервная банка – у меня есть. Закурить, вернее, докурить, я попрошу у нашего дневального Степана.
Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит, и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще… И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.
Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей – первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал – как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки – ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, – вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде – все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией – дьявольской гармонией.
И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира – издалека, из-под гриба.
– Слушайте, – кричал он, – слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет… Нет…
Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались.
– Он заболел, – сказал я.
В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.
Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под груженую вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее за покушение на самоубийство на него завели дело, он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести под горячую руку – следователю, свидетелям. Это мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять.
1958
Кант
Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок – держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.
Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач.
Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством: процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все взапуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах – и руку поднимать не надо – наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник – его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы, все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз, – то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.
Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту – так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо – стланик, вечнозеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланик вдруг растягивал по земле свои огромные, двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но стланик не ложился – можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет.
В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланик вокруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну.
Стланик был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался, – он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви стланик и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна – бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести – торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеленея, сверкал стланик. К тому же на нем росли орехи – мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки и бурундуки.
Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах – голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки, – спичек здесь не было.
Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер – сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.
Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою стланика. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед – за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает, и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного средства и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинготное средство – в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено.)
Представителем витамина С инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья – я ослабел и из золотого забоя был переведен щипать стланик.
– Походишь на стланик, – сказал утром нарядчик. – Дам тебе кант на несколько дней.
«Кант» – это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых (в таком случае говорят: он «припухает», «припух» на сегодня), а такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую временную работу.
Работа на стланике считалась не только легкой – легчайшей работой, и притом она была бесконвойной.
После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной работа на стланике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу еще в темноте.
Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ, и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы.
Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам.
– Я буду рубить, а ты садись щипать, – сказал он. – И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой я не хочу.
Он нарубил стланиковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.
– Надо быстрее, – сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. – Плохо, брат!
Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланика.
Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее.
– Пора домой, – сказал он вдруг. – А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит. – И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. – Там не развязывают, – сказал он, хмурясь. – Теперь будет норма.
Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью.
– Волоком волоки, – сказал товарищ. – Вниз ведь тащить, не вверх.
Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.
1956
Сухим пайком
Когда мы, все четверо, пришли на ключ Дусканья, мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой – растаявшим льдом – каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши-чуни, не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.
Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника, на земляном полу валялась черная, закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку – с нами были топоры и пилы.
Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в нескольких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов – ячневая и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый – Федя Щапов – легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.
Десятидневные пайки выглядели пугающе: не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей – если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей – если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня – его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он – мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.
Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль – мы голодали давно. Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба – самое долговечное человеческое чувство.
Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи – арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара, – наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.
Иван Иванович и Федя смешали свои продукты, Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.
Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее – хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности сто граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны – взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» – премиальный килограмм хлеба, – просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером – отдать давнишний долг.
Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.
Мы были дисциплинированны, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь – родные сестры, что на свете тысячи правд…
Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи.
Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.
Мы поняли – это было самое главное, – что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере – это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов – подлец, а Петров – шпион, а Заславский – лжесвидетель?
Невозможность пользоваться известными видами оружия делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.
Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», то есть исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав.
Благодаря своим физическим преимуществам он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он – моральная сила до тех пор, пока он – сила физическая.
Афоризм Павла I: «В России знатен тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю» – нашел свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера.
Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют походя – не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.
Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы, и судили его за незаконный убой скота – единственной овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет, приисковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую, работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду помогало ему немножко. Он, самый молодой среди нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному – Ивану Ивановичу.
Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо вождю партии, как верный комсомолец, уверенный, что до вождя не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным (переписка с собственной невестой), где свидетельством агитации (пункт десять пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу; его «организация» (пункт одиннадцатый той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допроса. Все же думали, что, кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.
Вскоре после отсылки письма, в один из «заявительных» тюремных дней, Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз – вручить ему приговор особого совещания: десять лет лагерей.
В лагере Савельев «доплыл» очень быстро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву – ее улицы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни Ленинград, ни Киев, ни Одесса не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца.
Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного, чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота – еще хорошо, что слезы не имеют запаха.
По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубаху и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, наутро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата – такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.
Вшей мы сожгли, поднося рубаху к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках – на этот раз дезинфекция была надежной.
Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чаек, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.
Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь, – ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.
Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если бы головней было три, они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще…
Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На материке давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресенье праздником – дни отдыха для заключенных, введенные много позже нашего житья-бытья на лесной командировке, были три раза в месяц по произволу местного начальства, которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком холодные зимой для отдыха заключенных в счет выходных.
Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.
Сообща мы, все четверо, приняли мудрое решение: варить два раза в день – на три раза продуктов решительно не хватало.
– Мы будем собирать ягоды и грибы, – сказал Иван Иванович. – Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.
– Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов, – сказал Савельев, – как удержаться, чтобы не съесть лишнего, когда привезут приварок?
Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и, в крайнем случае, разводить пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили все полностью по норме: тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты, – всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заключенных без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.
Мы получили полностью свои жиры в виде комочка гидрожира, сахарный песок – меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб – липкий, вязкий хлеб, над выпечкой которого трудились великие, неподражаемые мастера привеса, кормившие и начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе не известных нам в течение всей нашей жизни: магар, пшеничная сечка – все это было чересчур загадочно. И страшно.
Рыба, заменившая по таинственным табличкам замены мясо, – ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.
Увы, даже полученные полностью нормы не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо больше – организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили нормам – и известное поварское наблюдение, что легче варить на двадцать человек, чем на четверых, не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.
Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзалось и укреплялось там тончайшими волосками щупальце – корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха – ярко-зеленом и ярко-розовом.
Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства даже на Севере, нетребовательном к материалу для возведения зданий. Эти крученые деревья и на дрова не годились – своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севером жизнь.
Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.
Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!
Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» – все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.
Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари – не для них ли труд был геройством и доблестью?
Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, никчемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугая.
Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о «высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу – чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.
Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой, но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексам лагерного поведения.
Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с большим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться под комель бревна, а кому под вершину при переноске их в штабеля – трелевке, как это называется по-лесному.
Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы филонили.
Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву, пила зазвенела о камни, и сели на ствол поваленного дерева.
– Вот, – сказал Савельев. – Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы – бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров, – все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет немного. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.
– А честный труд? – сказал я.
– К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти. Это выгодно им – этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы.
Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.
– Ну, отказался от работы. Составили акт – одет по сезону…
– А что это значит – «одет по сезону»? – спросил Федя.
– Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?
– У нас не оставляли, – робко сказал Федя. – Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».
– Вот-вот.
– Ну, расскажи про метро.
И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.
– У магометан, Федя, – говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, – на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет: трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь – все было отвергнуто Магометом… Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего: «Готово!»
Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник – в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все Федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.
Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы.
Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И, странное дело, когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «Ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально, – и все это задолго до войны.
Когда мы вчетвером собрались на ключе Дусканья, мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое: сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье-мечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же: пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба.
Человек счастлив своим уменьем забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе Дусканья, не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены Севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше.
Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из перекуров. Перекур – это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листы черной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски страстные, на тему: брусничный или смородинный лист вкуснее. Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для перекуров-отдыхов смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком одиозно и идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час – это вызов, это и преступление, но ежечасная перекурка – в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем на Севере, явления не совпадали с правилами. Сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем.
– Послушай, Иван, – сказал Савельев. – Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге на вторых путях мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубометров. Меньше полнормы сделаешь – штрафной паек: триста граммов и баланда один раз в день. А тот, кто сделает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немыслимые. Так мы словчили так: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатаем норму. Получаем два килограмма хлеба да триста граммов штрафных моих – каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное, десятник был душа – он, конечно, знал. Ему было даже выгодно – люди не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье.
– Что ж, хочешь здесь попробовать? – сказал Иван Иванович.
– Я не хочу, а просто мы тебе поможем.
– А вы?
– Нам, милый, все равно.
– Ну и мне все равно. Пусть приходит сотский.
Сотский, то есть десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбылись.
– Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, – важно пошутил десятник.
– Да, – сказал Савельев, –
- Сначала ОП, потом ОК,
- На ногу бирку и – пока!
Посмеялись для приличия.
– Когда обратно-то?
– Да завтра и пойдем.
Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки – таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.
Федя Щапов и я собирались в великом смущении – у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые портянки, мешочки, полотенце, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выварил вшей, чиненые ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежды мертвеца – он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде на воле вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере – обыденность смертей, притупленность чувств снимает интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.
Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, сидевший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор.
Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили дрова, – бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.
Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву – четыре пальца отлетели в опилки, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затянули жгут на руке Савельева, завязали рану.
Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева – в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел – для начала дела о членовредительстве, Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.
Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом – сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.
Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное:
«Мама, – писал Федя, – мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону…»
1959
Инжектор
Начальнику прииска тов. А. С. Королеву
начальника участка «Золотой ключ» Кудинова Л. В.
РАПОРТ
Согласно Вашему распоряжению о предоставлении объяснений по поводу шестичасового простоя 4 бригады з/к з/к, имевшего место 12 ноября с. г. на участке «Золотой ключ» вверенного Вам прииска, доношу:
Температура воздуха утром была свыше пятидесяти градусов. Наш градусник сломан дежурным надзирателем, о чем я докладывал вам. Однако определить температуру было можно, потому что плевок замерзал на лету.






