Книга Балтиморов Диккер Жоэль
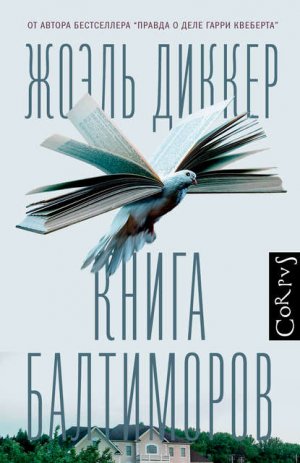
– Что?
– Взяли бы и сами полезли первым.
– Я не позволю какому-то мальчишке мной командовать! – отбивался тренер.
– Боитесь? – спросил Гиллель. – Я бы на вашем месте боялся. По-моему, эти палки довольно-таки опасные. Знаете, я не ипохондрик, но где-то я читал, что, если упасть с трехметровой высоты, вполне можно сломать позвоночник и остаться парализованным на всю жизнь. Кто хочет остаться парализованным на всю жизнь? – обратился он к нам.
– Не я! – хором ответили мы.
– Молчать! – рявкнул тренер.
– Вы уверены, что у вас есть диплом тренера по гимнастике? – не отставал Гиллель.
– Само собой! А теперь хватит!
– По-моему, нам всем было бы спокойнее, если бы вы нам свой диплом показали.
– Но у меня же с собой его нет! – возразил тренер; его самоуверенность сдувалась на глазах, как воздушный шарик.
– У вас его нет с собой или у вас его нет вообще? – нахально спросил Гиллель.
– Дип-лом! Дип-лом! – завопили мы все.
Мы скандировали до тех пор, пока тренер, выйдя из себя, не прыгнул по-обезьяньи на шест и не полез вверх, показать, на что он способен. Ему, разумеется, хотелось произвести на нас впечатление, он делал кучу лишних движений, и случилось то, что должно было случиться: руки у него соскользнули, и он упал с вершины шеста, с высоты семи с половиной метров, если быть точным. Рухнул на землю и страшно закричал. Мы все пытались его утешать, но врачи скорой помощи объяснили, что он сломал обе ноги и до конца смены мы его больше не увидим. Гиллеля отправили из лагеря домой, а заодно и меня. Тетя Анита и дядя Сол приехали нас забирать и повезли в больницу округа, чтобы мы извинились перед бедным тренером.
Через год после той истории Гиллель встретил Вуди. Ему исполнилось девять, но он по-прежнему оставался очень маленьким и худеньким и по-прежнему был для одноклассников мальчиком для битья; его прозвали Креветкой. Дети так его донимали, что он за два года трижды сменил школу. Но в каждом новом классе его мучили так же, как в предыдущих. Он мечтал только об одном – жить нормальной жизнью, иметь приятелей по соседству и быть во всем похожим на них. Он страстно любил баскетбол. Просто обожал. Иногда на выходных он звонил одноклассникам: “Алло? Это Гиллель… Гиллель. Гиллель Гольдман”. Повторял свое имя, покуда не сдавался и не говорил: “Это Креветка…” Только тогда мальчишка на другом конце провода его узнавал, иногда в этом даже не было злого умысла. “Хотел спросить, ты не собираешься на спортплощадку после обеда?” Ему отвечали, что нет, не собираются. Но Гиллель знал, что они врут. Он вежливо вешал трубку, а через час говорил родителям: “Пойду поиграю с ребятами в баскетбол”. Седлал велосипед и исчезал до конца дня. Ехал на спортивную площадку, где, естественно, были его приятели, которых там не должно было быть. Он ни в чем их не упрекал, садился на скамейку и ждал, вдруг и ему позволят поиграть. Но никому не хотелось иметь в своей команде Креветку. Домой он возвращался грустный, но старался держаться, несмотря ни на что. Не хотел, чтобы родители из-за него волновались. Они садились ужинать; на нем была майка с Майклом Джорданом на спине, из которой, как прутики, торчали руки.
– Поиграл немножко? – спрашивал дядя Сол.
Он пожимал плечами:
– Так себе. Ребята говорят, игрок из меня неважный.
– А я уверен, что ты играешь как чемпион.
– Нет, я правда мало на что гожусь. Но если мне не дают шанса, как же я научусь?
Дяде с тетей стоило большого труда найти золотую середину в стремлении и защитить его, и дать соприкоснуться на опыте с непростым миром. В конце концов они остановили выбор на знаменитой частной школе Оук-Три, расположенной совсем близко от их дома.
Школа им сразу понравилась. Их принял директор, мистер Хеннингс; он показал им здания и рассказал, какое это выдающееся учебное заведение: “Школа Оук-Три – одна из лучших в стране. Уроки на высшем уровне, учителя со всех концов Америки, специально разработанные программы”.
В школе поощрялось творчество: в ней имелись художественные и гончарные мастерские, музыкальные классы; ее гордостью была еженедельная газета, которую от начала до конца делали ученики в самой настоящей редакции, оборудованной по последнему слову. Окончательно убедила дядю Сола и тетю Аниту исполненная директором Хеннингсом волшебная ария для отчаявшихся родителей: “Счастливые дети, мотивация, профориентация, ответственность, репутация, качество, тело и дух, все виды спорта, левада для чемпионов в верховой езде”.
Не знаю, как Гиллель умудрился всего за три дня восстановить против себя всех без исключения учеников Оук-Три, но он этот подвиг совершил. Выказав свою доблесть, дальше он снискал неприязнь большинства учителей: выискивал опечатки в сборниках упражнений, уличал преподавателя в неправильном произношении латинского слова и, наконец, задавал вопросы “не по возрасту”.
– Это ты узнаешь в третьем классе, – отвечал учитель.
– А почему не сейчас, раз я вас спрашиваю?
– Потому что так положено. В программе этого нет, а программа есть программа.
– Может, ваша программа не соответствует классу?
– А может, это ты не соответствуешь классу, Гиллель?
В школьных коридорах он сразу бросался в глаза. Одевался в клетчатую рубашку, застегнутую до самого горла, чтобы никто не увидел баскетбольной майки, которую он всегда поддевал вниз в надежде осуществить однажды свою мечту: расстегнуть пуговицы и под восхищенные крики учеников явиться перед ними непобедимым атлетом, раз за разом забрасывающим мяч в корзину. Рюкзак у него был набит книгами из городской библиотеки, и он никогда не расставался с баскетбольным мячом.
Ему понадобилось провести в Оук-Три не больше недели, чтобы превратить свою жизнь в ежедневный ад. Дело в том, что вскоре его возненавидел коротконогий толстяк по имени Винсент, гроза класса, которого ученики прозвали Хряк.
Трудно сказать, кто открыл военные действия. Ибо Хряк, как видно уже из прозвища, был для других детей мишенью постоянных насмешек. На прогулке во внутреннем дворе все кричали ему, зажимая нос: “Почему воняет тяжко? Потому что Хряк – какашка!” Хряк бросался на них с кулаками, но все разбегались, как стадо испуганных антилоп, и в результате самый слабый, Гиллель, попадался ему в лапы и расплачивался за всех. Обычно Хряк, боясь, как бы его не засек учитель, только выворачивал ему руку и говорил: “До скорого, Креветка. Приоденься, будет праздник!” После уроков Хряк устремлялся на баскетбольное поле возле школы, где Гиллель бросал мяч в корзину, и радостно его лупил, а одноклассники сбегались поглядеть на забавное зрелище. Под их одобрительные аплодисменты Хряк хватал его за ворот, таскал по земле и хлестал по щекам.
Поскольку никого, кроме Гиллеля, Хряк поймать не мог, он стал тиранить его постоянно. Цеплялся к нему прямо с первого урока и не отставал. Остальные ученики стали считать его парией. Не прошло и трех недель, как Гиллель стал молить мать не отправлять его больше в Оук-Три, но тетя Анита просила его постараться.
– Гиллель, дорогой, мы не можем все время переводить тебя из школы в школу. Если так будет продолжаться, если ты не способен адаптироваться к школьной среде, тебя придется отправить в коррекционную школу…
Говорила она очень ласково и почти обреченно. Гиллелю не хотелось ни огорчать мать, ни тем более оказаться в коррекционной школе; пришлось согласиться на ежедневные взбучки после уроков.
Я знаю, что тетя Анита водила его по магазинам и, вспоминая знакомых мальчиков его возраста, пыталась подобрать ему более стандартную одежду. Оставляя его утром в школе, она очень просила: “Не высовывайся, ладно? И заведи себе друзей”. Она давала ему вместе с завтраком булочки, чтобы он задабривал ими одноклассников. Он отвечал: “Знаешь, мама, друзей булочками не купишь”. Она смотрела на него обескураженно. На перемене Хряк вытряхивал его рюкзак на землю, подбирал булочки и насильно запихивал ему в рот. Вечером тетя Анита спрашивала: “Понравились твоим друзьям булочки?” – “Очень, ма”. На следующий день она клала их еще больше, не подозревая, что обрекает сына на рекорды в растяжке рта. Зрелище это скоро стало гвоздем программы: все школьники собирались вокруг Гиллеля во внутреннем дворе, чтобы посмотреть, как Хряк будет заталкивать ему в горло полудюжину булочек. И все вопили: “Жри! Жри! Жри! Жри!” В конце концов галдеж привлек внимание учителя, тот поставил Гиллелю плохую отметку и написал в дневнике:
Любит привлекать к себе внимание, но не любит делиться.
Тетя Анита рассказала о своих тревогах педиатру, который вел Гиллеля:
– Доктор, ему не нравится школа. Он плохо спит по ночам, плохо ест. Ему плохо, я чувствую.
Врач повернулся к Гиллелю:
– Мама правду говорит?
– Да, доктор.
– Почему тебе не нравится школа?
– Мне не школа не нравится, а ребята.
Тетя Анита вздохнула:
– Вечно одно и то же, доктор. Он говорит, что это ребята. Но мы уже несколько школ сменили…
– Ты понимаешь, Гиллель, что если ты не приложишь усилий и не вольешься в класс, то отправишься в специальную школу?
– Только не в спецшколу… Я не хочу.
– Почему?
– Я хочу ходить в нормальную школу.
– Тогда все в твоих руках, Гиллель.
– Знаю, доктор, знаю.
Хряк колотил его, грабил, унижал. Заставлял его пить из каких-то бутылок с желтоватой жидкостью, вливал в него целые лужи тухлой воды, мазал ему лицо грязью. Поднимал его в воздух, как прутик, тряс, словно погремушку, кричал: “Ты креветка, собачье дерьмо, дебильная рожа!”, а когда запасы брани истощались, бил кулаком под дых. Гиллель был страшно тощий, и Хряк подбрасывал его, как бумажный самолетик, лупил ранцем, сдавливал голову, выворачивал во все стороны руки, а под конец говорил: “Лижи мне ботинки, тогда больше не буду”. И Гиллель подчинялся, только чтобы тот отстал. Вставал на четвереньки на глазах у всех и лизал шнурки Хряку, а тот попутно бил его ногой в лицо. Половина учеников хохотала, а вторая половина, поддавшись стадному инстинкту, бросалась на него и тоже лупила. Они прыгали на нем, давили ему руки, таскали за волосы. У всех была лишь одна цель – собственное спасение. Пока Хряк будет возиться с Гиллелем, их он не тронет.
Представление заканчивалось, и все расходились. “Наябедничаешь – пришьем!” – тявкал Хряк, награждая его последним плевком в лицо. “Ага, пришьем!” – вторил хор прихлебателей. Гиллель лежал на земле, распластанный, словно перевернутый на спину жук, а потом, когда все стихало, вставал, брал свой мяч и получал наконец в свое распоряжение пустую баскетбольную площадку. Забрасывал мяч в корзины, разыгрывал воображаемые матчи и к ужину возвращался домой. Увидев его расхристанную фигуру и рваную одежду, тетя Анита в ужасе восклицала: “Боже, Гиллель, что случилось?” А он лучезарно улыбался, скрывая боль, чтобы не причинять ее матери, и отвечал: “Ничего, ма, просто чумовой был матч”.
Милях в двадцати оттуда, в восточных кварталах Балтимора, в интернате для трудных подростков жил Вуди. Директор интерната, Арти Кроуфорд, был старым другом дяди Сола и тети Аниты, и они оба активно помогали приюту как волонтеры: тетя Анита устраивала бесплатные медицинские консультации, а дядя Сол развернул там юридическую приемную, помогая воспитанникам и их семьям в разного рода административных делах и процедурах.
Вуди был нашим ровесником, но полной противоположностью Гиллелю: он значительно опережал нас в физическом развитии и выглядел гораздо старше. В восточных кварталах Балтимора, вдалеке от тихого Оук-Парка, буйно цвела преступность, торговля наркотиками и насилие. Интернату с трудом удавалось приучать детей к школе: дурная среда засасывала их, а соблазн заменить отсутствующую семью бандой был слишком велик. К числу таких детей принадлежал и Вуди: драчливый, но неплохой мальчик, легко поддающийся чужому влиянию, он полностью зависел от парня постарше, Девона, покрытого татуировками, порой промышлявшего наркодилерством и не расстававшегося с пистолетом, который он таскал в кармане и любил вытаскивать где-нибудь в темном проулке.
Дядя Сол знал Вуди: ему не раз приходилось за него вступаться. Мальчишка был чудный, вежливый, но все время дрался; поэтому его регулярно задерживал патруль. Дяде Солу он очень нравился, потому что дрался всегда за какое-то доброе дело: то кто-нибудь оскорбил старушку, то друг попал в передрягу, то пристают к малышу и требуют у него денег, – и вот он уже кулаками вершит суд. Дядя Сол защищал Вуди, и ему всегда удавалось убедить полицию отпустить его, не доводя дело до суда. Вплоть до того дня, когда Арти Кроуфорд, директор интерната, позвонил ему поздно вечером и сообщил, что у Вуди опять неприятности: на сей раз все очень серьезно – он ударил полицейского.
Дядя Сол немедленно поехал в отделение на Истерн-авеню, куда доставили задержанного Вуди. По пути, чтобы подготовить почву, он даже решился побеспокоить заместителя шерифа, своего доброго знакомого: вдруг понадобится поддержка в верхах, чтобы дело не попало к какому-нибудь чересчур ретивому судье. Прибыв на место, он, однако, обнаружил Вуди не в камере и не в наручниках на скамейке, а в комнате для допросов – тот, устроившись поудобнее, читал комикс и пил горячий шоколад.
– Вуди, с тобой все в порядке? – спросил дядя Сол, входя.
– Добрый вечер, мистер Гольдман, – ответил мальчик. – Простите, что заставил вас волноваться. Все прекрасно, полицейские страшно милые.
Ему еще не исполнилось десяти, но сложен он был как подросток лет тринадцати – четырнадцати. Рельефная мускулатура, мужественные синяки на лице. К тому же растопил сердца местных полицейских, и те угощают его горячим шоколадом.
– И как ты им отплатил? – сердито отозвался дядя Сол. – Кулаком по морде? Да что на тебя нашло, Вуди? Ударить полицейского! Ты знаешь, чем это грозит?
– Я не знал, что он полицейский, мистер Гольдман. Честное слово. Он был в штатском.
По словам Вуди, он ввязался в драку трех парней вдвое старше себя, и покуда пытался их разнять, подоспел полицейский в штатском, которому в свалке достался удар, сбивший его с ног.
В эту минуту в комнату вошел один из инспекторов, глаз у него был изрядно подбит.
Вуди вскочил и тепло обнял его:
– Простите еще раз, инспектор Джонс, я вас принял за какого-то урода.
– Да ладно, бывает. Проехали. Слушай, если понадобится помощь, звони, не стесняйся.
Инспектор протянул ему визитку.
– Так что, инспектор, я могу идти?
– Иди. Но в следующий раз, когда увидишь драку, вызывай полицию, а не пытайся сам наводить порядок.
– Ладно.
– Хочешь еще горячего шоколада? – спросил инспектор.
– Нет, он не хочет еще горячего шоколада! – рявкнул дядя Сол. – Инспектор, уважайте себя, в конце концов, он вас все-таки ударил!
Выйдя с Вуди за дверь, он прочитал ему нотацию:
– Вуди, ты понимаешь, что рано или поздно влипнешь по-настоящему? Думаешь, тебе всегда будут попадаться добрые копы и добрые адвокаты, которые вытаскивают тебя из дерьма? Ты же в итоге в тюрьму сядешь, ясно?
– Да, мистер Гольдман. Я знаю.
– Тогда почему ты себя так ведешь?
– По-моему, это у меня талант такой. Талант драться.
– Ну так найди себе другой талант, пожалуйста. И вообще, мальчику в твоем возрасте нечего делать на улице по ночам. Ночью надо спать.
– Я не мог заснуть. Мне не очень нравится в этом интернате. Ну и захотелось прогуляться.
В дежурной части их дожидался Арти Кроуфорд.
Вуди еще раз поблагодарил дядю Сола:
– Вы мой спаситель, мистер Гольдман.
– На сей раз моя помощь не понадобилась.
– Но вы всегда за меня заступаетесь.
Вуди вынул из кармана семь долларов и протянул ему.
– Это еще что такое? – удивился дядя Сол.
– Это все деньги, какие у меня есть. Это вам плата. В благодарность за то, что вытаскиваете меня из дерьма.
– Не надо говорить “дерьмо”. И тебе незачем мне платить.
– Вы первый сказали “дерьмо”.
– И я зря сказал. Очень сожалею.
– Мистер Кроуфорд говорит, что всегда надо так или иначе платить людям за услуги.
– Вуди, ты хочешь мне заплатить?
– Да, мистер Гольдман. Очень хочу.
– Тогда веди себя так, чтобы больше тебя не задерживали. Это будет для меня самая высокая плата, самый лучший мой гонорар. Встретить тебя через десять лет и знать, что ты поступил в хороший университет. Встретить красивого, успешного юношу, а не преступника, который полжизни провел в тюрьмах для несовершеннолетних.
– Постараюсь, мистер Гольдман. Вы будете мной гордиться.
– И ради всего святого, хватит называть меня “мистер Гольдман”. Зови меня Солом.
– Да, мистер Гольдман.
– Ладно, беги давай и становись хорошим человеком.
Но у Вуди было свое понимание чести. Ему непременно хотелось отблагодарить дядю за помощь, и назавтра он явился в его бюро.
– Ты почему не в школе? – рассердился дядя Сол, когда тот вырос на пороге его кабинета.
– Я хотел с вами повидаться. Я обязательно должен что-то для вас сделать, мистер Гольдман. Вы были так добры ко мне.
– Считай, что это жизнь тебе помогла.
– Я могу стричь вам газон, если хотите.
– Мне не надо стричь газон.
Но Вуди настаивал. Идея стричь газон казалась ему потрясающей.
– Не, ну я вам его безукоризненно постригу. У вас будет необыкновенный газон.
– С моим газоном все в полном порядке. Почему ты не в школе?
– Из-за вашего газона, мистер Гольдман. Я был бы просто офигенно рад постричь ваш газон в благодарность за вашу доброту.
– Не стоит труда.
– Ну мне очень хочется, мистер Гольдман.
– Вудро, подними, пожалуйста, правую руку и повторяй за мной.
– Да, мистер Гольдман.
Он поднял правую руку, и дядя Сол торжественно произнес:
– Я, Вудро Маршалл Финн, клянусь, что больше не окажусь в дерьме.
– Я, Вудро Маршалл Финн, клянусь, что больше не окажусь… Вы сказали, что не надо говорить “дерьмо”, мистер Гольдман.
– Отлично. Тогда так: клянусь, что больше не буду иметь неприятности.
– Клянусь, что больше не буду иметь неприятности.
– Ну вот, ты заплатил. Мы квиты. А теперь возвращайся в школу, да поскорее.
Вуди что-то пробурчал себе под нос, но послушался. Ему не хотелось возвращаться в школу, ему хотелось постричь газон у дяди Сола. Он понуро поплелся к двери и тут заметил на столе фотографии.
– Это ваша семья? – спросил он.
– Да. Это моя жена Анита и мой сын Гиллель.
Вуди взял в руки одно фото и стал рассматривать лица.
– Классные какие. Вы везучий.
В эту минуту дверь распахнулась и в кабинет влетела тетя Анита; в смятении она даже не заметила Вуди.
– Сол! – воскликнула она со слезами на глазах. – Его опять отлупили в школе! Он говорит, что больше не хочет туда идти. Я не знаю, что делать.
– Что случилось?
– Он говорит, что ребята над ним издеваются. Говорит, что вообще больше никуда не пойдет.
– Мы же в мае его перевели в другую школу, – вздохнул дядя Сол. – А потом все лето потратили, чтобы отдать в эту. Нельзя же опять его забирать. Ад какой-то.
– Знаю… Ох, Сол! Я в отчаянии…
После того ужина с Кевином в Бока-Ратоне, в начале марта 2012 года, я немного сблизился с Александрой.
В следующие дни, когда я привозил сбежавшего Дюка, она снова стала пускать меня в дом и даже предлагала попить. Давала обычно бутылку воды или банку газировки, и я глотал ее залпом, стоя на кухне, но и это было немало.
– Спасибо за тот вечер, – однажды сказала она, когда мы с ней были одни. – Уж не знаю, что ты сделал Кевину, но ты ему очень понравился.
– Просто был самим собой.
Она улыбнулась:
– Спасибо, что ничего не сказал ему про нас. Я очень дорожу Кевином и не хочу, чтобы он вообразил, будто между нами еще что-то осталось.
У меня болезненно сжалось сердце.
– Кевин сказал, что ты не захотела выйти за него замуж.
– Тебя это не касается, Маркус.
– Кевин очень славный, но ты ему не пара.
Я тут же пожалел, что сморозил такую глупость. Куда я лезу? Но она только пожала плечами:
– А у тебя есть Лидия.
– Откуда ты знаешь про Лидию? – спросил я.
– Читала во всяких глупых журналах.
– О чем тут говорить, это история четырехлетней давности. Мы давным-давно не вместе… Просто интрижка.
Я решил сменить тему и показал Александре фото, оно у меня было с собой.
– Помнишь?
Она погладила снимок кончиками пальцев и грустно улыбнулась:
– Кто бы тогда мог подумать, что ты станешь знаменитым писателем?
– А ты – звездой эстрады?
– Без тебя я бы ею не стала…
– Не надо.
Мы помолчали. И вдруг она назвала меня так, как называла прежде, – Марки.
– Марки, – прошептала она, – мне тебя уже восемь лет не хватает.
– Мне тебя тоже. Я следил за всеми твоими выступлениями.
– А я читала твои романы.
– Понравилось?
– Да. Очень. Я часто перечитываю некоторые места в твоем первом романе. Вспоминаю твоих кузенов. Банду Гольдманов.
Я улыбнулся, по-прежнему держа в руках снимок и не сводя с него глаз.
– Ты прямо оторваться не можешь от этого фото, – сказала она.
– Не знаю, то ли я от него, то ли оно от меня.
Я убрал фотографию в карман и уехал.
В тот день, выезжая из ворот Кевина, я не заметил, что на улице стоял черный микроавтобус; мужчина за рулем следил за мной.
Я свернул на шоссе, и он поехал за мной.
Балтимор, Мэриленд, ноябрь 1989 года
С тех пор как Вуди сказал, что хочет стричь газон у Гольдманов, его просьба не выходила у дяди Сола из головы. Особенно после того, как Арти пришел к ним на ужин и рассказал, как чертовски трудно держать мальчика в узде.
– Хоть в школе ему нравится. Любит учиться, и голова на месте. Но вот после уроков творит невесть что, невозможно же за ним все время приглядывать.
– А что с его родителями? – спросил дядя Сол.
– Мать давным-давно исчезла из поля зрения.
– Наркоманка?
– Да нет, просто слиняла. Молодая была. Отец тоже. Решил, что и один может воспитать мальчишку, но когда завел себе серьезную подружку, дома началось черт-те что. Малыш бесился, готов был драться со всем миром. Вмешались социальные службы, судья по делам несовершеннолетних. Поместили его в интернат, якобы на время, но потом подружку отца перевели по работе в Солт-Лейк-Сити, и папаша пустился за ней через всю страну; женился, наделал детей. Вудро остался в Балтиморе, про Солт-Лейк-Сити он и слышать не хочет. Они время от времени созваниваются, отец ему иногда пишет. Больше всего меня тревожит, что Вудро все время с этим типом, Девоном: тот преступник чистой воды, курит крэк и балуется с пушкой.
Дядя Сол подумал, что если Вуди после школы будет стричь газоны, у него не останется времени болтаться по улицам. Он переговорил с Деннисом Бунсом, старым садовником, почти в одиночку ухаживавшим за всеми садами в Оук-Парке.
– Я никого не нанимаю, мистер Гольдман. Тем более малолетних преступников.
– Он парень стоящий.
– Он преступник.
– Вам нужна помощь, вам же чем дальше, тем труднее справляться с такой кучей дел.
Дядя Сол был прав: Бунс выбивался из сил, но жмотился платить помощнику.
– А платить ему кто будет? – обреченно спросил он.
– Я, – ответил дядя Сол. – Пять долларов в час ему и два вам за обучение.
Бунс после недолгих колебаний согласился, но уточнил, грозно наставив палец на дядю Сола:
– Предупреждаю, если этот мелкий стервец поломает мне инструменты или меня обворует, платить будете вы.
Но Вуди ни о чем таком и не думал. Он был счастлив, что дядя Сол предложил ему работать у Бунса.
– А вашим садом я тоже буду заниматься, мистер Гольдман?
– Наверно, иногда. Но главное, будешь помогать мистеру Бунсу. И слушаться его.
– Я буду хорошо работать, обещаю.
После уроков и на выходных Вуди запрыгивал в городской автобус и мчался в Оук-Парк. Бунс поджидал его в своем грузовичке неподалеку от остановки, и они объезжали сады.
Оказалось, что Вуди – помощник добросовестный и усердный. Через несколько недель на улицы Мэриленда пришла осень. Листва на столетних деревьях Оук-Парка покраснела и пожелтела, а потом дождем хлынула на аллеи. Надо было чистить газоны, готовить растения к зиме и накрывать бассейны брезентом.
А в это время в школе Оук-Три Хряк по-прежнему мучил Гиллеля. Кидался в него шишками и камнями, связывал и заставлял есть землю и сэндвичи с помойки. “Лопай! Лопай! Лопай!” – весело распевали мальчишки, когда Хряк зажимал ему нос, чтобы он открыл рот и проглотил. Если Гиллелю хватало сил, он обливал Хряка презрением и горячо благодарил: “Спасибо за вкусный обед, я как раз в полдень не наелся”. Тогда удары сыпались на него с новой силой. Хряк выворачивал его портфель на землю, швырял книги и тетради в мусорную корзину. Гиллель на досуге начал писать стихи, и тетрадка с ними в итоге, разумеется, тоже попала в лапы Хряку; тот заставил его съесть несколько страниц, предварительно зачитав всем плоды его творчества, а остальное сжег. Гиллель сумел спасти от аутодафе одно стихотворение, которое написал своей тайной любви, хрупкой блондинке по имени Хелена, не пропускавшей ни одного представления Хряка. Он усмотрел в этом знак свыше, собрал всю волю в кулак и поднес стихи Хелене. Та пересняла их и развесила по всей школе. Они попались на глаза миссис Чериот, куратору школьной газеты; та похвалила малышку Хелену за поэтический дар, поставила высокую отметку и напечатала стихи в газете за подписью Хелены.
Перечень походов Гиллеля к врачу становился все длиннее – особенно из-за постоянных воспалений во рту, – и встревоженная тетя Анита в конце концов пошла к директору Хеннингсу:
– По-моему, моего сына в школе обижают.
– Нет-нет, в Оук-Три никого не обижают, у нас есть надзиратели, правила, хартия сосуществования. Мы – школа счастья.
– Гиллель каждый день приходит в рваной одежде. Его тетради либо испорчены, либо их вообще нет.
– Ему надо быть аккуратнее. Вы же знаете, если он небрежно относится к тетрадям, у него будет плохая отметка в табеле.
– Мистер Хеннингс, он очень аккуратный. По-моему, кто-то сделал из него мальчика для битья. Не знаю, что происходит в вашей школе, но мы платим двадцать тысяч долларов в год, а у сына, когда он приходит домой, полон рот бактерий. Наверно, это все же что-то значит?
– Он хорошо моет руки?
– Да, он очень хорошо моет руки.
– Видите ли, многие мальчики в его возрасте такие поросята…
В конце концов тете Аните надоело ходить вокруг да около, и она сказала:
– Мистер Хеннингс, у сына постоянно синяки на лице. Что мне делать? Заставить его найти общий язык с одноклассниками или отдать в специальное учреждение? Честно говоря, иногда по утрам, отпуская его в школу, я просто не знаю, что еще с ним случится…
Она разрыдалась, а поскольку директор Хеннингс больше всего боялся каких-то осложнений в Оук-Три, он стал ее утешать, обещал исправить положение и вызвал Гиллеля, чтобы разобраться.






