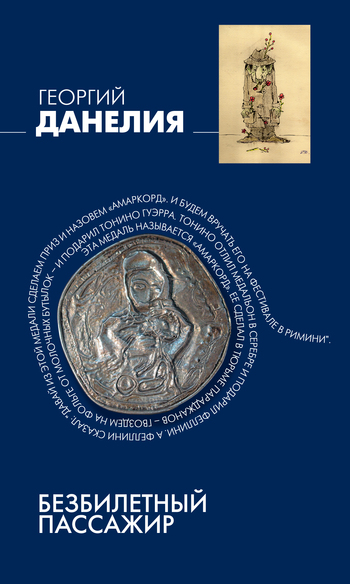Татьянин дом Нестерова Наталья

Люся не переставала твердить слова благодарности, пока провожала их до двери, а затем выскочила на площадку и еще кричала «Спасибо!» в лестничную шахту.
На улице Борис и Татьяна одновременно глубоко вздохнули, посмотрели друг на друга, улыбнулись.
– Таня, как в сем городе с милицией? – спросил Борис.
– Не знаю, – удивленно ответила Таня. – Здание милиции я видела, а ни одного стража порядка не встречала. Зачем тебе?
– Отчаянно хочется хлопнуть стаканчик. Пока доедем до деревни, там провозимся – все выветрится. Тебе с риском для собственной жизни, – лукаво усмехнулся Борис, – предлагаю сделать то же самое.
– Нет, ну я не до такой степени. – Татьяна включилась в игру. – Буйствую, конечно, но телесных повреждений еще никому не наносила.
– Тогда по сто грамм коньяку, – решил Борис, – и смирительная рубашка для тебя.
Единственное кафе, которое знала Татьяна в Ступине, оказалось закрытым. Они купили в магазине бутылку коньяку, пластиковые стаканчики и плитку шоколада. Распивали в машине. Борис опрокинул почти полный стакан, Татьяне, остановленный ее рукой, он налил на донышко. Закусили шоколадом. Борис почувствовал, как напряжение последних часов начинает отступать, жизнь возвращается в нормальное русло.
– Ну, рассказывай, – велел он Татьяне, тронул машину с места и двинул к выезду из Ступина.
– О чем?
– О своем самом позорном пьяном дебоше.
– Ты был его участником.
– Тогда о предпоследнем с конца или самом памятном для населения.
От глотка коньяку Татьяна перестала внутренне дрожать и даже почувствовала легкую игривость. Она не стала ломаться.
– Эта леденящая душу история произошла в период горбачевской антиалкогольной кампании. Точнее, в самом ее конце, когда бороться было не с чем – из магазинов почти исчезло спиртное. Как ты помнишь, народ тогда дружно бросился на производство клюковки – настойки на спирте «Роял».
Дома у подруги Ольги в тесном кругу (мама, папа, другая подруга, Лена, и она, Татьяна) было организовано застолье по случаю помолвки Ольги с кандидатом в мужья номер два. Таня пришла с заветной бутылочкой – клюквенным компотом, который по цвету не отличался от настойки, но алкоголя не содержал. Татьяна хотела убить двух зайцев – и белой (то есть непьющей) вороной не выглядеть, и не захмелеть. Компотик перелили в графинчик, точно такой, как с настоящей клюковкой. И конечно, их перепутали: перед женихом и Ольгиным отцом оказался детский напиток, а перед Татьяной – тридцатиградусный. Она еще мысленно сокрушалась – горьковато, мало сахара положила.
По мере того как лица жениха и тестя становились все постнее, Татьяну охватывало радостное возбуждение. Ей открывались тайны мира, главная из которых заключалась в том, что надо жить честно и открыто. Говорить правду, и только правду, постоянно и всегда. Оживленно жестикулируя, она несла эту истину в народ. Народ энтузиазма не проявлял. Пришлось убеждать на примерах.
– Вот вы признайтесь, что воруете в магазине самообслуживания, – требовала она от жениха, – и вам станет легче.
– Ничего подобного! – возмутился он.
– А у кого глазки все время бегают? – Она погрозила пальчиком. – Книжки и приборы столовые у друзей таскаем?
Жених обиженно надулся. Татьяна переключилась на Ольгиных родителей. Им, она знала точно, есть что скрывать. Несчастные! Так и умрут не покаявшись. Она чувствовала за спиной крылья ангела, призванного отпускать грехи.
Ольгиного отца она убеждала: пришло время сказать, что номенклатурный паек вы в течение многих лет делили между семьей и своей секретаршей-любовницей. Ольгиной маме заявила: не надо расстраиваться, вспомните, как вы подсыпали мужу в кисель бром, чтобы унять его сексуальную энергию.
Татьяна хотела еще сказать об Ольге (в лифчик вату подкладывала), о Лене (зайцем в транспорте ездила) и о себе не забыть – поведать о тайной денежной заначке. Но подруги подхватили ее под локти и уволокли в ванную.
Несколько раз наведывались – слышали шум воды за дверью и, наивные, думали, что Таня там вытрезвитель устроила. А она рвалась послужить обществу. И нашла себя на поприще грязного белья. Все перестирала и прополоскала.
Когда она с тазиком явилась в комнату, хозяевам трудно было сохранить спокойствие. Мол, у нас так принято: приходит дама в дорогущем платье, в золоте и бриллиантах, стирает их рваные портки, а потом, растрепанная, со смазанным макияжем, пристает с вопросами: куда вешать будем?
Жажда деятельности еще долго не отпускала Татьяну. У нее забирали пылесос – я вам быстренько здесь почищу, и снимали ее со стола – хрустальную люстру раствором с добавлением аммиака протирать нужно.
От смеха Борис согнулся пополам и упал головой на руль.
– Эй, следи за дорогой! – напомнила ему Татьяна.
– Следю, – продолжая смеяться, выпрямился Борис.
Он подумал о том, что только очень самодостаточная женщина может рассказывать подобные истории о себе. Ее уверенность проистекает либо из несокрушимого обожания покровителя, либо из полнейшего равнодушия к себе. С этакими ямочками ниже спины – и равнодушие! Значит, первое, могущественный покровитель-любовник. А чему удивляться? Все правильно и естественно. Такие женщины не каждый день встречаются. И прятать их от чужих глаз – тактика грамотная.
Татьяна с удивлением наблюдала перемену в настроении Бориса: хохотал, а потом вдруг насупился, скулы напряглись, усмехается. Это все ее пошлые россказни. Нет, даже грамма, даже из пипетки спиртного ей нельзя пить. Одичала в деревне, разговор нормальный поддержать не может. Разоткровенничалась – фу, неловко как.
Подстелив Нюрочкино одеяло в пододеяльнике – задницу не отморозить, – Стеша и Клава уселись наблюдать завершение пожара.
Клава периодически бубнила: «в-в-в, ж-ж-ж, а-а-а…» Подруга ее понимала без слов, потому что думали они об одном и том же.
– Вот так живешь, небо коптишь, – говорила Стеша, – а потом красный петух клюнет – и нету ничего. Какого лешего ломались? Хоть с сумой по людям иди. А с другой стороны посмотреть, так они еще малым отделались. Дом цел, Федька – мужик рукастый, отстроятся. Кому нынче легко живется? Мне, что ли? Или тебе, бедолаге?
Когда Клавдию прошлым летом кондратий стукнул, то есть инсульт случился, думали, не очухается – лежала бревно-бревном, под себя ходила. Нюрка, тут про нее слова плохого не скажешь, помогала, вместе ухаживали. Белье постирать, пеленки переменить, покормить, картошку на огороде окучить, грядки прополоть – все делала. Дети у Клавдии, что сын, что дочь, – сволочи. Приехали, увидели, что за матерью присмотр есть, и носа до самой осени не показывали, пока не пришла пора картошку копать. А там уж Клавдия стала потихоньку подниматься. Рука у нее так и не отошла, сухая висит, а нога волочится помаленьку. Сама теперь нужду справить может и обслужить себя кое-как. Хоть и не говорит, а соображение не потеряно. А дети – у кого они хорошие? Лишь бы с матери тянуть. Ее, Стешины, сыны с невестками да внуками тоже приедут, глаза зальют – наша фазенда, наша фазенда, а чтоб крышу на фазенде перекрыть – иди к Федоровичу кланяйся. Он бы не отказал, да Нюрка не пускает – он вам не батрак нанятый. Еще та кулачиха. У нее-то долго детей не было, одни выкидыши – говорит, на тяжелом производстве работала. А у них в деревне что? Легкое производство? Она Люську родила, в каком году это было? Их с Клавдией сыновья уже в армию пошли. Люську, понятно, набаловали, все банты вязали на макушке, белые гольфы да туфли-лодочки одевали. Вот и получили.
Тут Стеша сбилась – что, собственно, получили? Но по справедливости рассуждать, так чтоб всем горя и достатка по-честному, то Нюрка всяко в прибыли. На пенсии здесь поселились, дом подправили, а в Ступине квартиру дочке отписали, корову завели – а чего ее не заводить, если есть кому сено косить. Мужик, да еще в меру пьющий, в деревне полезнее трактора, роскошь по нынешней жизни. Они с Клавдией уже двадцать лет как о такой роскоши забыли. Преставились супружники – черти, прости господи, а мы корячься, перебивайся с хлеба на квас. Будь у Стеши муж да здоровье, она бы три коровы держала, молоко в военный городок отвозила, нет, сепаратор купила – сливки бы продавала, крышу перекрыла железом, а на коньке флюгерок птичкой, дом вагоночкой обила да маслом-отработкой покрасила – не отличишь от финской краски, шаль козлиного пуха справила, поросят тоже можно завести, десяток курочек и уточек – речка под боком, еще, говорят, индеек выгодно содержать, а мотоцикл с коляской купить – вози на базар огурцы, да грибы, да зелень с огорода.
– Д-д-д, – прервала Стешины мечты Клавдия, указывая клюкой на зияющую дверь дома.
– Ну что д-д-д? Кто у них сопрет там что?
– Не-не-не, – трясла кривым лицом и стояла на своем Клавдия.
Заставила Стешу подтащить чурбак к дому, забраться в хату. Ценного, конечно, у Нюрки немало было: два ковра, ваза хрустальная, часы настенные с боем, телевизор. Но все это Стеше не по силам переть. Взяла только документы, два золотых колечка и сережки – знала, что в банке с просом хранятся, деньги в жестяной коробке от китайского чая, вместе пересчитали, чтобы потом претензий не было, – две тысячи одиннадцать рублей.
– К-к-к. – Клавдия показывала на корову.
– Нет, подруга, – решительно воспротивилась Стеша. – Хоть ты меня режь, хоть осуждай, но Зорьку я не возьму. Нюрка мою Маньку сглазила, но я не потому, я зла на нее больше не держу: Бог ее за Маньку наказал. Куда мне корова? Сено козлиное сожрет мигом, где я его потом добуду? А телиться начнет – мне их ответственность не нужна. У меня рука тяжелая, сама знаешь. Мои коровы телились, я тебя завсегда звала. Нет, Клавдя, как перед иконой – не в силах, не возьму. У меня ревматизм в руках, иголку взять не могу и пуговицы застегиваю – плачу. Мне и коза лишняя, а тут корова с теленочком.
Клавдия согласно кивнула, задумалась. Потом развернулась и показала в сторону дома Татьяны.
– Ой! – обрадовалась Стеша. – Хоть и треснутый у тебя котелок, а варит. Правильно, давай Татьяне корову отгоним. Она с Знахаревыми в дружбах водится, пусть и присмотрит, пока Люська не объявится.
Они поплелись по дороге: припадающая на клюку Клавдия двигалась быстрее, чем Стеша, погоняющая тяжелую корову. Зорька уходить от родного двора сначала никак не хотела. Стеша ее палкой и матюками едва выгнала за калитку.
У Татьяны во дворе были призывно распахнуты ворота подземного гаража. Тепло, светло – сойдет для коровника. Не удержались – заглянули в соседнее помещение. Столько запасов в лучшие времена не бывало в их сельмаге. К свадьбе, что ли, готовятся? Зорька по наклонной идти боялась, мычала. Гнали ее на пару – Клавдия колотила своей клюкой, а Стеша дрыном била по коровьему хребту. Зорька пошла, но поскользнулась, упала, пузом поехала вниз. Старухи замерли – нет, обошлось, ноги не сломала, поднялась. Воды теперь ей надо принести.
В поисках ведра, а большей частью любопытствуя, зашли в дом. И обомлели – такое только в кино видели, а чтоб у них в Смятинове!.. Вот живут! Во богатеи! Во ворюги! На трудовые разве такое выстроишь! Татьяна их в дом никогда не приглашала, чаем на улице в беседке поила. Вежливая всегда: таблетку от изжоги даст, керосину одолжит. А кто не будет вежливым при таком богатстве?
– Клав, гляди, бассейн! Охренели, честное слово.
– В-в-в. – Клавдия показывала на мокрые следы от их валенок на полу.
– Да я подотру потом, не волнуйся. Нет, ты видишь? Тут же миллионные деньги. Не иначе как мафия. Приезжают к ней часто? Часто. Гуляют? Гуляют. Клав, может, участковому заявить? Рассадник здесь бандитский, и все такое.
Клавдия в ответ покрутила пальцем у виска.
– И точно, все у них уже купленные, – согласилась Стеша. – Помяни мое слово. Они тут перестрелку еще устроят, разборку, – вспомнила Стеша новое слово. – На второй этаж пойдем? Нет? Правильно, давай от греха подальше.
Клавдия вдруг затряслась уродливым смехом, приложила руки к голове, рожки показала.
– А мы им корову? – догадалась Стеша и тоже хохотнула. – Получите, с теленочком на подходе. С навозиком пахучим! Ой, умора, полжизни бы отдала, чтобы увидеть, как бандюки Зорьку доить будут.
Они вытерли следы, набрали воды в ведро – течет прямо из крана, как в городе. Отнесли корове. Зорька уже отметилась – лужей и кучей навоза. Вела она себя беспокойно – головой мотала.
– К новому месту привыкает, – сказала Стеша. Клавдия отрицательно покачала головой, показала палкой на Зорькин живот.
– Ничего она не телится! – прикрикнула Стеша. – Пойдем, не придумывай, дура старая, – и вытолкала подругу из гаража.
Клавдия медленно шла по дороге и плакала. Скольких телят она приняла за свою жизнь? Больше, чем зим прожила, потому что рука, ныне плетью висящая, была легкой что на тесто для хлебов, что на роды для скотины. Клавдия очень любила маленьких – детей и живность всякую, любила их молочный запах, беспомощность и хрупкость, любила их нянчить и выхаживать. А вырастали – и все труды ее как в песок. Скотину резали, а дети уезжали и будто чужими становились. Она редко думала о детях в последнее время, забыла и как надеяться, и как обижаться на них. Вот теленочка, который у Зорьки шел, жалко ей было до щипоты в груди.
– Чего ревешь, кочерыжка перекошенная? – злилась Стеша. – Подбери сопли, карга парализованная. Еще один инсульт тебя сейчас трахнет – думаешь, я тебя до дому дотащу? Ты думаешь, у меня силов сколько? Ты думаешь, ты одна больная? Ты одна добрая? Ишь! Она – сердобольная, а я – дрянь последняя. И не строй мне рожи! Я знаю – ты так обо мне подумала. Нет, подумала! После всего, что я сделала для тебя! Сволочь неблагодарная, змея подколодная. Будешь подыхать – не подойду, воды не подам, помирай на сухую.
Они шли долго, останавливались, отдыхали. Стеша все бранилась. Но Клавдия на нее не обижалась. Стешка всегда такой была – язык распустит, со всем миром перессорится, а потом как ни в чем не бывало с горячими пирогами к обиженным в гости является. По молодости, как Стешу в ругань понесет, Клавдия разворачивалась и уходила – лай, пока не надоест. А сейчас куда уйдешь? Да и не со зла она, характер такой.
У дома Знахаревых, который теперь торчал в окружении черных головешек как сморчок на пне, тоже задержались, горестно вздохнули. Но сил не было даже одеяло в дом забросить, так и оставили. Хоть бы до своих хат добраться.
Клавдина была ближней. Не прощаясь, она свернула во двор. Стеша посмотрела на ее скособоченную спину и плюнула с досадой, поплелась дальше. Теперь она бормотала ругательства, адресованные собственному дряхлому телу. И одновременно молила свое колотящееся сердце, ноющие суставы, хрипящую дыхалку – потерпеть, вон он, дом, двадцать метров осталось. А там она упадет на кровать, забудется коротким старушечьим сном – и полегчает ей.
Они подъехали к Татьяниному дому около трех часов пополудни. Короткий зимний день еще не угас, но солнце уже скрылось за лесом, и на снег легли синеватые тени, подмораживало.
– Не хотите позвонить домой? – предложила Татьяна, когда шли к крыльцу. – Предупредить, чтобы не волновались.
Она сделала попытку снова перейти на «вы», но Борис не откликнулся.
– Жена и дочь вряд ли бьют тревогу, – сказал он. – Полагают, что я у сестры в Перематкине. У меня к тебе просьба. Могу я… – Он запнулся, послышались странные звуки, похожие на мычание коровы. – Могу я у тебя оставить продукты, которые сестре вез?
– Конечно, и если им еще что-либо нужно, я могу дать. Меня дети завалили провизией. Даже их буйные компании не в состоянии уничтожить все съестное.
Они вошли в полутемный дом, Татьяна щелкнула выключателем – света не было. Она подошла к плите, зажгла газ, поставила чайник. Стала искать свечи.
– У меня какие-то слуховые галлюцинации, – Татьяна потерла виски, – все время слышу трубный звук.
– Помешательство коллективное, – кивнул Борис, прислушиваясь, – мне тоже чудится.
Они замерли и отчетливо услышали откуда-то из-под земли протяжный стон. Посмотрели друг на друга.
– Ты здесь прежде никого не хоронила? – спросил Борис.
– Перестань, я боюсь, – прошептала Татьяна.
– Неси ружье, – так же шепотом проговорил он.
– Оно не заряжено, – еще тише сказала Татьяна.
– Последний акт! – гаркнул Борис, и Татьяна завизжала от страха, присела и закрыла голову руками. – Незаряженное ружье выстрелит! – патетически продекламировал Борис. – Ну? И чего ты испугалась? Вставай с колен, девушка. – Он помог ей подняться. – Живет здесь одна, на выселках, в снегах и пожарищах, и боится простых вурдалаков. Я думал, ты давно с ними подружилась. – Он держал ее за плечи.
– Здесь нет вурдалаков. – Татьяна по-прежнему шептала. – Вообще никого нет, все очень спокойно.
В этот момент снова раздался гулкий стон.
– Да, я слышу. – Борис разжал руки. – Местечко исключительно тихое. Особенно последние сутки.
Непонятные, тревожные звуки отбили и у него охоту шутить и позерствовать. Он не хотел показывать своего беспокойства, но чувствовал себя персонажем в страшной детской сказке про черную-черную ногу.
– Дополнительное энергоснабжение у тебя есть? – спросил он Татьяну.
– Да, в гараже генератор газовый. Надо включить.
– Так пойдем в гараж?
– С ружьем?
– Нет, с осиновым колом.
Борис оглянулся: чем бы вооружиться? Остановился на кухонном топорике. Взвесил его в руке – игрушка, но с ней увереннее себя чувствуешь.
Татьяна почти прилипла к его спине, Борис слышал запах ее духов и клацанье зубов. Они шли осторожно, оглядываясь. Борис держал топорик в отведенной в сторону, приготовившейся к бою руке. Миновали палисадник, свернули к гаражу. Снова раздался звук – он несся из дверей гаража и походил на плач какого-то огромного животного.
– Корова! – воскликнула Татьяна. – Зорька! Девочка!
Она обрадовалась, что вместо вурдалаков обнаружилась Зорька, и в первый момент даже не подумала о том, какая обуза на нее свалилась. Татьяна ласково погладила коровий лоб и побежала в угол гаража включать генератор.
Зажегся свет, сначала тусклый, потом лампы стали светить ярко. Татьяна вошла в соседнее с гаражом помещение кладовой. Боря внимательно смотрел на корову. Обошел ее вокруг. С коровой дело обстояло плохо.
– Животное! – шепотом сказал Борис. – Ты что задумало? Ты заболело? Или рожаешь? Подожди, потерпи. Это ты не вовремя. Таня! – позвал он. – Мне кажется, с Зорькой не все в порядке.
– А что с ней? – беспечно отозвалась Татьяна. – Подожди, я тебе соленостей: грибочков, капусты, огурцов, – все сама готовила, достану.
– Таня! – снова позвал Борис. – Таня, иди сюда!
– Да я слышу по запаху, она кучу сделала.
– И еще она немножко рожает.
– Говори громче, я не слышу.
– Корова те-е-елится! – закричал Борис и тихо добавил: – Или подыхает.
Татьяна бросила пакеты и вернулась в гараж. С Зорькой происходило что-то странное. Она стояла в луже бурой жидкости, переступала с ноги на ногу, жалобно мычала, а по ее огромному животу пробегали волны судорог. Вдруг она завалилась на бок, судороги усилились. «Схватки», – догадалась Татьяна.
Видеть животное, большое и страдающее, при этом чувствовать полнейшую растерянность и беспомощность – испытание редкое и сокрушительное для городского человека. Борис и Татьяна невольно схватились за руки и, вытаращив глаза, наблюдали за происходящим.
Вытянув могучую шею, откинув голову, Зорька замычала так жалобно, что у Татьяны вырвался ответный стон.
«Сейчас корова умрет. Сейчас она сдохнет», – стучало у Бориса в голове. Он уже мысленно видел картину – огромная туша умершей коровы, вокруг летают злобные зеленые мухи. Откуда мухи в декабре? Это он переборщил. Но корова точно сдохнет, уже помирает. Так страдают только перед смертью.
– Таня! – проговорил он хрипло. – В природе акушеров нет. Животные сами знают… у них рефлексы, инстинкты… Давай не будем ей мешать? Пойдем? А потом… потом придем?
– Нет, мне Анна Тимофеевна говорила, что, когда Зорька телится, она ей обязательно помогает.
– Каким образом?
– Я не знаю.
Потуги у коровы усиливались, и вдруг из-под хвоста появился буро-желтый пузырь размером с небольшой абажур. Таня и Борис дружно ахнули. Пузырь уполз обратно в утробу коровы.
– Что это? – судорожно сглотнула Татьяна.
– Не имею понятия. Я специалист по римскому праву, а не ветеринар.
Надо было что-то делать. Но что? Ни Борис, ни Татьяна ничего не понимали в ветеринарии. Оставалось надеяться на чудо.
И вот у Зорьки снова начались потуги, снова появился пузырь. Вдруг он лопнул, и показались маленькие копытца и голова теленка, уютно на них положенная. Зорька еще дважды напряглась, и теленок целиком выскочил.
– Ура!! – радостно закричали «акушеры». Корова обессиленно откинула голову и тяжело дышала. Покрытый слизью теленок лежал на циновке, чихал смешным носиком. Татьяна села рядом с ним на корточки, сняла с шеи шарф и вытерла его мордочку.
– Ты мой хорошенький! Живой! Умничка!
– Таня, подожди, – остановил ее Борис. – По-моему, все самки после рождения детенышей должны их сами облизывать. А ты своим запахом можешь навредить. Видишь, Зорька уже беспокоится.
Зорька подняла голову и требовательно замычала. Даже пыталась встать. Но сил у нее не было, только дернула ногами. Таня и Борис, взявшись за четыре угла циновки, подтащили теленка к роженице. Корова тут же стала его умывать огромным шершавым языком.
Татьяна смотрела и смотрела бы на трогательную сцену, но, бросив взгляд на Бориса, поняла, что пора уходить. Если у коров все происходит как у женщин, то должен отойти послед. Татьяна дождалась бы, убрала. Но надо подумать и об этом мужественном человеке, которого неведомым ветром занесло в ее дом.
Пока Борис принимал душ, а потом они обедали, пили кофе, совсем стемнело. Татьяна предложила ему переночевать и в Москву отправиться утром. Она говорила беззаботным тоном, всячески стараясь исключить двусмысленность предложения. Но он посмотрел на нее так, словно уловил только эту двусмысленность. И сказал извиняющимся тоном:
– Я не могу остаться. Завтра утром лекция, а в одиннадцать защита кандидатской у моего аспиранта.
– Но ты найдешь дорогу? – Никаких подтекстов, только забота о ближнем.
– С закрытыми глазами. У меня такое чувство, что мы еще увидимся.
Где? Когда?
«Жена, дочь», – мысленно напомнила себе Татьяна и неопределенно пожала плечами: скорее всего, мы больше не увидимся.
«Богатый покровитель», – понял Борис.
– Ну что ж! – Он развел руками. – Я провел незабываемые сутки, и ты произвела на меня неизгладимое впечатление.
Выражение «заботливая мамаша» на Танином лице сменилось на «кающаяся грешница».
– Ах, еще раз прости меня! И огромное тебе спасибо за все!
Борис вспомнил мечты, которым он сегодня утром предавался в баньке, и заявил с несвойственным ему нахальством:
– Одним спасибо сыт не будешь. – Не давая Таниному удивлению остыть, продолжил: – Гробокопатель, пожарник и «акушер» заслуживает хотя бы маленького приза.
Таня настолько растерялась, когда он вдруг приник к ее губам, что не сопротивлялась, хотя и не отвечала на его поцелуй. Испуганно замерла: на сколь серьезный «маленький приз» Борис рассчитывает?
По тому как она отреагировала на его прикосновение, Борис заключил, что Татьянин покровитель не только богат, но и патологически ревнив – умудрился женщину до обморока запугать! Отстранившись от Татьяны и желая сгладить неловкость момента, Борис с усмешкой процитировал пушкинские строчки из «Евгения Онегина»:
- Надежды нет! Он уезжает,
- Свое безумство проклинает —
- И в нем глубоко погружен.
- – Как с вашим сердцем и умом
- Быть чувства мелкого рабом? —
неожиданно ответила Татьяна строками из того же произведения. Борис удивился и продолжил литературную дуэль по «Евгению Онегину»:
- Благодарю за наслажденья,
- За грусть, за милые мученья,
- За шум, за бури, за пиры,
- За все, за все твои дары.
Татьяна простила Бориса за вольность с поцелуем:
- Как сильно ни была она
- Удивлена, поражена,
- Но ей ничто не изменило:
- В ней сохранился тот же тон,
- Был так же тих ее поклон.
Борис польстил Татьяне тем, что она напоминает свою литературную тезку:
- Она была нетороплива,
- Не холодна, не говорлива,
- Без взора наглого для всех,
- Без притязаний на успех,
- Без этих маленьких ужимок,
- Без подражательных затей…
- Все тихо, просто было в ней.
- Я знаю: в вашем сердце есть
- И гордость и прямая честь, —
вновь подхватила Татьяна.
Понимающе кивнув, Борис договорил окончание строфы:
- Но я другому отдана;
- Я буду век ему верна.
– «Прости ж и ты, мой спутник странный», – улыбнулась Татьяна.
– Я выучил «Евгения Онегина» в армии, спасаясь от идиотизма солдатской жизни.
– А я в восьмом классе в пылу девичьих романтических восторгов.
– В «Евгении Онегине», как в Библии, есть цитаты на все случаи жизни. Ну, мне пора.
– Я провожу тебя до машины.
На улице было очень холодно: к ночи ударил крепкий мороз. Они торопливо пожали руки, обменялись ритуальными «приятно было познакомиться… всего доброго…» и поспешили в тепло.
Глава 2
Татьяна зимовала в Смятинове второй год. Короткие дни и долгие вечера с неспешными занятиями: прогулками на лыжах, уборкой дома, рукоделием, чтением, работой в зимнем саду – тянулись медленно, но мелькали быстро. В неторопливости, необязательности труда была прелесть отдыха, единого с отдыхом природы. Вместе с природой ранней весной Татьяна пробуждалась от спячки, менялся ритм ее жизни – на быстрый, напряженный, выматывающий. Она не разгибала спину в цветниках, оранжерее, на грядках, в саду. Почти всю работу на участке в полгектара Татьяна делала сама, только на самую тяжелую или строительную: ямы под деревья выкопать, траву покосить, ограду поправить – нанимались работники. Она трудилась не ради урожая овощей, хотя они были как фермерские, не на продажу цветы разводила и оформляла цветники. Освоила все их виды: альпийские горки, солитеры, миксобордеры, партеры, рабатки, не говоря уже о клумбах. Она конструировала собственный мир. В этом мире она была и творцом, и работником, и строгим критиком, и сибаритствующим потребителем.
Зимой и летом, весной и осенью к Татьяне приезжали гости, редкая неделя обходилась без визитов. Ее подруги, родственники, дети с оравой шумных друзей – все полагали, что старания Татьяны направлены на то, чтобы создать для них прекрасные условия для отдыха на природе. В самом деле, не для себя же она строит беседки, оборудует уютные местечки для жаровни и коптильни, запускает в прудик рыб и ровняет площадку для тенниса. Она и в теннис-то не играет. Это было справедливо, но лишь наполовину. Как красивое платье: ты надеваешь его, и не только окружающие оценивают словом, взглядом достоинства наряда, но и сам ты дома, перед зеркалом, испытываешь подъем духа.
Подлинное удовольствие Татьяне всегда доставляли только вещи, которые заключали в себе частичку ее фантазии и труда. Тяга к рукоделию проявилась у Татьяны очень рано. Ей было пять лет, когда она уговорила бабушку научить ее вышивать крестиком. До сих пор помнит – большие пяльцы с натянутой на них белой рогожкой и ее неловкие руки, которые по расчерченному рисунку толкают иголку, ошибаются клеточкой, больно укалывают в подушечки пальцев, запутывают нить в узелки. В первом классе она уже вышивала хорошо не только болгарским крестом, но и гладью. Папа шутил, что у дочери руки умнее головы. Это было не совсем верно, потому что училась она на твердые четверки. Но обычным девчоночьим забавам: секретничанию, пылкой дружбе, щекочущим нервы разговорам о мальчиках, о происхождении детей, поцелуях и о самом-самом тайном – Татьяна предпочитала тихое и кропотливое постижение возможностей какого-то материала, превращавшегося в ее руках в красивое изделие.
Ее детство, вроде истории земли с ее каменными и бронзовыми веками, разделилось на периоды увлечений разными материалами для рукоделия. После вышивания наступил пластилиновый период. Она лепила из пластилина дома, деревья – целые поселки и их жителей – рыцарей на лошадях и красивых дам в длинных платьях. В их с бабушкой комнате было тесно, и под сказочный город можно было отвести только часть письменного стола. Поэтому приходилось время от времени превращать замок, королеву или яблоневый сад в комки пластилина, из которого лепились новые предметы и персонажи. Новые – лучше прежних, техника оттачивалась, появлялось чувство материала, который делился с ней секретами собственной пластики.
После пластилиновой эры наступила эра выжигания по дереву. Сначала разделочные кухонные доски из магазина «Все для дома». Татьяна их полировала мелкой наждачной бумагой, наносила карандашом контур рисунка. Потом аккуратно водила по контуру жалом прибора для выжигания. Раскрашивала красками и покрывала лаком. Вслед за досками настал черед матрешек, шкатулок, ложек – в ход шли любые заготовки из дерева, которые удавалось достать. Их кухня, а потом и кухни московских тетушек украсились яркими расписными досками, полочками, солонками, плошками.
В пятом классе Татьяна начала вязать крючком: сначала простенькие салфетки – столбик, столбик, столбик с накидом, – потом ажурные блузки, платья, скатерти, шали. Когда ее мама холодными осенними днями набрасывала на плечи связанную Таней шаль (темно-бордовую, со сложной каймой и объемными цветами), никто из сослуживцев не мог поверить, что шаль связала двенадцатилетняя девочка.
Самым трудным было достать необходимую пряжу, магазинный ассортимент не удовлетворял даже очень скромные запросы. А Тане для воплощения ее идей требовались то шелковое мулине, то серебряная нить, то шерсть, по-особому скрученная. Она знала все отделы кройки и шитья в московских магазинах, ездила на Птичий рынок, где иногда прибалты продавали хорошую и недорогую пряжу. Покупала в универмагах мужские носки, распускала их на нити, которые наматывала на дощечки, отпаривала горячим утюгом через мокрую тряпку, чтобы пряжа распрямилась, сушила, сматывала в клубки. Татьяна еще в детстве поняла, а потом не раз убеждалась, что успех любого рукотворного дела зависит не только от способностей, фантазии и ловкости, но и от хорошего материала и инструмента. «Из маслица и курочки сделает и дурочка», – говорила бабушка.
Денег, которые родители выделяли на приобретение материала, не хватало, и Таня экономила на школьных завтраках, неделями копила, потом просила у отца «два рубля на спицы восьмого номера». Спицы она присмотрела в велосипедном отделе, стоили они тридцать копеек, сточить напильником резьбу и будут в самый раз. Оставшихся денег хватит, чтобы тайно купить и распустить, отделив золотистую нить, индийскую косынку. Тайно, потому что испортить новую вещь родители бы никогда не позволили. А золотая кайма нужна на подложку орнамента новой кофточки для мамы. С подложкой рисунок приобретает объемный и парадный вид. Мама наденет кофточку на Восьмое марта, и все будут поражаться – лучше импортной.
Каждый «материальный» период наполнял Танины сны новым содержанием. Пластилин плавился, вытягивался, превращаясь в готический храм, как иллюстрация в учебнике истории, который Таня накануне рассматривала у соседской девочки. На деревянной поверхности взмахивали крыльями чудо-птицы. Крючок захватывает нить, закрепляет узелок за узелком, и растет кайма придуманного ею плетения. Взялась прясть кружева на бирюльках – снились чудные узоры и ее быстрые пальцы, перебирающие деревяшки. Делала из теста смешных куколок – снились мордашки и фигурки, пародирующие знакомых и учителей. Вырезала по фанере лобзиком – пыталась во сне вспомнить узор на наличниках, которые видела однажды в деревне. Пластилин, пряжа, нити, глина, дерево, проволока, смешение красок, цвета, оттенки – их чувствовали глаза, пальцы, поэтому это был чувственный мир, в который она погружалась, чтобы не сразу, а постепенно обучаясь, прийти к удовольствию от игры с покорившимся материалом и найденной цветовой гаммой.
Таня была счастлива в своем мирке и не могла понять, почему другие в него не рвутся. Она пыталась вовлечь подружек, хотя, кроме слов «это так здорово, так интересно», не могла найти других аргументов. А подруги, корпя несколько вечеров над пяльцами или устав путать прямую петлю с изнаночной при вязании на спицах, выносили приговор – «Нудно и скучно!».
Единственным женским рукоделием, которое Таня не освоила, было шитье одежды. Стрекот швейной машины не умолкал в доме – шила бабушка. Превзойти ее в уровне мастерства было невозможно. Бабушка умела делать все: выбивать узоры «ришелье» на постельном белье, шить платья из скользкого, неудобного в работе шелка и капризного крепдешина, справлялась с трикотажем, для которого требовались специальные насадки. Бабушка полностью обшивала семью, готового платья не покупали. Даже пальто, плащи и костюмы для отца были домашнего производства, но качества неотличимого от фабричных импортных. Бабушка брала заказы со стороны. Но для посторонних шила только платья. Потому что мужские костюмы, в частности пиджаки, и пальто требуют особой технологии, длительной и сложной. Мужские мастера – вообще особая каста, они на финтифлюшки не размениваются. Пока один костюм выполнишь, можно пять платьев сделать. А кто тебе заплатит за него как за пять платьев? И цену называть неудобно.
Когда Тане исполнилось шестнадцать лет, они с бабушкой организовали союз модельера и портного. Внучка следила за модой, придумывала фасоны, бабушка их выполняла. Постоянные заказчицы, прежде стоявшие в очередь к бабушке, теперь первым делом шли к «модельеру». Идеальные фигуры встречались редко, и приходилось ломать голову, как скрыть полноту или худобу, зрительно уменьшить выдающийся бюст или, напротив, замаскировать его отсутствие.
Объяснялась с клиентками бабушка, потому что Таня не могла указывать взрослым женщинам на недостатки их фигуры. Бабушка в выражениях не стеснялась.
– Вы, Лариса Петровна, – говорила она, – что коробок спичечный на ножках. Плечи гренадерские, зад плоский, талию не найти. Будем все маскировать. Таня правильно нарисовала – трапеция от кокетки.
Заказчицы желали следовать моде, невзирая на то что модный силуэт делал их карикатурными.
– Какие узкие брючки! – журила бабушка. – У тебя, Валя, ноги от бедер колесом. Ступни вместе поставишь, баран между коленок проползет. Таня говорит – легкий клеш, слушайся!
– Что? Юбка в сборке на талии? Шура, в тебе метр росту и бедра в три обхвата! Тебя будет легче перепрыгнуть, чем обойти.
– Жабо? Вы, Генриетта Станиславовна, хотите жабо на блузку, как у моей невестки? У Людмилы третий размер, а на ваш бюст, извините, можно тарелку ставить и щи хлебать.
Клиентки если и обижались на злой язычок бабушки, то виду не показывали, боялись поссориться с хорошей портнихой.
Однажды Таня нечаянно услышала разговор родителей. Отец, кивнув в сторону комнаты, из которой слышался перестук «Зингера», сказал раздраженно маме:
– Как мне осточертела машинка и тетки со своими примерками!
– Но, Петенька! – ласково увещевала мама. – Это же такое подспорье!
– Я все понимаю. Но столько лет: тырдык-тырдык, тырдык-тырдык – хуже бормашины.
Отец в их семье был абсолютным кумиром. Он работал шофером на той же автобазе, где его жена занимала должность главного бухгалтера. Никому – ни жене, ни свекрови, ни дочери – не пришло бы в голову говорить о его низком социальном положении. Напротив, авторитет отца в семье был непререкаем, желания немедленно исполнялись, кулинарные предпочтения (отсутствие в супе вареного лука, картошка, жаренная на свином сале) становились обязательными для всех. Он был Хозяином с большой буквы, и первой ставила заглавную букву бабушка. Она воспитала дочь и внучку: мужчина в доме, если он, конечно, не пьющий и вообще не пропащий, – царь, бог и воинский начальник. Ваше дело заботиться о нем, холить и лелеять. Он трудится потяжелее вашего, и попросить его пол помыть или белье погладить – значит опозорить свою женскую сущность.
Бабушкина наука так прочно усвоилась Татьяной, что, когда ее собственный муж Андрей впервые вызвался помыть посуду, Татьяна едва не расплакалась от умиления. Восприняла его порыв как свидетельство самой пылкой любви и жертвенности.
Бабушка Таня (внучку назвали в ее честь) приехала в Москву, когда ей было двадцать лет, из Макеевки – города сталеваров на востоке Украины. Ее родителей репрессировали, но родственники успели отослать девушку в столицу к земляку-портному. В Макеевке мужчины трудились у доменных печей и прокатных станов. В Бога они не верили, загробной жизни не боялись – на заводах шесть дней в неделю, восемь часов в день занимались адским трудом. Чтобы поддержать работника, жены отдавали ему лучший кусок, то есть мясо и сливочное масло, а себе и детям оставляли кашу и маргарин. Мужчины редко доживали до преклонных лет, каторжная работа и водка к сорока годам превращали их в стариков, после пятидесяти они быстро отправлялись на погост. Но пока были живы, жены и дочери истово о них заботились.
Работая у мастера, Танина бабушка по его поручениям ходила в магазин тканей, долго стояла в углу, присматриваясь к продавцу. Это был молодой мужчина, на вид довольно крепкий. Но здоровый мужчина не мог работать с метром в руках! Разве это мужская работа? Значит, он инвалид, что-то у него было не в порядке со здоровьем. Несколько месяцев Татьяна стояла в сторонке, пытаясь определить, в чем заключается ущербность веселого, балагурящего с покупательницами продавца. Видимых дефектов у него не было, следовательно – внутреннее заболевание, от которого он скоро умрет. Каждый раз, войдя в магазин и увидав парня, она радовалась – еще жив. В тяжелобольные она также, не сомневаясь, записывала мужчин официантов, кассиров, маляров и вагоновожатых.
Она и мужа себе выбрала под стать ее представлениям о мужчине-труженике – молотобойца Егора с завода «Серп и молот». Татьяне от деда достались кудрявые непокорные волосы, более в семье ни у кого таких не было. Дед Егор погиб в начале войны, а бабушка больше замуж не вышла. Поднимала двоих детей – Людмилочку и Витеньку, трудилась на швейной фабрике и подрабатывала заказами дома. Почти круглые сутки за машинкой, с перерывами на сон, стряпню и уборку.
Зятем, Татьяниным отцом, бабушка была довольна – хороший, работящий мужчина. А невестку Клару, жену дяди Вити, не жаловала. Та позволяла себе часто болеть, то есть прикидываться немощной, чтобы не ухаживать за Витенькой, как положено примерной жене. Тот факт, что дядя Витя и тетя Клара работали за соседними столами в конструкторском бюро, вместе уходили на завод, вместе приходили и получали одинаковую зарплату, во внимание не принимался. Витенька картошку «у нее» чистит, детей в садик отводит и пылесосом по коврам шмыгает – значит, не повезло ему, бедняжке. Хотя бабушка определилась на жительство в семье дочери, сокрушаясь о несчастном сыночке, она периодически делала налеты на его дом, устраивала генеральные уборки, пекла его любимые пироги и, самое главное, учила Клару быть правильной женой. «Учеба» едва не привела к разводу. Бабушке пришлось от ревизий отказаться, но к сыну и двум внукам относилась она с глубокой жалостью и сочувствием, как к тому продавцу тканей.
Султанство в семье Таниного отца не имело ничего общего с тиранством и деспотией. Петра Сергеевича окружали в доме забота и внимание трех женщин, но они, в свою очередь, не знали проблем с капающими кранами, постройкой антресолей под потолком в коридоре или холодильника для консервов, выдолбленного в толстой каменной стене на кухне. На дни рождения, Новый год, Восьмое марта теща, жена и дочь всегда получали подарки – флакончики духов, косынки или бижутерию. Тишина и покой в их доме никогда не нарушались ссорами и выяснением отношений. Выяснять было нечего – пожелания Петра Сергеевича не обсуждались, а хозяйственные починки и ремонты он не откладывал на потом.
Звуки Таниного детства: шелест газеты в руках отца, звяканье посуды у мамы на кухне, стрекот бабушкиной машинки. Хотя Петра Сергеевича раздражал промысел свекрови, ему в голову не приходило запретить пошивочный цех. Каждая копейка была на счету. Сам он часто работал сверхурочно, жена вела домашнее хозяйство строго экономно: все должны быть одеты с иголочки, модно, красиво, но никаких излишеств в еде и развлечениях. Лишний рубль был дорог для их общей любви и заботы – для дачи. Строили ее долго, по досочке, по кирпичику. Буквально не пройдут мимо свалки, где увидят хорошую доску, мимо кирпича, валяющегося на улице.
Десять лет Петр Сергеевич стоял в очереди на участок, копил деньги на автомобиль, чтобы ездить на дачу. Шесть соток каменистой, неплодородной, утыканной пнями земли выделили в Малаховке за большими госдачами.
Возделывали землю, строили домик с упорством золотоискателей.
– Вот ведь и доказывать не надо, – говорил отец, разгибая натруженную спину, – что у тебя, Танюшка, в роду, что с одной стороны, что с другой, сплошь кулаки были. Мы с землей разве только не целуемся.
Дача в Малаховке – это планета детства Тани и ее двоюродных братьев. Там были бурные реки, морские побережья, тропические заросли, рабовладельческие плантации, пустыни, горы, пампасы и непроходимые болота. Проносились хищные животные, кусались ядовитые змеи, ползали тарантулы и страшно ухала ночью сова-убийца. Населяли планету то племена индейцев, то отважные ковбои и охотники, то партизаны и командиры Красной армии, то рыцари-крестоносцы.
Летом бабушка закрывала свою «мастерскую» до осени, «Зингер»-кормилец оставался дома. Но бабушка не могла позволить, чтобы ее денежный вклад в семейный бюджет ограничился пенсией. Она брала для присмотра детей с соседних дач. Ровесницы Тани, Ольга и Лена, жили у них от выходных до выходных, часто и ночевали, если родители не приезжали после работы. «Пионерлагерь» называл их папа.
Все, что когда-либо было – росло, цвело или строилось, – в Малаховке до сих пор наделено для всей семьи особым смыслом. Собравшись за столом, родня могла до криков спорить, куст красной или черной смородины рос в углу за туалетом. Доказать свою правоту – как подтвердить давнее проживание на той планете.
Дача в Малаховке и сейчас принадлежала их семье. Вернее – отцу. Татьяна не была там несколько лет.
Они – бабушка, мама, Таня – правильные и трудолюбивые, доброжелательные и преданные, – в чем-то очень сильно ошибались. После смерти мамы, которую в полгода убил зловредный рак, отец женился на пьющей стерве. Она нынче хозяйничала в Малаховке.
А идеальную жену Татьяну, положившую жизнь на алтарь семьи, муж бросил, едва выросли дети.
Татьяна, семнадцатилетняя девушка, стояла у стенда приемной комиссии Архитектурного института. Перечитывала названия экзаменов, словно надеялась взглядом стереть их. Рисунок, гипсовый слепок классической головы, композиция – нагромождение объемных фигур. Черчение – по заданному аксонометрическому изображению нужно выполнить в карандаше и обвести тушью…
У них было черчение в восьмом классе. Для хорошей оценки требовалось в нижнем левом углу вписать четким почерком свою фамилию.
Архитектором Таня решила стать несколько месяцев назад, перед выпускными экзаменами в школе. До этого она почему-то не обращала внимания на здания. Окна, двери, балконы, лепнина – фантики для каменных коробок.
Фраза подруги Ольги «Мой репетитор живет в доме, похожем на беременную курицу» рассмешила Татьяну.
– Хорошо, что ты не поступаешь на биологический, – сказала Лена. – К твоему сведению, курица может нести яйца и без участия петуха.
– Не может быть! – воскликнула Ольга. – Кто же ее тогда осеменяет?
– Никто, – ответила Лена. – Ой, девочки, смотрите, что получается: курица как символ вечного непорочного зачатия!
– Не зачатия, – поправила Таня, – а вечной беременности.
– Одно другого краше, – сказала Ольга. – Нет, вы мне объясните тогда роль петуха в истории.
Лена поступала на биологический факультет МГУ, Ольга – в педагогический на исторический факультет. Таня никак не могла определиться. В текстильный? В лесотехнический? На филфак?
После чудного Ольгиного сравнения она стала присматриваться к домам и зданиям: а это на что похоже? Дом союзов на проспекте Маркса напоминал нарядный торт. Немаленькое по размерам здание, а легкое, словно нет у него фундамента, и можно движением руки передвинуть на другое место. А рядом здание Госплана. Фашистская Бастилия – назвала его мысленно Таня. Серая громадина, давит на тебя, будто хочет запугать, показать твою, муравьишки, слабость и беспомощность. Таня стала замечать различия в типовых коробках жилых домов. Здесь архитектор решил сбить унылый геометрический ритм балконов и расположил их лесенкой. Те жильцы, что лишились подсобного помещения, конечно, помянули его недобрым словом, а другие загубили идею, застеклив балконы каждый на свой лад. А вот стоят два дома-близнеца, но у одного лестничные шахты закрыты ажурной бетонной плитой, а у другого сплошной. Специально сделано или решеток не хватило?
Она знала этот внутренний щекотливый зуд – такой у нее начинался, когда мысленно присматривалась к новому материалу для рукоделия. Неужели и с камнем, бетоном можно как с пластилином, пряжей? Строить, придумывать дома? Она взяла в библиотеке книгу об истории архитектуры. Зуд усилился, будущая профессия определилась.
И вот теперь рисунок, композиция, черчение… Она плохо рисует. Она вообще не рисует. Последнее творчество – лет десять назад, деревяшки раскрашивала. Гуашь, картон, акварель, масло, холст – все запретное. Поклялась – никогда.
Ее преподаватель в художественной школе, Эмиль Зурабович, был педофилом. Черная бородка клинышком, потная лысина, толстые волосатые пальцы. Ими он поглаживал ее, старательно рисующую кубы и вазы; тени, полутени, перспектива. Так, чтобы другие ребята не видели. Сажал ее у стены. А однажды залез под юбочку, оттянул резинку трусов и провел по попе. «Такая способная девочка! Я с тобой отдельно заниматься хочу».
Таня не могла сказать родителям. Она шла в художественную школу как в храм. Эмиль Зурабович был в нем священнослужителем – родители к нему так и относились. Дети взрослых не критикуют, тем более священнослужителей. Татьяна знала, чего добивается преподаватель, – Ольга и Лена еще летом объяснили. Такая мерзость!
Он позвонил к ним домой, когда Таня пропустила месяц занятий. Разговаривал с мамой. Таня дрожала, слушая мамины «да, спасибо, я понимаю». Не выдержала, расплакалась.
Мама обняла ее, принялась успокаивать:
– Ничего страшного, доченька. Я знаю, как ты мечтала научиться хорошо рисовать. Но ты замечательно рисуешь и вышиваешь! Ты у меня такая мастерица! Не плачь. Подумаешь, не будешь художницей. Я тоже очень хотела стать балериной. Бредила балетом, целыми днями танцевала перед зеркалом. Но не вышло. Ну и что? Разве мы плохо живем?
– Что он тебе сказал? – между всхлипами спросила Таня.