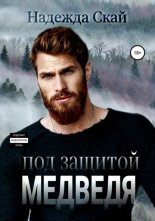Прокляты и убиты Астафьев Виктор
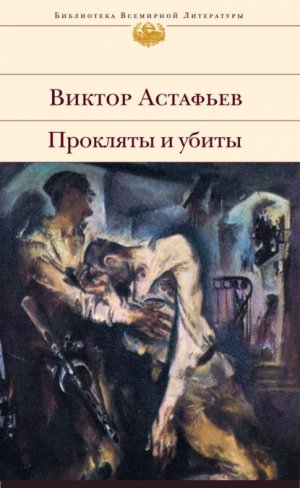
– Учтите, сегодня ужин будет принесен только дневальным и больным.
– Я тожа хворай.
– Вы – отпетый симулянт, и никакого вам ужина принесено не будет!
– Поглядим.
Если выпадало роте ужинать в последнюю очередь, это уж после одиннадцати, после отбоя, старшина строгости строя не требовал, петь не заставлял, почти никаких правил не соблюдал. Ели неторопливо, сонно, старшина из своего котелка вываливал в таз бойцов свою порцию каши или картошки, ломал на кусочки пайку хлеба и тоже раздавал, сам швыркал чай с сахаром, смотрел утомленно куда-то в ночь, за которой у него никого и ничего не было, ни семьи, ни дома – всю жизнь в армии. Его садили за что-то в тюрьму, подержавши, выпустили живого, он снова прижился в армии, начинал с конюшни, с обоза, рядовым, с годами рос в званиях, но дальше старшины никак не тянул, прежде не хватало на офицера образования, ныне ж он и сам не захотел бы в командиры, в строевые, стар годами, почтения не больно много, да и привык хозяйничать и канителиться в хлопотной должности ротного старшины, вдобавок на подозрении, как старый, дореволюционный кадр, к тому же подежуривший в арестантах на тюремных нарах, зря в Стране Советов не садят, тем паче в армии, – раз старшиной был, сбондил небось казенное имущество и прокутил, может, и в политике прокол вышел (царской же, старорежимной армии слуга), и хотя старшина Шпатор был совершенно непьющим, некурящим, бескорыстным человеком – никто этому все равно не верил, коль все старшины плуты, выпивохи и бабники, значит, и этот таков.
– Товарищ старшина, мы дневальным и больным отделили кашу в котелки, как с пайкой Петьки Мусикова быть? – прервали его неспешные раздумья дневальные по роте.
– Хлеб этому паразиту отнесите, пайка – дело святое, кашу сами съешьте, – следовал приказ. – Нечего с ним церемониться. Я его вообще скоро из роты вытурю, памаш.
– Куда, товарищ старшина?
– Куда, куда? Куда-нибудь да вытурю. Может, на конюшню сплавлю, может, в артиллерию на лямке гаубицу таскать, может, вовсе под суд да в штрафную роту его, сукиного сына, чтоб не разлагал арьмию.
Тихо-мирно вернулась рота с ужина, распределилась по местам, улеглась на нарах. Прижавшись друг к другу, служивые угрелись маленько, сон наваливается – натоптались, намерзлись, еще один день позади. Мороз и ночь на дворе, звезды над казармами в кулак величиной, другой раз сразу и не поймешь, лампочка то или звезда, луна из ущербу выходит, блестит что банный таз, стало быть, еще морозу прибудет, но и этого уж лишка при аховой-то одежонке да в едва натопленной казарме, скорей бы уж на фронт, к одному концу, что ли, надоело все до смерти. Дома сейчас тоже отужинали, спать ложатся, кто на полати, кто на кровать, кто и на печь на русскую. Бока пригревает, тело распускается, нежится, на душе покой, никуда идти не надо, раз не хочешь, не иди, пусть даже у клуба иль в избе какой гармошка звучит зазывно и девки поют иль хохочут. Самое интересное, что над казармой и над деревней родной те же звезды, та же луна светит, но жизнь совершенно другая и по-другому идет.
– А где мой ужин? Пайка моя солдатская, кровная где? – врастяг, капризно начинал нудить Петька Мусиков, свесившись с верхних нар и на всякий случай держась за столб.
Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая, липнет коркой к горячей плите золотая паечка хлеба, распространяя ржаной, овинный дух. Старшина Шпатор затаился в каптерке, ни гугу.
– Чё сурлы воротите? Сожрали мою пайку? – наседает на дневальных Петька Мусиков. – И не подавились? Товаришшы, называется, ишшо и концамольцы небось, бляди! Пизделякнули пайку, и хоть бы что!
– Скажи спасибо – хлеб принесли.
– Хлеб? Принесли? А кто корку всю с пайки обкусал? Кто? Я больной, но не слепой…
– Ты поори, поори. С нар стащим, на улицу вышибем, долаешься!
– Меня-а? С на-ар? А этого не хотите? – тряс Петька Мусиков штаны. – Эй ты, усатый таракан! – уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонкой скалящийся заморыш, вперившись сверкающим взором в дверь каптерки. – Тебе Попцова мало? Угробили человека! Убили! Уморили! Отдай мою пайку! Притаился! Нажрался чужой каши, наперся чужого хлеба! Воняешь теперя на всю казарму! Так полагается в Советской Армии? Самой сознательной. Сталин чё говорит?..
Что говорит Сталин и говорит ли вообще, в последнее время что-то не слыхать, но никто переспрашивать не решался, страшась и того уже, что имя вождя, будто Божье имя, так вот запросто поминается всуе отпетым скандалистом.
Петька же расходился все больше, брызгая слюной, визгливо кричал, что в голову взбредет, глядишь, из второй роты с противогазовой сумкой на боку дежурный мчится:
– Това-арищи! Первая рота! Отбой был. Люди ведь отдыхают.
– А ты чё приперся? Те чё тут надо, бздун? – орал на него сверху Петька, да еще и плевался, норовя попасть в лицо. – Тут советского красноармейца обокрали!
– Кого? Кто обокрал?
– Миня! Старшина обокрал! Пайку мою сбондил!
– Ка-ак? Какой старшина?
– Известно какой! Один он тут усатый таракан!
Разбуженные злые бойцы уговаривали Петьку, кричали на него, начинали спинывать его с нар, требуя от дневальных избавить их от бунтаря, иначе они его измордуют, как Бог черепаху. Но унять и удалить Петьку Мусикова с нар не так-то просто. Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами, и вопит пронзительно:
– Убива-а-ау-ю-ут! Карау-у-ул!
Заканчивается это всегда тем, что старшина Шпатор выскакивает из каптерки в полусъехавших, спузырившихся на коленках кальсонишках, в валенках с кожаными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, то и дело спадающей. Хватаясь за сердце, звякая своим старомодным котелком, с перерывами в голосе старшина взывает:
– Дневальные!.. Товарищи!.. Люди добрые!.. Кто-нибудь… Кто-нибудь… в счет моего завтрака… милостью прошу… прошу…
Дневальный мчался на кухню, благо была она неподалеку от расположения первой роты, приносил котелок с кашей, совал его наверх.
– Подавись, сатана!
– Сам сатана! – Приняв котелок, Петька Мусиков шарился в нем ложкой, хныкал: – А жиров-то – хер ночевал! Слизали! Еще и обзываются! Где вот справедливость? Сталин чё говорит?
– Ты хоть товарища Сталина не цепляй, гнида! Иначе мы тебя в самом деле вытащим и кишки выпустим на обоссанном снегу!
– Вам чё? Дай над больным человеком поизгалятца! Попцова вон уханьдехали, закопали.
Поевши, заскребя в котелке, Петька никогда не отдавал посудину просто так, он ее непременно запускал со звоном, норовя угодить дневальному в голову.
– Это армия? – долго потом еще всхлипывал Петька. – Товаришшество? Имя что больной, что не больной. Попить бы лишь бы кровь из человека. Попцова извели, скоро всех во гроб покладут. Сталину буду писать…
Глава 8
На рекламных щитах клуба, на казармах и даже на заборах появились объявления, писанные чернилами по газете «Правда», в коих извещалось, что 20 декабря 1942 года в помещении клуба состоится показательный суд военного трибунала над Зеленцовым К. Д. Бойцы в полку, особенно в первой роте, где Зеленцова еще помнили, пытались угадать, что же наделал этот пройдоха, что натворил – порешил ли кого, украл ли чего? Слух докатился, будто обчистил он офицерскую землянку, да и не одну.
А началась беда не с Зеленцова, началась она с художника Феликса Боярчика. Отец когда у него был и был ли вообще, Феликс не знал, но вот фамилию ему свою на память оставил. Мама, Степанида Фалалеевна, задуманная и поначалу творимая как девка, где-то с половины задела пошла в мужика, должно быть, отец ее на мельницу ездил, неделю там гулял, когда снова за дело принялся, о первоначальном замысле запамятовал. Получилась по естеству своему, по частям и по деталям – Степанида, но по внешности и по всему остальному – Степан. Звали это существо Степой. Всю жизнь мать Феликса, железная большевичка, нарекшая сына, конечно же, в честь непобедимого наркома Дзержинского, обреталась в области того советского искусства, которое скорее и точнее назвать бы бесовством. Изрыгая слова под бойкий топот местных самородков, поборники местной культуры, деятели передовой и боевой пропаганды вроде бы совсем не слыхивали о великой русской музыке, живописи, литературе, брезговали родным, в первую голову деревенским, наследием в силу его полного и непоправимого отставания, идейной невооруженности, лишенной накала классовой непримиримости к врагам партии и советской власти. Новоявленные творцы сами сочиняли свое слово, искусство, скетчи, пьесы, программы с чтением вслух, с выкрикиванием лозунгов, шагом на месте под барабанный бой, под звук трубы, с построением пирамид, с зажигательными коллективными переплясами, изображающими выплавку стали, бег паровоза, сбор небывалого урожая. Да все в темпе, в темпе! Выше! Дальше! Вперед! До полной победы коммунизма!
Надев белую мужскую рубаху с галстуком, Степа ступала по подмосткам по-боевому четко и, как ей казалось, даже грациозно. Начинала она любой вечер, любое торжественное собрание с чтения:
- И я, как весну человечества,
- Рожденную в трудах и в бою,
- П-пай-айю-у-м-майе от-теч-чество-о-о,
- Р-рес-спублику м-майю!
Заряженное парадным вступлением, будто орудие гремучим порохом, действо грохотало, улюлюкало, свистело, с визгом вело беспощадный огонь по врагам, вдохновляло народ на трудовые подвиги, поднимало на борьбу с пережитками капитализма, звало, влекло, настигало. Степа пробовала себя переименовать согласно историческому моменту в Электрину, тоже Феликсовну, но ничего с народом поделать не могла, на сцене Электрина, в жизни же Степа да Степа.
Когда и как у нее получился мальчик, она, захваченная вихрем революционного искусства, почти не заметила. Пресмыкался в районном Доме культуры ссыльный музыкант Боярчик, играл боевые марши на звонкой медной трубе, вертелся вокруг нее, что-то с нею делал. Закруженная общественной работой, она так и не поняла, что Боярчик с нею делал. Откуда и как получился мальчик? Такая досада!
Обжитую с пионерского возраста сцену районного Дома культуры, где на разных парадных торжествах Степа с младенческих лет еще кричала: «Будь готов! Всегда готов!» – пришлось оставить. В этом же Доме культуры она какое-то время работала завхозом. Но разве это работа? Где тут творческое начало? Вдохновение? Гром оваций? Клубное имущество у Степы частью разворовали, частью она его растеряла. Пришлось идти в общежитие воспитателем молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для дитя, чтоб оно…
Оттуда ее забрали в методисты-инструкторы самодеятельного искусства и физкультуры опять же при районном Доме культуры.
Заброшенный, некормленый, немытый Феликс был во младенчестве кормим из клубного буфета бутербродами, серыми котлетами, жесткими ирисками, черствыми булками. Его тетешкали, щекотали, подбрасывали под потолок какие-то взвинченно-веселые тетеньки, наряженные в галстуки дяденьки с блудливыми глазками и с оглушающим запахом сивухи изо рта. От грохота, от воя, от песен, от хохота Феликс полуоглох. От страшных отвратительных запахов и нечистот он сделался чистюлей, не переносящим ничего хмельного, но главное – навсегда ушел в тихую, уединенную работу. Он все время рисовал на клочках бумаги, на оборвышах плакатов, реклам, лозунгов, рано овладел оформительским искусством, ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать, рос хоть неподатливо, поскольку был заморен, однако бурной деятельности Степы не мешал.
Быть бы Степе снова заправилой народного искусства, кричать в Доме культуры про весну человечества, но в это время трубач Боярчик, о котором Степа давно и думать-то забыла, где-то чего-то натворил-таки и загремел в тюрьму, скорее всего за длинный язык, за безобразное отношение к передовому искусству, к властям, может, и за алчную похоть. Степу взяли за холку, порасспрашивали маленько и поняли: ничего, никакой правды от этой особы не добиться – она пребывает в недосягаемых высотах, по этой причине плохо помнит, чего сегодня ела, и ела ли вообще, где и с кем спала, да и спала ли, на кого оставила горемычное дитя свое.
Куда такого человека девать? В лес!
И кинули Степу в Новолялинский леспромхоз. И жила она там в бараке вместе с семейными бабами. Это было удобно: сунешь бабам Фелю – они его накормят, напоят, в корыте вымоют, спать вместе со своими ребятишками уложат. Когда и побранят маму, не без того. Да с нее как с гуся вода, тронутая, да и только, побранят-побранят да и накормят – куда ее денешь?
Больше всех жалела Фелю вислобрюхая от многорождаемости ходовая спекулянтка и отпетая кулачка Фекла Блажных. Среди ее ребятишек Феля и жил, ел, спал, труду учился, дрова и воду таскал, валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки. Деревенские, эстетически слабо развитые чада Блажных те картинки приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака. Особенно удавалась Феле картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай, барак обколочен был такими картинками.
Биясь денно и нощно за новую, пролетарскую культуру в леспромхозовском бревенчатом клубе, Степа сделалась заслуженным работником, грамоту с красным знаменем получила. В середке грамоты знамя с кисточками золотыми, в кружочке Ленин – Сталин помещаются, посередке герб с колосьями, с другого боку, тоже в кружочке, – Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Фекла Блажных грамоту тряпочкой обтянула и в свой кулацкий сундук спрятала: оборони Бог, ребятишки порвут – в тюрьме все семейство сгноят. И хитрая ж, отпетая баба, все талдычила героической труженице на ниве культуры:
– С эдакой грамотой, с эдакими достижениями тебе, Степа, фатеру надо просить, заслуженному человеку жить в бараке не полагатся. – И прозрачный намек вдогонку: – Дома в леспромхозе сдают о две половины, в одной половине куфня и комната, в другой – куфня и комната, дак ты бы просила для себя и для нас – нам Феля как родной, мы б его доглядывали…
Степа попросила, и от удивления, не иначе, – никогда ж ничего и ни у кого она не просила, – домик ей и семейству Блажных вырешили. Может, еще и потому вырешили, что сам Блажных – отпетый, конечно, элемент и контра неисправимая – показывал тем не менее в лесосеке чудеса трудовой доблести, да и ребятишек у Блажных шестеро, седьмой на улицу просится. Да еще выселены вместе с хозяином в лес старики, хотя и в нагрузку они социалистической лесоиндустрии, тоже где-то век доживать должны.
Степа только ахала, видя, что делают радостные и счастливые спецпереселенцы Блажных с домиком на окраине поселка, на улице Карла Либкнехта: вход один они заколотили, сохранили одну печь с плитой и духовкой, увеличив ее в объеме, вторую плиту разобрали и на месте ее слепили русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали. Получился дом о четырех комнатах, и одну из них они выгородили для Степы с Фелей, оборудовав по всем доступным возможностям культуры, считай что почти по-городскому: купили розовый абажур для электролампы, над угловиком-полкой приколотили рамку со Степиной грамотой, втолкнули сюда еще старое, из деревни вывезенное зеркало с выкрошившимся в дороге низом, Фекла сама застелила угловик вязаной скатеркой и на казенную железную кровать приладила прошву, на пол постелила половики и прослезилась, глядя на всю эту благодать:
– Светелка! Ты к нам, Степа, приветная, мы добро помним и завсегда готовы тебе послужить.
Вокруг домика номер девятнадцать по улице Карла Либкнехта, которая все наступала и наступала, тесня стандартными домами лес, выросли баня, сараи, свинарник, дровяник, нужник, на двери которого выпилено сердечко, погреб. Само собой, и огород появился. Как же без огорода крестьянской семье? В общем, живи не тужи.
Степа подивилась живучести, приспособляемости кулацкого отродья и совсем, считай, забыла, что у нее есть сын. Феля же о матери никогда не забывал, тайно любил ее, гордился ею, одна она такая подкованная культурой, на весь леспромхоз одна, стихи читает, на баяне играть может, надо, так станцует любой танец, пляску, смотр, кросс или демонстрацию организует в лучшем виде. Леспромхозовский клуб по культурно-массовой работе был всегда первым в области среди всех остальных клубов, премии получал от профсоюза лесной промышленности, случалось, и от партийных органов кое-что отламывалось.
Расширялся леспромхоз, богатела культура. На дальние участки все везли и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Новолялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашеными крестами и просто холмиками безо всяких знаков. Быстро затягивало мохом, брусничником широкий погост, зияющий дырами изнутри обвалившихся могил, местами уже проткнутый кустарниками, спешно зарастающий сосенками, елками, пихтами.
Феля с ребятишками Блажных ходил в лес по грибы, ягоды, боязливо огибая кладбище, потом начал его рисовать. Фекла обрызгивала мальчика святой водой, рисунки с крестами бросала в печку. Степа же все кричала про весну человечества, добавляя смешные куплеты, соответствующие тематике – про лесорубов, про их неустанный ударный труд: «Утром морозным сквозь синий туман сотни рабочих спешат по цехам, каждый с любовью к родному станку, к молоту, топке, зубилу, сверлу. Глухо удар за ударом о свар, брызгает искрами каждый удар».
Как Феля подрос, мать и его стала учить орать со сцены. Но, в малолетстве напуганный шумом, выросший в семье спецпереселенцев Блажных, Феля не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда мал и глуп был, под водительством братьев Блажных дрался, но потом засмирел, одомашнился, лишь виновато всем улыбался да рисовал, рисовал. Фекла любила Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую голову, за печальные глаза, за кроткий нрав, всех уверяла сраженным шепотом, что парень уж непременно в художники выйдет.
– Альбо в комиссары, ежели в маму удастся. Башковитай! – Подумав, решала: – Может, и в богомольцы, может, вину-то человечью перед Богом ему вот и суждено отмолить?
В комиссары Феля не вышел – не столь башковит получился, в богомольцы же ему и выйти негде было, но писать плакаты, вывески, картины в леспромхозовском Доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее агитационно-массовой работе, а дому Блажных каким-никаким заработком. Пожалуй, в художники-оформители вышел бы, да тут война.
Провожая в армию Фелю, Фекла Блажных, заливаясь слезами, громче всех баб причитала:
– Да Фелюшка! Да родимай ты мой! Да сохрани тебя Господи! Носки-то теплые взял ли? Метрику, метрику-то?.. Не надо метрику? А чё надо? Скажи, скажи, ничего не пожалею… Да пиши ты, пиши почаще. Да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю… Кабы я могла бы, дак за тебя бы на позиции пошла. Какой из тебя солдат? Да помни об нас, горемышных, помни. Чем обидели-прогневили тебя – прости и о Боге, о Боге небесном не забывай…
Налетела запыхавшаяся мать Степа на леспромхозовскую площадь, среди которой раскоряченно громоздилась дощатая трибуна в сохлых, с Первомая приколоченных еловых ветках. Придерживая мужицкую шапку на голове, тормозя себя мужицкими сапогами, чуть было не торкнулась в сына, он ее на лету поймал, прижал ко груди. Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь:
– За Родину!.. За Сталина!.. Смерть врагу!.. Гони ненавистного врага! Гони и бей!.. Гони и бей…
Фекла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую и надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь вид ее говорил: «Тронутая и есть тронутая! Чё с ее возьмешь!.. Нет чтоб ребенку человеческое слово сказать, Божецкое ему напутствие сделать… Стыдно перед людям…» Когда подошло время прощаться, Феля обнял тетку, совсем ослабевшую, обмякшую в его руках, рыхлую тетку Феклу, лепя солеными губами его в лицо, тоже ослезенное, не голосом, изболелым бабьим нутром она выстанывала:
– Касатик ты мой!.. Касатик ты мой!..
Степа стояла в стороне, хмуро курила махорку, плевалась в пыль. Любил Феля мать, любил естественной, мучительной любовью, но помнил-то тетку Феклу Блажных, письма в Новолялинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов: «Здравствуйте, дорогие мои тетя Фекла, дядя Иван, дедушка и бабушка, Аниска, Валентина, братья мои Иван Иванович, Архип Иванович…» И лишь в конце письма, будто спохватившись, мелко, сбоку листка передавал привет маме, спрашивал про ее здоровье.
Писала ответы Феле под диктовку матери самая шустрая в семье грамотейка Аниска: «Здравствуй, братец наш Феля! Кланяется тебе мама твоя Степа, Фекла Архиповна, сестры Аниска, Валентина, братья твои Иван Иванович да Архип Иванович, а от Митрея Ивановича привету уж тебе не будет во веки вечные – сложил свою головушку на войне наш старшенькой, и не просыхают мои слезоньки об ем…»
Феля и сам всплакнул, узнав о смерти старшего сына Блажных, – много он добра всем сделал, этот русский парень, в детстве еще превращенный в лесоруба-мужика, в помощника отцу. Хозяйственный, в работе хваткий, с обожанием относившийся ко грамотным людям, он с открытым ртом внимал Степе, умевшей наизусть кричать стихи, восхищался игре ее на баяне так, что и по дому ходил босиком, когда она репетировала, храпеть на печи воздерживался, а ведь с морозу, с работы человек, самый бы раз храпануть во всю ширь.
Баню еще шибко любил Митрий Иванович, которую сам вместе с отцом и срубил. Запаривался до беспамятства. Строго следил и он, и отец Иван, чтоб ни едой, ни обновой Фелю не обделили, хотя мать и забывала давать на него деньги, бросит иногда на кухонный стол скомканные рублишки, так Фекла ей тут же оправдание:
– Питатца в столовке да по участкам мотатца. Везде плати, везде отдай копейку. А зарплатишка кака? На один табак.
Зла не помнящие, забитые российские люди – деликатности-то где же они выучились? Материно имя всегда в письме наперед ставят. Почитай, человек, родителей своих, каких Бог дал, таких и почитай.
Однажды по ротам было объявлено: кто умеет рисовать и писать плакаты, пусть явится в клуб. Пришло народу дополна – всем в тепле поошиваться охота. Но званых, как известно, много, да избранных мало. Капитан Дубельт из массы талантов выделил лишь Феликса Боярчика – этот соответствовал!
Феликс старательно писал афиши кино и постановок, рисовал стенгазету, плакаты, карикатуры на отдельных листах, смешно изображая гитлеровцев, заимствуя кое-что из газет и журнала «Крокодил».
Поначалу Боярчик приходил ночевать в казарму, на завтрак и на обед топал с ротой, но ужинал отдельно вместе со все множащейся и множащейся челядью полковой обслуги. Потом и завтрак и обед Боярчик стал получать порознь с ротой, после и жить в клуб перешел – там было теплее.
В клубе особой работы не велось, не до нее было, но фильмы для офицеров и их семей демонстрировались, жены офицеров и штабники собирались вечерами в хор, репетировали, и давно уже, под руководством капитана Дубельта «Женитьбу» Гоголя; разучивали кантату «От края до края по горным вершинам…»; танцевальный кружок готовил к Новому году обширное представление под названием «Победители торжествуют!».
Пообжившись в клубе, Феля начал делать вылазки в расположение полка и в овощехранилище. За газету на раскур, за бумажку на письмо, за огрызок карандаша ему давали маленько картошки. Нарезав картошку пластинками, Феля пек ее на железной печке, стоявшей за сценой. Была в клубе еще одна печь – огромная, что баржа, осадившая помещение на корму. Чтоб ту печь натопить, требовалось не меньше двух, в морозы и до трех кубометров дров, поэтому Феля весь сосредоточился возле железной печки за кулисами.
Сюда на запах печеной картошки в тепло явилась однажды девушка. Первое, что поразило Фелю, – салатного цвета глаза. На лице девушки они не умещались, выплеснулись аж на виски, уперлись в берега приспущенных на уши волос, и волосы, и брови, и ресницы – все, все было золотисто, и, может, поэтому иль еще по чему другому лицо девушки представало как бы в легком сиянии, вот только бледно было лицо и, как на старых картинках или как у солдат в казармах, в налете каком-то давнем, с сероватой бледностью, губы девушки, сморенные иль испеченные жаром, сморщились, вроде от обветренности шелушились – так вот мгновенно и разом увидел Феля всю девушку: художник же, хоть и леспромхозовский.
– Здравствуйте, – сказала девушка и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Феле. – Вы новый художник? А я билетная кассирша и контролер. Эвакуированная с Украины, меня зовут Софья, чаще – Софочка.
Феля ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял истуканом возле печки и покрывался влагой, по всему телу пот у него выступил, язык отнялся, все члены обмерли. Молчание затягивалось. Наступала неловкость. Софочка двумя пальчиками взяла с печки пластик картошки, зажаристый, хрусткий, с лопнувшими от жара пузырьками посерединке, откусила, пожевала.
– Ой как вкусно! Можно я еще возьму?
– Пожалуйста! – Кинувшись к печке, Феля подавал Софочке в протянутые ручки пластик за пластиком, она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивая:
– Ую-ю-юй! Горячие! Да горячо же! Ой! Ой! Ой! Сами-то, сами кушайте!..
Кто не верит в любовь с первого взгляда, тот Фелю с Софочкой не встречал, ничего о них не слышал и вообще в любви нисколько не разбирается.
Уже назавтра с самого утра Феля измаялся весь, и сердце у него изнылось – придет Софочка иль не придет? А если придет, то скоро ли? Оказалось, она квартирует в Бердске, простудилась и болела, потому и не знал Феля ничего о ее существовании. Капитан Дубельт послал в Бердск записочку, спрашивая, заменять ему кассиршу или ждать. Совмещать работу кассира-контролера и начальника культотдела полка ему невозможно, несолидно, он уже получил замечание из политотдела. Вот и вышла Софья, недолечившись, на работу. И правильно сделала.
Теперь из Бердска она летела на крыльях, ворвавшись в клуб, кричала: «Феликс! Вы здесь?» Он соловьем откликался, вылетал навстречу, брал ее озябшие руки в свои, долго-долго отогревал их под шинелью у сердца, иногда дышал на эти маленькие, исхудалые руки и готов был еще что-нибудь хорошее сделать для Софочки, да не знал что. Неожиданно было все: встреча, отношения, восторг, желание скорее, скорее быть ближе, успеть узнать друг друга до конца, до донышка, ведь надвигалась разлука, хотя они и забыли о том, где и почему находятся. Но военная жизнь, жизнь казарм, суровая зима, голодуха настойчиво и каждодневно напоминали о себе.
Однажды после затянувшегося концерта Софья побоялась одна идти через лес – говорили, за Обью ночами воют волки, будто бы они утащили и съели уже собаку из какой-то деревни иль из самого Бердска, будто бы и детей, из школы идущих, попугали, будто бы на помойках стрелкового полка их уже видели.
– Но где же мы будем спать? – пролепетал Феля Боярчик, глядя на жалкое гнездышко, свитое из бутафорской рухляди на досках, положенных на поленья, не иначе как тем художником, которого сменил Феля в клубе полка и который давно уже воевал или рисовал что-нибудь на фронте.
– А здесь, – решительно указала Софочка на Фелино гнездышко и, подумав, добавила: – По очереди.
По очереди не вышло. Феля топил печку, Софья спала, укрывшись его шинелью да своей телогрейкой, плотно завязав голову и уши деревенской серенькой шалюшкой. Лицо девушки, обрамленное этой бедной шалюшкой и выбившимися из-под нее желтенькими волосами, было еще прекрасней, еще милей, еще беззащитней, чем если бы она была в дорогом наряде. Феля мог сколько угодно смотреть на лицо Софьи и не уставал от этого занятия. Хорошо и странно было ему оттого, что так она близко, что он услуживает ей, согревает ее, однако к утру он сморился, присел возле дверцы печки, которую все время подшуровывал, да и заснул.
– Милый Феля! Зачем ты не разбудил меня? Зачем не соблюдаешь очереди?..
Она подошла сзади, обняла его, прижалась лицом к стриженой, но упрямо из последних сил пыльновьющейся голове. Он щекой защемил ее руку на плече. Долго они были неподвижны, ничего не говорили, еще не зная, не ведая, что это были самые великие, самые светлые минуты в их жизни, те самые минуты, которыми Господь изредка одаривает добрых людей, не подбирая для этого подходящего места и времени.
И случилось то, что должно было случиться. Неумело, беспамятно, обморочно они сблизились, стали мужем и женой, нигде не расписанные, никому о тайне своей не поведавшие. Они принадлежали друг другу, и никто, даже всесветная война, не могла им помешать быть счастливыми.
Софья забеременела. Боярчик написал письмо любимой тетушке Фекле: так, мол, и так, любовь настигла, соединились два горячих сердца, что теперь делать? Скоро на позиции.
Неграмотная, мудрая от жизни баба все сразу поняла насчет горячих сердец, продиктовала Аниске, дескать, по себе знает, от любви, как от кори, спасения нет, болесть эта сжигающая, прилипнет, так уж прилипнет, однако не испепелит, проходчива болесть. Тетка Фекла велела Софье собирать манатки да и ехать в Новолялинский леспромхоз, благо ехать не так уж и далеко. Тут ее примут и доглядят как родную, потому как Феля им заместо сына. В конце письма Фекла сообщила: «Что касаемо Степы, матери твоей, Фелечка, дак не опасайся и об ней не тужи – она совсем забегалась, родному дитю написать некогда, хоть и намекивали ей, письма твои на тумбочку подкладывали – не прочитат даже, разе что ночью. Сказывали, закончила она санитарные курсы, собиратца на войну, дак и ехала бы с Богом – баба работой физицкой не уезжена, глядишь, какого бедолагу ранетого на горбе с поля боя выташшыт. Да ведь и там при клубе каком-нито устроицца, будет стишки со сцены декламирывать, на бой товаришшев призывать. Вот ты теперь сделаешься родителем-мушшыной, дак матери-то не подражай, дитя свово не забывай. И береги себя. Ты теперь не один»…
Скис, потерялся Боярчик после отъезда Софьи, писал плакаты, стенгазету и объявления с пропусками, ошибками, бродил по расположению полка, но чаще всего по лесной дороге на Бердск, кого-то там отыскивая, писал каждый день письма, рисовал на конверте голубка с письмом в клюве, с потугой на юмор изображал пронзенное копьем сердце. Софья от того юмора заливалась слезами и тоже каждый день писала Феле, что распалил пожар ее чувств, но южную сжигающую страсть в ней не утолил и наполовину, даже и на четвертинку – разлука невыносима, но что поделаешь: война. Тем жарче, тем желанней будет неизбежная встреча, о которой мечтает она дни и ночи и никогда не устанет мечтать и ждать. Феля по письму такому понимал, что живется Софье в семействе Блажных неплохо и кормят ее досыта.
Степа таки умотала на фронт. Софья жила в комнате мужа – работала на месте свекрови в Доме культуры Новолялинского леспромхоза. В смысле быта и жизнеустройства Феликс был за нее совершенно спокоен, семейство Блажных скорее само все перемрет, в землю костьми ляжет, но Фелиной жене погибнуть не даст.
И все же Боярчик бродил и бродил по земле, искал чего-то. И нашел!
– Привет художнику-безбожнику! – услышал Боярчик и, остановившись, вглядывался в приземистого, натужно улыбающегося красноармейца в довольно чистой, хорошо прилаженной к корпусу шинели. Весь он, этот человек, был белобрыс, стриженые волосы лишь при очень пристальном взгляде различались на висках – заедино с кожей, – такие же белесо-смазанные брови и ресницы, шрамы, множество мелких шрамов на лице, на лбу смотрятся выявленно, четко, на правую бровь фасонисто сдвинута шапка.
– Пр-риве-эт! – неуверенно отозвался Феликс и спросил: – Вы кто?
– Ххха-ха-ха! Забыл, н-на мать, карантин, перву роту!..
– А-а, вы Зеленцов! Вас вроде в минометную роту перевели.
– Мать бы ее растуды, эту минометку, – там ни дохнуть, ни охнуть. Дис-цип-лина! Но настоящий человек нигде не пропадет! Слушай, ты, говорят, в клубе пристроился, шмара у тебя шиковая завелась. Молодец! Слушай, нельзя ли у тебя там погреться? Сообразить насчет картошки дров поджарить?..
Феликс еще ничего ответить не успел, как Зеленцов уволок его в клуб, осмотрелся там и сказал:
– Рас-с-скошная хаза! Слушай, Боярчик, возьми меня истопником, а? Возьми!
И, опять же не давши Феле не только ответить, но даже подумать, уже орудовал Зеленцов возле печки-баржи. Добыв из-за пазухи веревочку-удавочку, Зеленцов притащил вязанку дров, с грохотом обрушив поленья на пол, ходко принес еще вязанку и так раскочегарил печку, так согрел помещение клуба, что изо рта людей больше пар не клубился. Такого здесь не наблюдалось со дня сотворения культурной точки, она ставлена так и в таком месте, что в ней даже летом бревна были мокры и плавал по помещению едкий пар.
Феликс обрадовался трудовому порыву неожиданного работника, решил поговорить с капитаном Дубельтом по поводу использования Зеленцова в качестве постоянного истопника, потому как присылаемые из рот наряды ничего тут не пилили, не топили, рыскали по закромам строевого полка, добывая себе дополнительное пропитание, норовя в клубе чего-то сварить и сожрать.
Но что-то или кто-то задерживали вечно занятого, перегруженного хлопотами, замороченного творческими замыслами и отчетами начальника культуры, да и трудовой энтузиазм Зеленцова пошел на спад – за печкой и по углам клуба, сидя на корточках, шуршали по-мышиному, почти неслышно возились скользкие текучие тени, громко хлопали чем-то об ящик из-под посылки, свирепо выражаясь при этом.
Картежники! В заведении, руководимом капитаном Дубельтом, в заведении, где Боярчик дни и ночи писал лозунги и всякие другие бумаги с призывами честно трудиться на благо Родины, не щадя жизни сражаться с ненавистным врагом, темные людишки занимались азартными играми!
Они не просто играли в карты, они обосновались в клубе капитально, понанесли котомки, варили чего-то на печи и в печи, в клубе пахло вареной картошкой, даже мясным пахло и – о Боже! – самогонкой воняло! Феликс робко сказал Зеленцову, что не надо бы в культурном заведении заниматься темными делами.
– Чё те, жалко, чё ли, этой камары? – ему ответ. – Ешь вон картоху с концервой и помалкивай. Слушай, может, те денег надо? Ну, выпить когда, бабе послать. Она с брюхом, усиленное питание требуется, то да сё…
Феликс кое-как отбился от Зеленцова и от денег его, старался подальше быть за кулисами, в своей каморке, которую соорудил по приказу Дубельта. Узнавши про вспыхнувшую любовь между художником и кассиром клуба, капитан помог создать влюбленной паре условия – в каморочке-то не видно и почти ничего не слышно, а то ведь завистливые офицерские жены, искусства поклонницы, быстро донесут куда надо чего надо и не надо, назвав при этом святое чувство предосудительной связью.
Зеленцову только того и надо было, чтоб всякий надзор исчезнул, чтоб свобода. Какие-то шустрые люди, скорее всего проигравшиеся, батрачили на него, пилили, таскали дрова, другие овощь перли, мясо, сало, чай, сахар, пачки денег мелькали в руках картежников; за печкой и под печкой катались пустые бутылки; уже и драка не раз вспыхивала, уже слышалось:
– Бубны-чер-р-вы, бабы-стер-рвы, сахар за щеку, перо в бок! Блефуй, но не мухлюй, а то я тя на эту печку голой жопой посажу!
Феликс уже не знал, с какой стороны к печке и к Зеленцову подступиться. Увидел однажды за сценой Зеленцова, мокрого от пота, вином налитого, прячущего деньги за пояс штанов, под гимнастерку, ножик, завернутый в грязную тряпку увидел, хороший, острый ножик с костяной ручкой, и взмолился:
– Слушай, Зеленцов, уходи ты отсюда, уходи!.. Мне попадет из-за тебя.
Зеленцов смотрел на него мутно, непонятно было: просыпается или засыпает – глаза его приоткрывались и тут же истомленно закрывались, сырая губа неприбранно отвисла, непробритый подбородок тоже оттягивал губу, губа долила голову все ниже и ниже.
– А-а? Феликс? Все! Все-все! Порядок. Еще пару хопков – и атанда, понял? Атанда!
Ничего Феликс не понял. Спрятал Зеленцова подальше с глаз в своей каморке. Тот проснулся и куда-то исчез. Боярчик подумал: осознал человек свое недостойное поведение, совесть в нем пробудилась, и он оставил его клуб в покое. Но тот появился снова, раскочегарил печку, каши с салом наварил, бутылкой побрякал и крикнул:
– Эй, Феликс! Покажись, красно солнышко! Я у тя тут еще ночь поошиваюсь, забью козла, копмешок схвачу и-и-и-ы-ы…
Зеленцов спал за печкой, высунув ноги, тут его и обнаружил капитан Дубельт, вытребовал наружу, спросил, кто таков, почему здесь валяется. Зеленцов, не узнавая со сна капитана, в свою очередь спросил:
– А кто ты такой? И хули тебе надо?
– Молчать! – топнул ногой капитан Дубельт. – Ты с кем разговариваешь, мерзавец?!
– Не ори! – Зеленцов ему в ответ. – А то геморрой оторвется!
Капитан Дубельт совсем рассвирепел, попытался схватить Зеленцова за шкирку и вывести с позором из клуба, но боец ему не давался. Поднялась возня возле печки, схватка случилась, в результате которой Зеленцов поддел на кумпол капитана Дубельта, разбил ему очки и нос, да хорошо еще, что не прирезал капитана, не успел – по вызову Феликса Боярчика подоспел полковой патруль, буяна скрутили и увезли.
И вот тебе суд! Показательный! И вот тебе: вместо того чтобы порицать преступника, пригвоздить его к позорному столбу, дело повернулось неожиданной стороной – в ротах сочувствовали Зеленцову, хвалили его за храбрость, за непокорность, говорили, что он резал какого-то офицера-хлыща, да, жалко, недорезал. Потом подтвердилось: одного Зеленцов таки запорол, вроде бы Пшенного, за другим гнался до самого штаба полка, в помещение ворвался, но тот успел спрятаться под стол.
В воскресенье по случаю важного мероприятия первый батальон и минометная рота были освобождены от занятий. После обеда роты с песнями протопали в клуб, где должен был состояться показательный суд над Зеленцовым.
Прослужив два с лишним месяца в полку, многие красноармейцы, кроме карантинных землянок, казармы-подвала, столовой и бани, никаких более заведений не видели, в других помещениях не бывали. Клуб украшен лозунгами со лба, выписками из военного устава по дверям и по стенкам, старыми красочными кинорекламами, плакатами типа «Родина-мать зовет!», карикатурами на немцев и строго написанным барельефом вождей мирового пролетариата. Еще в детстве Боярчик с почетной грамоты научился срисовывать упряжку из вождей Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. Клуб с вождями над крыльцом, с плакатами ребятам казался совершенно райским местом, к тому ж хорошо натопленным. О тепле как в прямом, так и в переносном смысле служивые двадцать первого полка начали уже забывать. Скамеек всем воякам не хватало, не дожидаясь команды, по деревенской привычке, доставшейся с детства, народ удобно расположился на полу. Подшучивая и подталкивая друг друга, бойцы спрашивали, какое после суда будет кино или постановка.
Одна короткая скамейка была чуть вынесена вперед. Над сценой был тот же барельеф, та же упряжка с вождями мирового пролетариата, на сцене высился длинный стол, накрытый недочиста отстиранным от белых букв красным лозунгом. По-за столом стоял один стул с ребристой, что у стиральной доски, спинкой, в середке которой был вырезан герб, наверху по дуге крупные буквы: СССР. Стул привезен вместе с судьями-трибунальщиками из Новосибирска, уважительно сообщил Феликс Боярчик. Ему тут же возразили знатоки еще более тонкие: в трибунале судей не бывает, в трибунале – председатель трибунала, обвинитель и пара заседателей от воинской части – тут тебе не до церемоний, тут строго.
И правда, появились сперва двое солидных мужчин с нашивками на рукавах и с малиновыми петлицами. У того, который вошел первым и угнездился на стуле, в петлицах было по четыре шпалы, у второго всего лишь две. Но оба, несмотря на разницу в званиях, были тучны, через широкие, туго затянутые ремни переваливались животы, в груди, по-бабьи пышные, врезались наплечные ремни с пряжками. Взгляды, которыми обвели эти двое зал клуба, не просто были строги, они были устрашающи, в них так и сквозило: погодите, мы и до вас доберемся!..
Ой не зря говорилось в прежние времена: «От вора беда, от суда скуда!»
Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты, узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела.
Сидящие в клубе ждали явления квадратного в плечах громилы с головой, стриженной под ежик, прямо на плечах сидящей. У этого громилы всегда загорелая иль непромытая кожа лица, спина, минуя ворот гимнастерки, переходит прямо в затылок, дровяным колуном взнимающимся к тупому острию, острие это, минуя то место, где быть лбу, сваливается прямо в переносье, переносье же, не успев организоваться в нос, завершается двумя широкими дырами, из которых щетиною торчит волос, срастаясь с малоприметными усами, нависающими над щелью безгубого рта, коий не имеет ни начала, ни конца, расползается от уха до уха. Такой безразмерный рот, способный заглотить жертву шире себя, бывает только у змей. Самое выдающееся на этом лице, самое приметное – подбородок с ямой посередине, напоминающий обвислую бабью жопу.
Но природа же не терпит однообразия и делает иногда снисходительные поблажки тому или иному обществу, льстя роду человеческому, и в правосудие вводит нечто особенное. Совсем противоположное тому типичному, устрашающему облику скоточеловека на сцену клуба двадцать первого стрелкового полка после крика секретаря трибунала: «Встать! Суд идет!» – мелконько перебирая ножками в хромовых сапогах, в гимнастерке, почти достающей подолом до сапог этих, украшенное медалью и красивыми, начищенно-блестящими знаками, ступило улыбчивое, румяненькое, как бы даже и кланяющееся народу существо, у него и военное-то звание отступало в сторону, замечалось не вдруг. Мимолетным прикосновением расчески существо это в звании полковника, имеющее совсем мирное, свойское прозвание – Анисим Анисимович, тронуло седую прядку, спадающую на лоб, которая, впрочем, расческе не подчиняясь, снова упала сверху вниз. Председатель трибунала, сощурясь, стал вглядываться в зал, вид и голосок у него были ласковые, как бы отечески говорящие: эх, ребята, ребята, чем занимаемся? страна кровью обливается, а мы… Только при внимательном пригляде замечалось, что не так уж прост этот дядя. Глубоко отпечатавшаяся скоба спускалась от раскрыльев носа до самого подбородка, в которой залегло уже утомление, имеющее презрительное превосходство над всем остальным людом. Дано будет той скобе на старости лет перевоплотиться в брезгливо-плаксивую гримасу. Простодушный этот, вкрадчивый человек во время суда играть будет в братишку, в этакого уже много горя повидавшего, из-за горя того поседевшего, настрадавшегося от неразумности людской дедушку не дедушку – рановато в дедушки, но уже и не папа и тем более не дядя он, когда расположит к себе людей, окутает обаянием, рассолодит и до слез доведет подсудимого, нанесет короткий разящий удар, и даже не удар, этакий почти незаметный небрежный тычок, от которого валятся с ног самые оголтелые враги и трясут потом головой, соображая, кто его вдарил, может, он сам упал и об пол ушибся.
Но Зеленцов не таких деятелей повидал и улыбочки, шуточки Анисима Анисимовича не принял, не отреагировал на них. Анисим Анисимович усек – работа предстоит нелегкая, не та, на которую он рассчитывал, отправляясь в какой-то занюханный полк перевоспитывать пакостника солдатишку.
Он согнал со своего лица улыбку и, пока секретарша записывала и говорила вечные эти унылые судебные формальности, переходя взглядом с лица на лицо, как бы пролистывая бледные, стертые, трудноразличимые страницы и, несмотря на похожесть, серость армейской массы, этого вроде однородного человеческого материала, находил лица, отмеченные юношеской красотой, умом, дерзостью, нахальством, покорностью, безразличием, озорством. Однако на всех этих лицах, как и всегда, как и везде, где он работал, прочитывались уже привычная настороженность, неприязнь, даже и ненависть. Анисим Анисимович понимал: не к нему лично ненависть, к тому делу, которое он исполнял, была, есть и всегда пребудет она, ибо еще Он – Он! – завещал: «Не судите да несудимы будете!» Но что нынче Он? Да ничто! Отменили Его в России, выгнали, оплевали, и суд здесь не Божий идет, а правый, советский, по которому выходит, что все людишки, наполняющие эту страну, всегда во всем виноваты и подсудны.
Анисим Анисимович свел лопатки под гимнастеркой, поежился и распрямился, выпятил грудь, готовый исполнять свой долг, не Богом, но властью ему предназначенный.
Клуб оробел, утих. Всякий служивый старался спрятаться за спину сидящего товарища, всякий смиренно опускал, прятал глаза от Анисима Анисимовича, покаянно вспоминая, что он успел натворить в армии, сколько, чего и где стибрил. И выходило, что каждого здесь сидящего можно сей момент брать и судить по всей строгости военного времени. Не зря, ох не зря гневаются эти дяди в комсоставской форме – видят они, видят каждого шаромыжника насквозь, дело только в занятости их большой, но наступит срок – разоблачат они, разоблачат всех преступников, подвергнут, осудят, чтоб даже и другим поколениям неповадно было от занятий отлынивать, картошку с морковкой воровать. Председатель трибунала сделал повелительный знак рукой – и в клуб ввели Зеленцова, распоясанного, недавно еще раз под ноль стриженного, да под такой ноль, что белобрысая голова подсудимого сделалась будто вот только что в лоханке до блеска вымытой. Обмоток на Зеленцове не было, в носках он был, добротных, вязанных из козьей шерсти. Молодой боец из минометной роты удрученно вздохнул – из дому в посылке прислала те носки мать, Зеленцов, чтоб ему ни дна ни покрышки, выиграл в карты. Красуется!
С руками за спиной ступил Зеленцов в зал клуба, прошелся до середины зала, остановился, приподняв голову, приветливо улыбнулся всем, стиснув по три морщинки в уголках рта:
– Здорово, ребята!
– Здра-а-асс… – разбродно и неуверенно откликнулся зал, и кто успел прикемарить, начал просыпаться, шевелиться.
– Ну как? – кивнул Зеленцов в сторону трибунала, все не переставая улыбаться, только уже криво, в одном углу рта у него образовалось уже четыре складки, в другом осталось две. – Ну, как жизнь, ребята? Не всех еще уморили?
– Ч-что такое? Прекратить р-разговоры! Подсудимый, сесть на место! – вскочила со стула строгая секретарша, и один из конвойных толкнул подсудимого к скамейке.
– Э-э, комсомолец! – зароптал подсудимый. – Обижаешь!..
– Я кому сказала! Товарищи, прекратите смех. Подсудимый, сесть на место! – снова взвилась секретарша.
Анисим Анисимович все так же безмолвно и неподвижно восседал на председательском стуле.
– Лан, лан, не пыли, тетя!.. Без тебя закон знаю, – обернулся к конвоиру Зеленцов.
Зал начал оживляться, предчувствуя веселое представление, служивые совсем проснулись, суд им начинал нравиться. Они надеялись в дальнейшем получить от суда и судей еще большее удовольствие. И не ошиблись. Зеленцов вел себя мятежно. В награду за мужество ему передали из зала зажженную цигарку. Пока председатель трибунала за столом нудил чего-то, пока конвоир догадался вырвать изо рта подсудимого цигарку, он и накурился.
Самое веселое и забавное началось, когда в качестве пострадавшего стал давать показания капитан Дубельт.
– Я тебя? Ударил? Докажи, чем? – гневался Зеленцов.
Бойцы, знающие всю историю наизусть, даже с прибавлениями, замерев, ждали, как капитан с чудной фамилией – уж не немецкой ли? – будет ответствовать о том, как блатняга Зеленцов посадил его на кумпол.
– Мне кажется, он, этот негодяй, ударил меня своей головой.
– Кажется, дак крестись! – посоветовал Дубельту Зеленцов. – Стану я свою умную голову об такую поганую рожу портить!
По залу шевеление, хохоток. Зеленцов обернулся, подмигнул свойски ребятам: то ли еще будет, друзья мои, ждите и обрящете.
– Я прикажу вывести публику из зала! – стукнул по столу вдруг вспыливший председатель трибунала.
– И кого ж ты, дядя, судить будешь? Себя, чё ли? – поинтересовался Зеленцов. – Суд-то показательный. Вот и показывай, если есть чё.
Феликс Боярчик, призванный в суд в качестве свидетеля, сидел за кулисами, вроде как изолированно от суда, он караулил шинели и тапки приезжего начальства, но все слышал и видел. Оробев вначале от присутствия важных чинов и начавшегося суда, он вовсе пришел в ужас, когда подсудимый начал дерзить, нагличать, но вот словно пронесло над ним волну или будоражащую тучу, и сам он непокорно, дерзко, правда, про себя и молча, поддержал бунтаря: «Правильно, Зеленцов, молодец, это они понаехали, чтобы окончательно подавить ребят, здешние держиморды уже не справляются со своей задачей, так им в помощь этого вот румяненького… А-а, привык судить забитых, безропотных. Не на того попал!..»
– Правильно, Зеленцов! Правильно! Люди умирают! Довели! – послышалось в зале как бы в продолжение того, что смел Боярчик произнести про себя. Феликс высунулся из-за кулис и увидел, что ребята, наклонившись, чтоб незаметно было, кто из них кричит, ведут полемику с судом.
– Эт-то еще что такое? Эт-то что за базар? – вскинулся полковник. – А ну, товарищи командиры, наведите порядок в зале!..
Зал немного еще погудел и под грозные крики засуетившихся чинов угнетенно, но непокорно утих. Чувствуя, что публика в зале вся сплошь на стороне подсудимого, настроена взрывчато, сжав пальцами виски, какое-то время Анисим Анисимович сидел и думал: что делать? выдворить служивых из клуба? прекратить суд, перенести в другое место? Да суд-то не простой, показательный, имеющий воспитательное действие. Но он столько уже пересудил и пересадил всякого народу, столько его на тот свет отправил, эта казарменная вшивота каши столько не съела, и чтобы перед каким-то уркой, с которым он по самонадеянности своей не познакомился лично до суда, чтобы перед ним и этой серой шпаной, молокососами этими, он, старый, закаленный большевик, спасовал, уронил достоинство родного суда?
– Товарищи командиры! Я прошу вас встать в проходы и крикунов выдергивать. Место их рядом с преступником, на позорной скамье.
Публика разом присмирела, однако Зеленцов не сдавался, вступал в пререкания и твердо доказал, что не садил на кумпол капитана Дубельта, что советский офицер, пусть он и из клуба, не имеет права так себя вести, он вел себя грубо, нетактично.
– А очки? Он же разбил мои очки!
– Я-а? Разбил? Ха-ха! Ты ж сам на них наступил сослепу.
– Может быть, может быть, – жалко лепетал капитан Дубельт, желая, чтобы его поскорее отпустили, не мучили вопросами, поскольку он никогда ни с кем не то чтобы судиться, даже не ссорился. – Я действительно допустил… по отношению…
Зал снова начал оживляться.
«Эх, капитан, капитан, – покачал головой Анисим Анисимович, – добрый ты человек, а обедню портишь. Среди такой сволочи тебе, культурному человеку, существовать…» Анисим Анисимович попросил капитана Дубельта сесть, сам же, встав из-за стола, слезши со своего стула, массивной спиной его подавляющего, и он хорошо это знал, терпеливо ждал полной тишины, дождавшись ее, храня скорбное выражение на лице, заговорил:
– Так-так! Бушуем, значит? Беззаконие творим? – Еще более поскорбев лицом, Анисим Анисимович многозначительно помолчал. – Отчего враг топчет нашу священную землю? – Он снова прервался, и уже надольше, выражение лица его из скорбного перешло в гневное. – Отчего немец этот, фашист проклятый, дошел до Волги? Почему он занял значительную часть нашей территории, сжег села и города, попирает наше достоинство, пьет кровь из наших жен, дочерей, матерей, гонит на виселицы братьев наших и отцов? Да потому, товарищи дорогие, что не прониклись мы высокой сознательностью, не поняли до конца всей опасности, нависшей над нашей страной, над нашим народом. Вот почему в такой момент, в такое ответственное время особо нетерпимы должны мы быть ко всякого рода нарушениям нашей морали, жизни нашей, порядка, особые же претензии, я повторяю – пре-тен-зии, должны быть к самому себе, прежде всего к самому себе: так ли я себя веду в столь сложное, смертельное для страны время? думаю ли я денно и нощно о защите Родины и своего народа? все ли я отдал? помыслы, силы свои все ли положил на алтарь отечества?
В клубе двадцать первого стрелкового полка наступила гробовая тишина, растерянность, может, даже раскаяние посетило слушателей. Анисим Анисимович потряс чубчиком.
– С-се-ерьезней, товарищи, серьезней надо жить, готовить себя к защите от врагов не только внешних, но и внутренних, серьезней надо относиться к обязанностям своим, а обязанность у нас одна: служить Родине, победить врага… Так-то, мои дорогие… Ну, этот… – мотнул он головой в сторону подсудимого. – Этот… – Анисим Анисимович небрежно махнул рукой и задом упятился к стулу, утомленно водрузился на него.
Речь председателя трибунала возымела именно то действие, на которое он и рассчитывал, – публика была усовещена, подавлена, особенный упор на «алтарь» и на «мы» произвел впечатление, выходило – и он, большой человек, и все маленькие люди, сидящие в зале, объединились одной виной, одной ответственностью перед великой бедой и Родиной, они, выходит, единомышленники, братья, а этот…
Этот так ничего и не осознал, никакого братства между собой и председателем трибунала не почувствовал, его не раз еще унимали, предупреждали, усовещивали. Анисим Анисимович уже давно понял, что никакого воспитательного значения суд, как задумывалось умными головами в штабе Сибирского военного округа, иметь не будет, даже наоборот, все разгильдяи в полку приободрятся, разложение будет еще большее, но это уже не его, председателя трибунала, дело. Его забота поскорее и с честью, хоть и поруганной, вынести справедливый приговор, наказать по заслугам более чем дерзкого блатняка, ранее судимого и уже отсидевшего срок, в документах указано – в чем Анисим Анисимович позволил себе усомниться, наметанным глазом отмечая, – нет, не один раз и даже не два бывал за решеткой сей архаровец, возможно, и фамилия Зеленцов не его фамилия, года указаны неправильно, все у него неправильно, надо было следственное дело на доследование вернуть, покопаться в биографии молодого человека, да дел-то, дел невпроворот, хоть по двадцать часов в сутки работай. Молоднячок-то не очень покладистый оказался и так ли развернулся, так ли себя показал! На фронте тоже борьба не ослабевает, садят, садят, садят, стреляют, стреляют, стреляют, но кто же воевать-то будет? Так ведь можно и без кадров остаться. На фронт побыстрее, на фронт, в дело, в мясорубку – там из этого человеческого фарша пельмень, котлета, из кого и боец получится. Здесь же…
– Именем Советской Социалистической Федеративной Республики…
Стоят – все одинаково серые, с плоскими головами, как бы посыпанные цинковой пылью, смотрят исподлобья, старые, обсопливленные шлемы с тряпичными звездами в руках затиснуты – какая тупая монолитная сила! Какое молчаливое, но остервенелое неприятие всего, что с ними и вокруг них происходит! Это же сколько с ней, с контрой, боролись, расправлялись, увещевали, гоняли, гноили, а она все еще есть, стоит вон, смотрит, дышит – согнуть, заломать, лишить всякой воли, всякой надежды на сопротивление любыми способами, всеми доступными средствами.
– Именем Советской Социалистической…
Блатарь удалой презрительно лыбится. Складки у рта, ранние морщины на лице, в них осела мгла, может, и пыль от дальних дорог и этапов прикипела, не отмывается, – бунтарь-одиночка, разгильдяй, враг! С врагами же в Стране Советов еще не разучились управляться, с врагами один у нас разговор:
– К высшей мере…
– А-ах! – волна по залу. Ударилось стоном, эхом в стену, в дверь, в потолок и снова обрушилось на стриженые головы служивых, стиснуло сердце, сделавшееся единым в сочувствии к своему собрату.
«А вы что же думали?! – торжествовал в себе Анисим Анисимович, уже не пытливым, не упрекающим, а открытой ненавистью отяжеленным взглядом окидывая зал. – Ваша взяла? За вами сила и правда? Да пока я жив…»
«Эх, Зеленцов, Зеленцов! Кореш, товарищ, друг, что ж ты на рожон-то лезешь? Разве ты не знаешь, не ведаешь, где живешь? Разве плетью обух перешибешь? Разве тебе неведома доля-участь наших дедов, отцов? Изведут они, изведут эти хозяева жизни кого хочешь, да все по правилам своим, по советским законам, и пуль не пожалеют. Патронов только на врага-фашиста не хватает, на извод же своих соотечественников у Страны Советов всегда патронов доставало, не хватит – у детей последнюю крошку отымут, на хлеб выменяют пули и патроны» – такие вот мысли тревожили, стучались под стрижеными коробками и оседали вглубь, на сердце, на русское давно надсаженное, перенатруженное сердце.
Полковник держал паузу, перебирал бумаги на столе, видно было, как, себя перебарывая, подавляя заматерелую ненависть ко всем и всему против своей воли, наконец он поднес к глазам бумажку.
– Но, проникнутые идеями гуманизма, наша партия, наше правительство, наш самый справедливый в мире суд дают преступнику возможность искупить вину кровью и заменяют расстрел штрафной ротой… десять лет…
Какие-то благородные формальные судебные слова еще читал полковник, но зал уже не слушал его, зал воспрянул, зашевелился, где-то пробно хлопнули, будто на концерте иль на торжественном празднике, тут же шквал шума, рукоплесканий, радостных выкриков сокрушил окаменелую еще минуту назад тишину. «Ура!» – в кулак ухнул Булдаков, но «ура» всеобщего не получилось. Выкрики: «Пор-ря-док, Зеленцов!», «Живы будем – не помрем!..», «В гробу их видели!..» – заглушили все остальное. Зеленцов встал со скамьи и, подняв руку, будто вождь на трибуне, поинтересовался у трибунала:
– Так вы что, десять лет воевать собираетесь?
– Почему вы так решили? Или привыкли к червонцам?
– Или сам воевать пойдешь?
«Будь моя воля, я б тебе!» – говорил весь вид председателя трибунала. Чувствуя, что не надо бы ввязываться в пререкания с этим отпетым человеком, которому теперь совсем терять нечего, однако, не в силах сдержаться, усмирить свой благородный гнев, полковник высокомерно молвил, ткнув перстом в стол:
– Я здесь Родине нужен.
– Р-родине?! Ну-ужен?! – передразнил его Зеленцов. – Как хер кобыле между ног! – И неожиданно сорвался на крик: – Ребятишек судишь! Погоди-и-ы, гнида, погоди-и-ы, еще тебя судить будут…
– Не ты ли?
– И я! И я! Меня не убью-ут, не-эт! Я выживу, выживу! И найду тебя, найду!..
Конвой тащил, пинал, волок из клуба Зеленцова, он, парень цепкий, знавший попок полапистей и построже, вырывался.
– Ты почему здесь? Где фашист, где, где? Их судишь? Их? – тыкал он пальцем в зал и кричал, брызгая пеной, вскипавшей на губах.
– Пра-авильно! Х-ха-ады! – раздался одинокий голос в зале.
На голос рванулись какие-то чины, должно быть, из особого отдела, но тут же упали, запнувшись за ноги. Незаметно, подло их выставляли меж скамьями парни, и что ты с ними со всеми-то сделаешь. Они вон все рожи понаклоняли, спрятались, угляди, кто орет, кто бунтует.
Полковник вместе с судебной обслугой поскорее ретировался за сцену, скрылся за упряжку из четырех вождей. Трясясь от гнева, он на всякий случай грозил и без того полумертвому капитану Дубельту, с которого то и дело сваливались новые, в спешке подобранные очки:
– Н-ну, знаете! Н-ну, знаете! Я этого так не оставлю!
Чтобы поскорее спасти капитана от напастей, Феликс Боярчик, потрясенный судебным действом, бросился подавать шинели военным чинам, и не они ему, а почему-то он им скороговоркой ронял: «Благодарю вас! Благодарю вас!» Анисим Анисимович, приняв шинель и шапку, воззрился на Боярчика, хотел что-то сказать, но тут подскочил адъютант командира полка, козырнул судебному начальству и повел его за собой через запасной выход из клуба. Боярчик подумал, что надо будет все-все описать Софье и как-то приободрить, утешить дорогого своего начальника, капитана Дубельта, разбитого судом.