Волчья река Кейн Рейчел
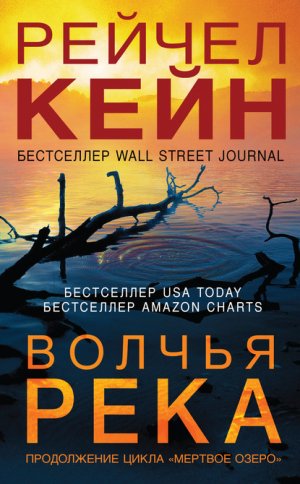
«Дорогая Джина» – так оно начинается, и я чувствую, как у меня пересыхает во рту. Мой отец пытался убить мою маму, и у него почти получилось. Но вместо этого она убила его. И теперь он называет ее по старому имени, по имени, которое она ненавидит.
Как будто ничего не случилось. Вот только случилось всё.
Руки у меня трясутся. Мне холодно. Глядя на его почерк, я почти, почти слышу его голос. Могу представить, как он сидит в камере и пишет это письмо, но уже не могу увидеть его лицо. Это просто размытое пятно, просто общие очертания. В основном я вижу его глаза. У него всегда были такие глаза, способные за секунду из добрых стать жестокими.
Откладываю письмо и вытираю ладони о штаны. Руки кажутся мне мокрыми, и я никак не могу сделать так, чтобы они не дрожали. «А вдруг оно отравлено?» – думаю я, но это глупость, такую чушь только по телевизору показывают: отравленная бумага, которая убивает, когда ее касаешься… Но в каком-то смысле отец отравлял всё, к чему прикасался.
«В последнее время я много думаю о тебе, потому что моя ситуация изменилась», – пишет он. Он имеет в виду – когда удрал из тюрьмы и был в бегах? Я не знаю. Я хочу перестать читать, а ведь я прочла только одну фразу. Я боюсь. Очень боюсь. «Я размышляю о том, как некогда полагал, будто ты можешь спасти меня от себя самого. Не твоя вина, что ты этого не сделала. Этого не мог сделать никто».
Не так уж плохо. Он словно бы почти извиняется. Почти.
Нет, Джина, я виню тебя не за это. Я даже не виню тебя за то, что ты сбежала, забрала наших детей, отказалась от нашей фамилии. Притворилась, будто ты никогда меня не знала. Я понимаю, почему ты это сделала.
Но ты знаешь, чего я не понимаю, неверная сучка?
Я не понимаю, почему ты считаешь себя особенной. Ты не особенная. Ты перестала быть для меня особенной еще до этого случая. Ты была просто удобным реквизитом для этого спектакля. Как и дети.
Мне кажется, что моя кровать проваливается через пол и падает прямо вниз. У меня кружится голова. Меня тошнит. И я не могу перестать читать.
Я думал о том, чтобы убить тебя. Думал об этом каждый раз, когда привозил новую в наш дом. В наше убежище. Я представлял, как приведу тебя туда, когда одна из них будет висеть там на крюке, покажу тебе, увижу, как тебя охватывает ужас, – а потом заставлю тебя занять ее место.
Это развлекало меня в перерывах между гостьями.
Я останавливаюсь. Я просто… останавливаюсь. Листки выпадают у меня из рук и планируют на кровать. «Это твой отец. Вот таким он был. Вот о чем он думал».
Хочу заплакать, но не могу.
Пытаюсь смотреть на обстановку своей комнаты, сосредоточиться на том, что приносило мне радость. Мой пушистый розовый единорог, которого Коннор выиграл для меня в школе в прошлом году Мои постеры. Краска, которую я выбрала для стен своей собственной, постоянной комнаты.
Но все это сейчас кажется кошмаром. Как будто все это нереально – кроме письма, лежащего передо мной на кровати.
Снова беру его. Не хочу этого делать, но мне кажется, будто я должна дочитать его до конца.
Я не понимаю, как ты оправдываешь свое распутство с братом последней, которую я забрал. Я не понимаю, почему он не придушил тебя во сне, а потом не вышиб себе мозги. Может быть, так когда-нибудь и случится. Может быть – если он побольше узнает о том, как умерла его сестра, как сильно она мучилась, как долго умоляла меня покончить с ней. Надо подумать об этом. Может быть, я пришлю ему кое-что особенное.
Сэм. Он говорит о Сэме, боже мой… Я зажимаю себе рот рукой и продолжаю читать, потому что вижу, что конец близко, а я хочу, чтобы это закончилось, господи…
Ты не знаешь, кто он такой, Джина. Ты не знаешь, на что он способен. Я смеюсь при мысли о том, что ты приводишь в свою постель одних только монстров. Ты этого заслуживаешь.
Он говорит, что Сэм – монстр. Это неправда. Этого не может быть.
Когда-нибудь ты получишь то, что тебе уготовано. Может быть, не от меня. Но один из них, один из тех, кому ты доверяешь… это будет красиво.
Передай нашим детям, что я их люблю.
Навеки твой
Мэлвин.
Заканчивая читать, я понимаю, что задыхаюсь; мне приходится вытереть горящие глаза. Это больно, больно, потому что я слышу его в своей голове, и теперь я знаю, что уже не смогу не слышать его. Папа. Мой отец. Монстр.
Вот кем он был. И есть. Навеки.
Я не думала, что у меня еще остались какие-то иллюзии, которые можно разбить. Но сейчас, когда я сижу на кровати, дрожа всем телом, а передо мной разложены страницы письма, я понимаю, что этих иллюзий оставалось еще очень много.
А потом мне в голову приходит мысль: «А вдруг мама солгала? Вдруг он еще жив?»
И это ужасает меня настолько, что я хватаю подушку и прижимаю ее к лицу и кричу в нее, пытаясь прогнать это чувство.
Услышав стук в дверь, громко ахаю. Внезапно у меня возникает ужасное убеждение, что за дверью стоит отец: мертвый, разлагающийся, ухмыляющийся во весь рот. Что он пришел за мной, чтобы забрать меня как свою гостью.
Мама говорит:
– Эй, я думала, что ты принимаешь душ… Ты закончила?
Я не уверена, что вообще могу ответить ей. Слышу, как она слегка дергает ручку двери, сглатываю комок в горле и говорю:
– Я переодеваюсь!
Надеюсь, мой голос не дрожит. Надеюсь, она не услышала, как я кричала в подушку.
– Ладно, – отвечает она. Я знаю, что у нее включился «материнский радар». – Ланни, с тобой всё в порядке?
– Уходи! – кричу я, заставляя себя рассердиться, потому что по-другому сейчас не могу справиться с этим.
Мама не уходит. Я представляю, как она стоит там, встревоженная, прижав ладонь к моей двери. Не понимая, чем вызвано мое настроение.
Потом спрашивает:
– Это из-за Далии?
«О, слава богу…» Я подавляю всхлип, собираю листки и сую их обратно в конверт.
– Да, – лгу я. Мне хочется спросить, жив ли на самом деле мой отец, но если я и спрошу, откуда мне знать, скажет ли она правду?
– Ты не хочешь поговорить об этом?
– Нет! – Я кладу конверт в верхний ящик, под стопку бумаги, и с силой захлопываю его. – Оставь меня в покое!
Она наконец уходит. Я слышу ее удаляющиеся шаги.
Сворачиваюсь в комок, так туго, как только могу, натягиваю одеяло на голову и снова кричу в подушку. И снова, и снова, и снова, пока у меня не начинает болеть голова и ломить все тело, как будто я подхватила грипп. Он довел меня до болезни.
Я говорю себе, что Сэм не стал бы лгать о смерти моего отца, даже если б мама и соврала. Нет, отец мертв. Это точно.
Но, когда закрываю глаза, я по-прежнему представляю, как он стоит возле моей кровати.
И улыбается.
Я знаю, что должна отдать это письмо маме. Должна сознаться ей, что прочитала его. Но я не могу, только не сейчас. Мне приходится прилагать все силы, какие у меня есть, просто для… просто для того, чтобы дышать.
Когда мама приходит сказать мне, что ужин готов, требуется еще больше сил, чтобы притвориться, будто мир остался прежним, нормальным.
Как будто я осталась нормальной.
Но я хорошо умею притворяться… как и мой отец.
5. Гвен
Я так и знала, что слишком близкие любовные отношения Далии и Ланни дадут трещину; слишком жарко горели их сердца, это не могло тянуться долго. Но как скажется такой разрыв на Ланни, в ее-то возрасте? Я боюсь, что это расставание, вдобавок к стрессу, который вот-вот обрушится на нас всех, может вызвать у моей дочери настоящие проблемы. Она сильная, но отнюдь не неуязвимая – как и я.
Если вся эта пакость со съемками документального фильма – не пустые слова, если они действительно здесь, мне нужно очень серьезно обдумать наше будущее в Стилл-хауз-Лейк. Было бы славно, если б наши соседи в едином порыве выступили против них, но я сомневаюсь, что такое случится. Слишком многие с самого начала невзлюбили меня, а еще большему числу не понравилось то, как закончилось дело с местным копом Лэнселом Грэмом, хотя он определенно заслужил это. И если им под нос сунут микрофон, у них появится шанс высказать свое недовольство.
Я не могу подставить своих детей под перекрестный огонь – снова. Только не это.
Курица с терияки уже готовится – мы с Коннором и Сэмом наслаждаемся процессом, хотя на кухне тесновато. Сэм ухитряется поцеловать меня, когда я протискиваюсь мимо него, чтобы поставить рис на плиту, и на обратном пути я возвращаю этот поцелуй. Мой сын лишь закатывает на это глаза и продолжает шинковать капусту для кисло-сладкого салата.
– Это должна была делать Ланни, – ворчит он.
– Ей сейчас плохо, – говорю я ему. – Ты же не против, верно?
Он отвечает, что не против, хотя на самом деле против. Сэм говорит:
– Я узнавал у Хавьера. За последнюю пару месяцев в тире не было ни одного нового посетителя, помимо обычных туристов. Никто не упражнялся в стрельбе с дальних дистанций, не считая охотников, которых он уже знает.
Сэм имеет в виду – нет свидетельств того, что снайпер появлялся в городе и тренировался в тире, чтобы убрать нас. Конечно же, если этот снайпер – наемный убийца, у него нет никаких причин являться в тир Хавьера; он может практиковаться где-нибудь еще, далеко отсюда; может приехать, сделать свое дело и уехать. Отсутствие улик мало успокаивает, и мы оба это знаем.






