Мандариновый лес Метлицкая Мария
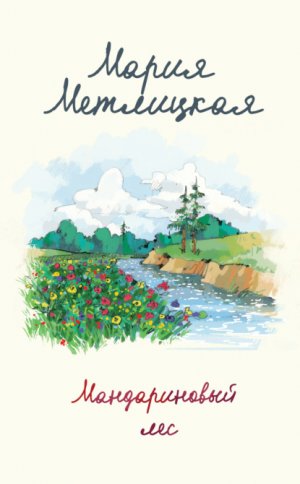
Здорово он тогда разозлился. Почему, Наташа так и не поняла. Ладно бы щи не понравились! Но ведь не попробовал, а сразу кричать. Обидно было ужасно, она ведь старалась.
Поделилась с Людкой. Та объяснила:
– Да чего тут непонятного? Не хочет он впускать тебя не поняла?
– Как это – впускать? – переспросила Наташа. – Куда?
– Так это, – хмыкнула Людка, – обделался твой Чингиз-хан, испугался! Решил – сначала щи, потом лифчики с трусами свои перетащишь. А следом сама тихой сапой раз – и все, я тут живу! Дура ты, Репкина! Ты с ним поаккуратней. Прогонит взашей и не извинится! Таких, как ты, у них по три вагона на каждом шагу. Ну? Дошло до жирафа на пятые сутки?
Нет, все-таки не дошло. И что такого было в банке щей, чтобы так разозлиться?
Как-то чудно. Но обиду свою проглотила – Людка права, таких, как она, пучок на пятачок. Только совсем не так Наташа представляла отношения влюбленных. Впрочем, о чем она, о каких влюбленных? Влюбленных здесь не было – была одна влюбленная. Влюбленная дурочка Репкина Наталья.
Нет, на узеньком диванчике, застеленном свежим бельем, все было прекрасно. Он обнимал ее и шептал нежные слова. Правда, так тихо, в самую шею, что она их почти не разбирала. Но чувствовала, что это что-то нежное, сокровенное – кажется, он повторял слово «милая». Да и какая разница, что он шептал? Важно другое – она была самой счастливой.
После бурных ласк Чингиз всегда засыпал, отворачиваясь к стене, а Наташа осторожно гладила его по мускулистой и смуглой спине, тихо и аккуратно, кончиками пальцев, почти не касаясь. И смотрела на мандариновый лес.
Что она пыталась увидеть в этой темной малахитовой чаще, где на ветках непонятных, придуманных, раскидистых и густых деревьев с острыми, голубоватыми иголками, как яркие лампочки, вспыхивали и бликовали золотисто-оранжевые шарики мандаринов? Елочные игрушки, маленькие лампочки надежды, освещающие путь, улыбалась она, крошечные солнышки в густом, темном, непроходимом и диком лесу. Да, именно так – маленькие и яркие солнышки, без которых бы все было совсем страшно и безнадежно.
Кажется, теперь она поняла, для чего все это. Дошло до жирафа. Кажется, дошло.
Там, на Остоженке, она никогда не спала. В чернильной темноте комнаты вглядывалась в его силуэт, затылок, плечо. Красивая шея. Откинутая рука, красивее которой она не видела. Наташа слушала его дыхание, тревожное бормотание, и ей хотелось, чтобы он обнял ее, прижал к себе. Но он спал так крепко, что пушкой не разбудить. Так, будто ее не было рядом.
Танька ждала второго – ходила тяжело, еще больше раздалась, отекла, подурнела и почти все время плакала. Страшно болели раздутые, опухшие ноги. После работы валилась без сил. Злилась на сестру, что та забросила хозяйство, племянника и Валерика.
Наташа оправдывалась, вставала к плите и к тазам и думала об одном – как поскорее сбежать. Невыносимо. Жить там было невыносимо. Валерик по-прежнему пил, а выпив, скандалил.
Однажды Наташа увидела Таньку с огромным фингалом под глазом. Закричала как резаная:
– Гони его в шею! Ударить беременную! Боишься – сама его выгоню! Иди в милицию, пиши заявление!
Разорялась долго, а этот кретин спал, как всегда, за столом, будто ничего не произошло.
Глупая Танька ревела:
– Только попробуй! Сама тебя выгоню. Он мой муж и отец моих детей, а не нахлебник и сволочь!
Муж и отец, господи! Неужели сестра и вправду любит его?
Но ничего не попишешь – здесь все так живут. Так жили их родители, так живут их соседи, друзья и знакомые: пьянство, мордобой, бесконечные скандалы и склоки. И ничего не изменить, ничего. К сорока годам бабы превращаются в больных и разбитых старух, пацанва в четырнадцать уходит сидеть по малолетке, мужики пьют, как в последний раз, и мрут от сердца и прочих болезней.
Ничего не исправить. Выход один – убежать. Удрать из слободки, сбежать, как из тюрьмы. Впрочем, это и есть тюрьма.
На шестом месяце Танька родила мертвую девочку. Из роддома возвратилась тихая, прибитая, виноватая.
Валерик попрекал и замахивался:
– Дура, кобыла! Родить и то нормально не можешь. Не баба – дерьмо!
Танька вздрагивала и принималась реветь.
Наташа уходила из дома. Невыносимо. Видеть все это невыносимо. Невыносимо так жить.
По-прежнему болезненный, хилый и капризный племянник пошел в заводской сад. И снова бесконечные болезни, постоянные длительные больничные. К тому же он принес оттуда мерзкие ругательства, которые так странно и ужасно было слышать из детских уст.
Валерик погиб, когда Ростику было четыре года, – пьяный переходил «железку» и попал под состав. Такие смерти здесь были привычными. Люди говорили, что «железка» забирает больше, чем водка. Только все забывали, что именно она, беленькая и проклятая, была главной первопричиной.
После похорон мужа, оплакав его страшно, по-деревенски, воя и сокрушаясь, Танька потихоньку приходила в себя. Нет, не помолодела и не поздоровела, просто притихла, почти не рыдала и наконец стала спать по ночам. Но черную гипюровую повязку с головы не снимала и на кладбище ходила каждое воскресенье.
Ей было тридцать, а на вид можно было дать все пятьдесят. Замуж она больше не собиралась – еще чего! И, кажется, в конце концов поняла, от какого груза освободилась. В июне, подкопив денег, выбила в профсоюзе путевку в Анапу. Уехали на двадцать четыре дня. Танька впервые увидела море, оно ее поразило, как и белый песок, вкуснейшие чебуреки, сладчайшие персики и виноград.
«Вот где рай, – восхищалась она в письмах домой. – А мы, Наташка, ничего про это не знали! Ох, и счастливые те, кто здесь живет!»
Людка крутила роман с женатым. Женатик был не из бедных, заведующий овощной базой. Людка оделась, как королева, – пестрые батники, джинсовое платье, туфли на платформе, французский парфюм, в ушах золотые сережки.
«Мой пупсик», – называла она своего торгаша.
– Конечно, он старый, противный, слюнявый! – морщилась она. – Но добрый, ничего не жалеет! Денег у меня завались. Каждый день в кабаках! А скоро махнем в Сочи. В Сочи на три ночи, – заливалась Людмила. – А что мне прикажешь? С нищим студентом, как ты? На собачьем коврике?
Но глаза у нее были… Господи, не приведи. Такая тоска в них плескалась, что становилось не по себе.
Ни за какие богатства мира Наташа не променяла бы маленькую, полутемную и убогую мастерскую на что-то другое.
Но кроме любви был еще страх – изматывающий, непроходящий, противный, как прогорклое масло. Его привкус она чувствовала всегда. Однажды Галаев скажет ей: «Все, милая. Все. Больше не приходи». Или так: «Оставь ключи на столике!» Буднично так и обычно. Просто положи ключи и уходи.
И все закончится. А что, собственно, всё? Кто она? Бесплатная натурщица и уборщица? Повариха и домработница? Любовница, готовая в любую минуту лечь в постель? Даже не сожительница – с сожительницами живут общим хозяйством.
В июне Наташа ушла в отпуск.
Позвонила Людка и трындела, как заведенная:
– Во-первых, Пупсик снял хату! Да, вот, представь! Пусть однокомнатную, зато с видом на Москву-реку, на Пресне! Мало того, хата, Наташка, – мечта! Короче, жду тебя завтра! Обещаю, обалдеешь, полный отпад!
Назавтра Наташа поехала на Пресню – любопытство сгубило не только кошку. Зашла в квартиру и потеряла дар речи. Да уж, Людка права – полный отпад!
В единственной комнате стояли королевская белая огромная кровать с высокой спинкой, покрытая синим шелковым покрывалом, две тумбочки, комод с зеркалом и синий бархатный пуф. Синие занавески создавали уют и загадочность. Белый ковер с синими розами, на комоде золоченые вазы и батарея Людкиных кремов и духов. У стены платяной шкаф.
Хлопая глазами, Наташа растерянно смотрела на подругу:
– А где вы… ну где вы живете?
Та закатилась от смеха.
– Вот здесь, в спаленке, и живем! Точнее – в койке! Ну как тебе, а? Знаешь, как гарнитур называется?
Наташа помотала головой.
– «Людовик Четырнадцатый», это французский король, – отчеканила Людка. – Короче, я теперь королева.
На кухне все было обычно – стол, стулья, холодильник, шкафчики для посуды. Не было только плиты.
– А где плита? – осторожно спросила Наташа.
Подруга небрежно отмахнулась:
– Зачем нам плита? Пупс все приносит с собой, берет в ресторанах. А вообще-то мы ужинаем в кабаках. Смотри, какие отрастила!– И Людка с гордостью продемонстрировала длиннющие, покрытые алым лаком ногти.
Сели за стол. Демонстрируя сокровища, Людка долго держала холодильник открытым. Он и вправду был набит сокровищами, как пещера Али-Бабы. Людка небрежно швыряла на стол свертки с ветчиной и сыром, батоны колбасы и банки с икрой, красной и черной.
Наташа глотала слюну. Ничего себе, бывает же, а! Впрочем, как живет советская торговля, всем известно.
После коньяка – ох, зачем она пила! – Наташа захотела спать. Слушала Людкино хвастовство и думала только о том, как бы сейчас рухнуть на диван и уснуть. Слипались глаза, и в голове была одна сплошная каша. От Людкиного ржания началась мигрень.
«Божечки, я ж не доеду до дома! – с ужасом думала она. – А на такси денег нет».
– Людка, прости, – заныла Наташа. – Я просто падаю с ног! Я полежу, ладно?
Людка усмехнулась:
– Да, мать, слаба ты на алкоголь. Прям сломалась с третьей рюмки. Ну черт с тобой, ложись! Только учти – в пять разбужу! В шесть Пупсик приедет.
Ровно в пять Людка безжалостно затрясла Наташу за плечо.
Голова болела по-прежнему. Наскоро умывшись – Людка торопила и толкала в спину, – надела босоножки и выскочила во двор.
«Вот и погуляли, – грустно подумала она. – Какая я все-таки дура…»
На улице стало полегче, свежий ветерок обдувал и холодил лицо, тополиный пух цеплялся за волосы и оседал на ресницах.
Домой не хотелось, что там хорошего?
Вышла на «Парке культуры», ноги сами несли на Остоженку.
У двери в подвал остановилась, испугалась – как она решилась вот так, без звонка и предупреждения? Было дело, хотела сбежать, как дверь отворилась и на пороге показался хозяин.
– Ты? Ну проходи.
Как она ругала себя! Какая нахалка – явилась, не запылилась, да еще и под газом. От стыда не поднимала глаз.
А Чингиз, унюхав запах алкоголя, как ни странно, развеселился:
– Милая, да ты напилась!
Уложил в постель, дал таблетку от головной боли и сделал крепкого, сладкого чаю.
– Лежи, пьянчужка! – смеялся он. – Вот уж от кого не ожидал, так это от тебя. Да, удивила!
Ей было и стыдно, и сладко. Впервые он ухаживал за ней – жалел, гладил по голове, поил сладким чаем, предлагал бутерброд. Так неожиданно этот позорный кошмарный день оказался днем счастья.
В конце июня Чингиз уезжал домой, в родной Дагестан.
В июле вернулись Танька с племянником, как матери-одиночке, ей дали отпуск за свой счет, и они втроем засобирались к тетке в деревню. Неделю бегали в поисках гостинцев. Кое-что удалось урвать – растворимый кофе, полукопченую колбасу, головку сыра и пару кило московских конфет.
Путь был неблизким – больше двух часов на электричке, еще минут сорок на автобусе, а дальше вдоль поля пешком. Устали, шли медленно. Ростик ныл и просился на руки, тащили по очереди, периодически присаживаясь отдохнуть.
Но вот на горизонте показалась деревня. Одна улица, штук тридцать домов, половина пустых.
Тетка выскочила на крыльцо. Все пятеро детей большой семьи Репкиных в поисках лучшей жизни подались в города, все стали лимитчиками. Дома осталась одна тетка Марина, старая дева, она и ухаживала за родителями, «смотрела», как здесь говорили. А после их смерти уезжать было уже ни к чему: сама состарилась. В общем, так тетка осталась в деревне.
Была она крепкой, высокой, ладной, с прямой спиной и хмурым, суровым и недоверчивым взглядом. В детстве девчонки ее побаивались, но потом поняли – не злая она, а просто несчастная. У всех семьи, дети, городская, а значит, более легкая жизнь. А у нее больные старики на руках, огород, скотина, а еще работа на ферме. Где еще можно работать в деревне?
Была ли тетка Марина девственницей, никто не знал. Шушукались, что в молодости «скрутилась» на ферме со скотником, суровым многодетным мужиком по имени Федька. Правда или ложь – какая разница. Важно, что доживала свою нелегкую жизнь тетка Марина одна. «Слава богу, что родилась крепкой», – повторяла она. Ну и жизнь закалила, тяжелая крестьянская жизнь и долгий уход за лежачими стариками.
Ах как хорошо было в деревне! Опьяняющий воздух томил сердце, запах свежескошенной травы, водорослей от прудика, что располагался прямо за огородом тетки Марины и служил для полива, смешивался с запахами навоза, луговых цветов, торжественно и печально подсыхающих у крыльца розовых флоксов, сладковатым запахом опавших и подгнивающих яблок. Все это томило, наполняло сердце светлой печалью и было знакомо до боли.
А еще пьянящий запах свободы, простора, мощи, шири, размаха от раскинутого безбрежного поля, от леса, стоящего вокруг, от тоненькой серебристой речки, змейкой извивающейся за лесом. И запахи дома, свежего хлеба, еще горячего, обжигающего руки, запах только что вытащенного железным ухватом варенца с самой вкусной, хрустящей, коричневой, словно шоколадной, корочкой, запах полыни и зверобоя, парного молока, подушек, набитых свежим сеном, запах вымытых деревянных полов. Все это немедленно возвращало в детство, далекое и счастливое, когда за столом сидели все, и все были живы – и бабушка Паня, крошечная, как гном, шаркающая беззубым, вечно смеющимся ртом. И дед Ваня, огромный и шумный, притихший только от старости и болезней, и молодая тетка Марина, высокая, ладная, спорая, покрикивающая на стариков. И мама с отцом. Мама, с ее вечной тревогой и страхом, и тихим шепотом: «Коля, не пей!» И разудалый, лихой отец, отмахивающийся от мамы: «Маруська, отстань! Закройся, не доводи до беды!»
Бедная мама в такие минуты испуганно замолкала, остановить отца могла только тетка Марина. Резким движением выхватывала бутылку с самогоном и, сурово сдвинув брови, гнала брата спать – стелили ему на сеновале.
Мама благодарила золовку.
Весь месяц законного отпуска делали заготовки на зиму.
Девчонки бегали по грибы и ягоды, а женщины, мама и тетка, варили варенье, закручивали банки с соленьями и компотами, собирали свеклу, капусту, морковь и спускали все это в погреб, до отъезда. Отпуск подгадывали к августу, чтобы в конце накопать и картошки. Отпуск! Смешно. Какой уж там отдых – труд, труд целыми днями работа и суета. Мама так и ни разу в жизни не отдохнула по-настоящему. Но идти в профком и хлопотать о путевке ей было неловко: «Что вы, девочки! У нас есть Труфановка! А у других вообще ничего. Вот они пусть и едут в наш профилакторий! А мы как-нибудь. Да и потом – какой профилакторий, какой санаторий? А заготовки? А картошку копать? Нет, и не уговаривайте. Ни за что!»
Так и прожили жизнь. Мама говорила: «Жизнь, девки, борьба! Каждый день, каждый час, каждую минуту!»
Борьба? Наташе казалось это неправильным. Неужели ничего хорошего, кроме борьбы, в маминой жизни и не было? Ни радостей, ни удовольствий, только труд и мысли о том, как бы выжить?
– Было, – вздыхала мама, – конечно же было! И сколько! А победа, Наташка? Я хоть и малая была, а все помню! Счастье всеобщее помню, танцы под патефон во дворе, песни под аккордеон! И лица такие счастливые! Все позабыли о ссорах и спорах, все друг друга любили! Правда, недолго. Скоро все вернулось на прежнее место.
Да, счастья в маминой жизни оказалось ничтожно мало – голодное, послевоенное детство, в котором все же случались радости: первое мороженое в круглой вафле, конфеты «Школьные», густой сливовый сок в гастрономе, первая кукла, дешевая, пластмассовая, облысевшая через неделю, первые туфли и пенал с картинкой. Вот и все счастье. Да, еще поездки на каникулы к родне в Новомосковск, где в воздухе витал тяжелый запах аммиака от химзаводов. А потом свидания с отцом – всего-то два месяца, и сразу свадьба. Мама уже была беременна Танькой.
– Ну и полгода от силы после, – с трудом улыбалась мама. – А потом отец начал пить. Все пьют, все. – Казалось, мама оправдывала отца. – Ну посмотрите по сторонам. Все же, без исключения!
– А потом? – спрашивала Наташа. – Больше ничего хорошего не было?
Мама ненадолго задумывалась:
– Ну почему же? Было, конечно. Танька родилась, потом ты. Счастье было, когда пальто новое справила, да еще и с цигейковым воротником. А что, отличное пальто, правда, Наташка?
Наташа молчала. Обижать маму не хотелось, она очень гордилась пальто. Но и восхищаться было особенно нечем – темно-синий тяжелый и грубый, шершавый драп и черная, скучная цигейка на воротнике и обшлагах. Тоска.
– Еще было, – обрадованно вспоминала мама, – когда вы с Танькой в школу пошли! Нарядные такие, в белых фартуках. А банты я вам накрутила – не банты, сказка! У тебя-то, Наташка, волосы, у Таньки – пух в три ряда. И как банты мои удержались? – смеялась мама. – А когда квартиру получили? Скажешь, не счастье? А когда гарнитур отстояли?
Именно, отстояли. Три ночи записывались у мебельного. Зато потом мама плакала от счастья. Но тут же все накрыла накидушками, сшитыми из старых, выгоревших занавесок, и вся красота мигом исчезла.
– Зачем все это, – возмущалась Наташа, – если ничего не видно?
– Больше такого гарнитура у меня никогда не будет, – тихо ответила мама. – Никогда, понимаешь? И еще в кассу взаимопомощи три года платить.
Договорились, что тряпки, как называла накидушки Наташа, будут снимать на праздники, выходные и когда ждут гостей.
Но праздники случались нечасто, гости приходили еще реже, а на выходные мама хитрила и снимать забывала.
Бедная мама, мамочка! Как мало тебе выпало радостей! И как много горя… Может, мама права – это и есть настоящая жизнь? Жизнь, состоящая из будней, а не из праздников?
Судьба тетки Марины, мамы, Таньки и всех женщин слободки – как под копирку. Выходит, и у Наташи будет такая судьба. И ничего не попишешь, значит, правда, так написано на роду. И она не Людка, чтобы что-то изменить. Впрочем, так, как Людка, она и не хочет.
Через две недели в Труфановке Наташе стало скучно и, оставив на тетку Марину сестру и племянника, она уехала в Москву. Но и в Москве было грустно – Чингиза там не было, и город без него казался чужим и недобрым.
Но долго грустить не пришлось. Через три дня позвонила Людка и страшным, зловещим шепотом приказала Наташе немедленно – слышишь, немедленно! – ехать на Пресню.
– Бери тачку, я оплачу, – шипела Людка, – так будет быстрее.
На резонный вопрос, что случилось и почему такая срочность, Людка ответила:
– Приедешь – увидишь! – И шваркнула трубку.
Ехать было совсем неохота. Наташа распланировала свой день: к соседке Тамаре постричься, потом погладить летние вещи, сварить что-нибудь на обед – вдруг захотелось холодных зеленых щей со сметаной, – а потом позволить себе погрустить в тишине и одиночестве, которого она всегда была лишена.
Но нет, не получилось. Наспех одевшись, выскочила на улицу. Наудачу такси, редкую птицу в слободке, поймала мгновенно.
Людка открыла с выпученными глазами и со страшным, зверским, перекошенным лицом втащила Наташу за шкирку в квартиру.
– Иди на кухню! – велела она.
На столе стояли немытая кофейная чашка и большая хрустальная пепельница, переполненная окурками. Окно было закрыто, и под потолком висело плотное облако табачного дыма.
Людка плюхнулась на табуретку и закурила.
Поморщившись, Наташа открыла окно.
– Да что случилось? – решила внести ясность она. – Что за срочность такая?
Людка в упор уставилась на нее, словно о чем-то раздумывая. И наконец кивнула на закрытую дверь комнаты.
– Знаешь, что там? – спросила она.
Наташе вдруг стало страшно, и от страха она неловко пошутила:
– Труп, что ли? Убила кого?
– Труп. Только он сам, понимаешь? Я тут ни при чем!
– Кто сам? – еле выговорила Наташа.
– Кто, кто? – разозлилась Людка. – Пупс, кто же еще? Пришел, пожрал, выпил, лег и помер! Захрипел, как конь, и тут же отошел, понимаешь? В секунду! Я прям… Ой, что говорить! – Людка махнула рукой. – Обделалась прям! Еле до сортира добежала! Да еще и блеванула со страху.
– Он умер? – одними губами проговорила Наташа. – Ты в этом уверена?
– Пойдем! – гаркнула Людка, схватив подругу за руку.
Наташа, упираясь изо всех сил, в ужасе зашептала:
– Нет, нет, я не пойду! Боюсь! Не пойду – и все, слышишь? И отпусти, мне больно!
– Хороша подруга! – с негодованием воскликнула Людка. – Мне что, всё одной?
– Что – всё? – онемела от страха Наташа.
Но Людка уже тащила ее по узенькому коридору.
На шикарной кровати «Людовик Четырнадцатый», раскинув огромные, волосатые руки, лежал определенно мертвый человек. Откинутая голова с блестящей проплешиной была повернута набок, но лицо, искаженное гримасой боли и удивления, было отлично видно: полуоткрытые выпуклые глаза, немного скошенный, крупный нос и раскрытый, полный золотых коронок синеватый губастый рот.
Мужчина был голым, но, по счастью, ниже пупка закрыт простыней, из-под которой высовывались правый бок и темная от волос нога.
На шее блестела широкая золотая цепь с крупным кулоном, на руке под светом хрустальной люстры поблескивали массивные золотые часы, а на безымянном пальце с бледным широким ногтем виднелось огромное золотое кольцо с прозрачным и крупным камнем.
– Божечки мои, – прошептала Наташа. – Какой ужас, Людка! Ты вызвала «Скорую»? И милицию надо, наверное?
– Идиотка! – зашипела Людка. – Какая милиция? Ты что, хочешь, чтобы меня посадили?
– За что? – удивленно спросила Наташа. – Ты же сказала, он сам…
– Идиотка! – с удовольствием повторила Людка. – Конечно же, сам! Не я же его… У нас даже ничего не было! Не успели! Но милиция, «Скорая» – нет! Ты только представь: следствие, допрос. Будут допытываться, кто я ему. Жена узнает, дети. Мне это надо?
– А что же делать? – беспомощно пробормотала Наташа. – Нельзя же оставить вот так!
– Слушай меня, – сурово проговорила Людка. – Сейчас все соберем, и тю-тю! Меня здесь никто не знает, чай я ни с кем не пила и дружбы не заводила. Все соберем, погрузим в машину – и поминай, как звали!
– Но сбежать как-то… не по-человечески, Люд, – тихо сказала Наташа.
Людка посмотрела на нее, как на умалишенную.
– Я тебя для чего позвала? Для помощи, понимаешь? Я попала в ужасную ситуацию, а ты мне тут лекции будешь читать? Делай, что я говорю, и молчи ради бога! Я и так на грани истерики – такое пережить! А тут еще ты, моралистка!
Стараясь не смотреть на кровать с мертвецом, Наташа принялась помогать.
В сумки, пакеты и чемоданы пихали наряды и обувь, магнитофон и духи, косметику и постельное белье, блоки красно-белых импортных сигарет и бутылки с напитками, каких Наташа раньше и не видывала. Махровые мягчайшие полотенца, хрустальные фужеры и коробки конфет. Потом Людка стала опорожнять холодильник. В сумку полетели палки колбасы и упаковки сыра, бряцнули банки с икрой и ветчиной, банки с кофе.
– Может, не надо? – осторожно спросила Наташа. – Как-то совсем некрасиво.
– Ты опять за свое? – обиделась Людка. – Что некрасиво? Ему-то уже все равно, а мне надо жить! А на что – ты не скажешь? Да и вообще, чего добру пропадать? Все равно все стащат – менты, врачи, соседи! Дура ты, Репкина! Все, заткнись, уже недолго осталось!
Запыхавшись, сели. Людка закурила.
– И что дальше? – спросила Наташа. – Ты представляешь, что с ним будет через два дня?
– Я все продумала. Дверь оставим открытой. Ну приоткрытой! Соседи и сунутся. А дальше – «Скорая», менты. Все будет понятно – хата для телок. По паспорту установят имя, фамилию, место прописки. Сообщат семье. Не боись, все будет нормально! А мы с тобой, – озабоченно вздохнув, Людка оглядела деловым взглядом кухню, – проверим, что и как, и – вперед! Сбегаешь за машиной?
Наташа нерешительно кивнула. Людкин напор ее всегда парализовывал. А уж сегодня тем более.
Последнее, что она увидела из прихожей, – как Людка вынимает здоровую пачку денег из кожаного портмоне мертвого любовника. Столько денег Наташа никогда не видела – пачка с трудом помещалась в Людкиной руке.
Увидев онемевшую подругу, та, кивнув на кровать, усмехнулась:
– Жаль, что цацки нельзя снять – опасно! Знаешь, сколько стоят часы и кольцо? Там бриллиант в три карата, прикинь!
Наташа выскочила из квартиры. От пережитого ее затошнило. Скорее бы все закончилось, господи! Скорее бы все прошло! И поскорее бы забыть весь этот кошмар! Но понимала – забыть не удастся, это с ней на всю жизнь. И еще – поскорее бы распрощаться с Людкой. Навсегда. Видеть ее было невыносимо.
В такси с трудом поместились сумки и чемоданы.
Плюхнувшись на переднее сиденье и облегченно выдохнув, Людка с удовольствием закурила.
Нахмурившийся шофер сделал ей замечание.
– Шеф, не боись! – засмеялась она. – Не обижу! Придется тебе потерпеть. Женщина в трауре.
– Что-то не похоже, – хмыкнул шофер и открыл пошире окно.
Всю дорогу ехали молча. Прислонившись к сумкам, Наташа дремала.
Въехали в слободку, остановились у Людкиного дома.
– Можно вещи пока к тебе? – спросила Людка. – Сама понимаешь: если внесу все домой, что там начнется.
– А дальше что? – хмуро спросила Наташа. – Ну, допустим, оставишь у меня. А через неделю Танька с Ростиком возвращаются.
– А через неделю меня здесь не будет! Деньги есть, сниму хату и – прощай, Воронья слободка! Завтра же займусь! Нет, сегодня! С бабками ничего не страшно, в два дня найду! Ну что? Можно? – нетерпеливо повторила она. – Чё застыла?
Наташа кивнула. Противостоять Людке она никогда не могла. Да и понять ее можно… Да, можно, только очень не хочется. И самое главное – как ей сказать, чтобы ночевать шла домой? Совсем неохота быть вместе. Совсем.
Но Людка, выпив кофе с бутербродами, деловито переоделась, накрасилась и сказала, что идет по делам.
Закрыв за ней дверь, Наташа облегченно выдохнула. Побродив по заставленной квартире, прилегла на диван и заплакала.
Ей было жалко всех – брошенного, как собаку, покойника, себя, их сломанную детскую дружбу с Людкой. И вообще была такая тоска – хоть волком вой! И, уткнувшись в подушку, Наташа заскулила.
Людка вернулась поздно, довольная и счастливая. Квартира нашлась, да еще и отличная – однушка на «Университете», в старом доме, правда заброшенная и ободранная, после старой бабули. Зато рядом метро и просторная. А побелить потолки и переклеить обои – плевое дело.
– В общем, через неделю перееду! Когда, ты сказала, возвращается Танька? Ну и отлично! – Людка громко и протяжно зевнула.
– Тебе его совсем не жалко? – тихо спросила Наташа.
– Жалко, – равнодушно ответила Людка. – Но больше жалко себя. Как я теперь? Работать неохота, а денег надолго не хватит. Эх, надо было взять кольцо, надо! Такие бабки! – вздохнула она.
– Мародерка. – Наташа отвернулась к стене.
Только бы не заплакать – совсем не хотелось плакать при Людке.
Подруга съехала, и Наташа немного успокоилась – общаться после случившегося было невыносимо, и тут же рванула в деревню. В Москве было жарко, делать было совершенно нечего, сидеть в пустой душной квартире и слушать вопли соседей ей не хотелось.
Уехала рано, а добралась только к вечеру – попала в перерыв на вокзале. Слоняясь по перрону, съела три пирожка, два мороженых и даже вздремнула на скамейке.
Шла через поле и собирала васильки и луговые ромашки. Ах, как пахло полем и землей, хвоей и грибами, как восхитительно пахло свежестью и свободой!
Добрела до дома и плюхнулась на крыльцо, сил не было двинуться.
Выскочили и тетка Марина, и сестра Танька, и даже Ростик обрадовался и обнял ее за шею.
Наташа удивилась, как изменился племянник – всего-то пару недель, а поправился, вытянулся, загорел, наел щеки. Но самое главное – он улыбался и без конца что-то рассказывал.
Тетка Марина собирала ужин, а они с Танькой сидели на крылечке.
Наташа пригляделась к сестре – кажется, что-то поменялось. Черную вдовью повязку Танька сняла. Подкрашенные ресницы – ого, и это в деревне! – тронутые помадой губы. Такого Наташа не помнила. Нарядный, в мелкий цветочек, новый сарафан.
– Откуда? – спросила Наташа.
– Да тетка нашла старый штапель и сшила! А что, симпатично, правда?
– Очень, – подтвердила Наташа. – И вообще, помада тебе к лицу и сарафан! Кажется, ты похудела! И загар тебе идет!
Танька смущенно что-то пробормотала и пошла в избу.
Ужинали оладьями со сметаной, отварной картошкой с молодым чесноком и укропом – еще мелкой, но вкуснее ее нет.
После ужина сразу разбрелись по кроватям – Наташа от усталости после дороги, тетка Марина по деревенской привычке, Ростик, как и положено ребенку. Танька, вымыв посуду, легла в сенях.
Среди ночи Наташа пошла по нужде. Громко, по-мужицки, храпела тетка Марина, тихо постанывал Ростик. А вот сестрицы на месте не было – тоже до ветру? Но в туалете никого не было. Странное дело.
Прошлась вокруг дома, вышла за калитку – звенящая тишина, тишина и пугающая благодать.
Только вот Танька пропала.
С колотящимся сердцем растормошила тетку Марину.
– Чего? – не поняла спросонья она. С тяжелым вздохом свесив отекшие, полные, с крупными, мужскими ступнями ноги, тетка села на кровати. Громко, со смаком зевнула и махнула рукой: – Никуда твоя Танька не пропала. И волки ее не съели. Любовь у нее, поняла? Закрутила с Петькой теть-Настиным! Вот и шляется по ночам. – Тетка снова зычно зевнула. – Ну и пусть шляется. Парень он хоть и чудной, но хороший. Пьет только по праздникам, да и то не по-свински. И работник хороший. Хозяин справный. За матерью, теткой Настасьей, хорошо ходит. Пусть и нашей Таньке чуть-чуть бабского счастья достанется. Что она видела-то? Пьяное мурло своего Валерки? Синяки под глазами? Несчастная баба. Все, я до ветру, раз уж проснулась, а ты, Наташка, спи, досыпай!
Вот так дела! Взволнованной Наташе никак не удавалось уснуть. Вот сестрица дает! Тихоня, а на тебе!! Ну и хорошо, ну и отлично!
Кряхтя и шумно, по-стариковски вздыхая, укладывалась тетка Марина. Притих и посапывал Ростик. За окном занимался белесый, расплывчатый рассвет. Робко распевались птицы. Из полуоткрытого окна веяло свежестью и подсыхающим сеном. И Наташа наконец крепко уснула.
Проснулась от запаха жареной картошки. Как все деревенские, тетка привыкла завтракать обстоятельно.
– Карасей вон Петька принес. – Тетка кивнула на сковородку со шкворчащими мелкими рыбешками. – Хоть и костлявые, а вкуснота!
Проснувшийся Ростик шумно шаркал по залу.






