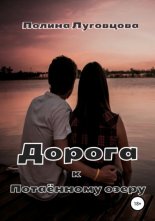Евразийская империя. История Российского государства. Эпоха цариц Акунин Борис

Но и он уступал по важности главной статье бюджетного наполнения – подушному налогу. В хозяйственном смысле Россия того времени фактически была моноэкономикой: ее основным финансовым ресурсом являлись крестьяне. Потому-то Петр Шувалов и прочие государственные мужи так заботились о приросте населения. Сколько душ, столько и денег.
В этом отношении народ охотно помогал правительству: плодился и размножался, чему способствовали улучшившиеся условия жизни. В царствование Елизаветы проводилось две переписи («ревизии»), поэтому демографическая динамика хорошо известна.
В 1743 году Сенат известил царицу, что за предыдущее царствование податное население сократилось на миллион человек, что привело к серьезному падению доходов. Мужских душ, с которых брали налоги, насчитали 6 миллионов 643 тысячи. С них собиралось пять миллионов триста тысяч рублей.
Перед самым концом царствования, в 1761 году, опять прошла ревизия, и оказалось, что теперь в стране 7 363 348 податных душ, что вызвало соответственное пополнение ежегодного бюджета на одиннадцать процентов. То есть ключевой сектор экономики – живые люди – благополучно расширялся.
Общее население России с учетом женского пола, инородцев и неподатных сословий в это время составляло что-то около двадцати трех миллионов (по сравнению примерно с пятнадцатью миллионами на исходе петровского времени).
Высшее сословие, дворянство, насчитывало около полумиллиона человек, духовенство – тысяч триста, чиновников разного звания было тысяч двести, солдат и матросов перед началом Семилетней войны – под двести тысяч (по спискам; на самом деле значительно меньше). Стало быть, все неподатные сословия суммарно составляли пять процентов от общего числа россиян.
Курс на расширение прав дворянства за счет других классов сохранялся и при Елизавете. В 1746 году вышел новый указ, окончательно запретивший всем прочим сословиям покупать «души» как с землей, так и без земли. Процесс превращения дворян из государственных слуг, обремененных множеством обязанностей, в прослойку, обладающую особенными привилегиями, продолжался. Крестьяне же попадали во все большую полную зависимость от помещиков. Важной вехой стал указ 1760 года, давший право барину по собственной воле ссылать неугодных крепостных в Сибирь, то есть фактически наделивший его судебными полномочиями.
Невский проспект. Я. Васильев
Смягчение нравов
Самым отрадным, да, пожалуй, и самым исторически значимым результатом елизаветинского времени был не рост населения и даже не некоторое облегчение народных тягот (к тому же закончившееся в 1757 году с началом большой войны), а довольно заметная гуманизация общества и некоторые успехи просвещения. До этой государыни Россия была страной очень жестокой, человеческая жизнь здесь стоила дешево, казни и изуверские истязания считались чем-то обыденным. И вот за двадцать лет не было исполнено ни одного смертного приговора! Лишение жизни как высшая мера наказания в законе сохранялось, но императрица неизменно миловала осужденных. Само прекращение публичных казней, доселе зрелища вполне обычного, было на пользу нравственному здоровью народной массы.
Неоднократно проводились амнистии, по которым заключенных выпускали на волю, а сосланных возвращали из дальних мест. Допросы с пристрастием не вовсе исчезли, но теперь пытка применялась гораздо реже. Сначала, в 1742 году, запретили пытать несовершеннолетних – большой прорыв для эпохи, когда малолетним преступникам не делали никакого снисхождения даже и в Европе. Затем пошли еще дальше. В указе 1751 года было вообще высказано сомнение в целесообразности пыток как способа выяснения истины, и рекомендовалось от них воздерживаться, «чтобы, не стерпя пыток, не могли на кого и напрасно говорить, и те б, на кого станут говорить, и невинные не могли подпасть напрасному истязанию». Нет, вовсе этот метод дознания не запретили, но на практике стали применять лишь в особо серьезных случаях.
- Ты суд и милость сопрягаешь,
- Повинных с кротостью караешь,
- Без гневу злобных исправляешь,
- Ты осужденных кровь щадишь.
Такими словами славил Ломоносов царицу в день ее тридцатисемилетия.
Столь милосердных времен Русь никогда не видела, но более существенно другое. Впервые – пока еще очень слабо, едва-едва – стало проступать доселе неведомое явление, которое С. Соловьев замечательно определяет следующим образом: «К человеку начинают относиться с бльшим уважением». Для России это было чем-то невиданным.
На то имелись, конечно, и объективные причины. В Европе наступил Век Просвещения, его благотворный отсвет доходил до всех окраин континента, от Испании до России. Но все же первая заслуга несомненно принадлежала самой монархине. При всей своей поверхностности, безалаберности, комичности Елизавета Петровна безусловно была человеком милосердным и, как тогда говорили, добросклонным.
В сущности, от верховной власти зависит не столь уж многое. Даже если она безраздельна, пространство ее маневра всегда ограничено, а если правитель не понимает пределов возможного, наступает расплата. (Главный урок русского восемнадцатого века именно в этом, о чем пойдет речь в разделах, посвященных Екатерине Второй и Павлу Первому). Но верховная власть может задавать тон и подавать пример, создавать общественную атмосферу, поощрять один стиль поведения и порицать другой. Если она груба и жестока, такими же становятся и нравы; если великодушна и сострадательна, добреет и общество.
И вот в 1753 году уже не царица просит свой Сенат, а наоборот, Сенат просит царицу смягчить суровость законов – заменить калечащее наказание (отсечение руки у воров) клеймением. Елизавета охотно соглашается, а кроме того проявляет заботу о семьях осужденных, оставляя женам и детям часть имущества для пропитания.
Во многих указах царицы звучит искреннее печалование о неправдах и желание их исправить. Эти порывы отдают маниловщиной, и все же они прекрасны. «С каким мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть, что уставленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, – обращается Елизавета к Сенату в 1760 году. – …В таком достойном сожаления состоянии находятся многие дела в государстве и бедные, утесненные неправосудием люди, о чем мы чувствительно соболезнуем, как и о том, что наша кротость и умеренность в наказании преступников такое нам от неблагодарности приносят воздаяние. Повелеваем сим нашему Сенату как истинным детям отечества, …все свои силы и старания употребить к восстановлению желанного народного благосостояния; хотя нет челобитен и доносов, но по самым обстоятельствам, Сенату известным, зло прекращать и искоренять. Всякий сенатор по своей чистой совести должен представить о происходящем вреде в государстве и о беззаконниках, ему известных, без всякого пристрастия, дабы тем злым пощады, а невинным напрасной беды не принесть».
Внешние перемены были незначительны, поскольку в стране вообще мало что происходило, и сосредоточивались главным образом в новой столице, где находился двор. Там возводили пышные дворцы в стиле высокого барокко, строили каменные мосты, разбивали парки и сады, соседствовавшие с еще не осушенными болотами. Жизнь Санкт-Петербурга почти целиком зависела от того, где находится императрица. Когда она отсутствовала (Елизавета надолго, иногда на полгода уезжала в Москву), с нею отправлялся весь двор, и странный город будто замирал. Екатерина II в своих записках рассказывает: «В отсутствие двора петербургския улицы зарастали травой, потому что в городе почти не было карет».
Пренебрегая государственными делами, Елизавета очень заботилась о том, как выглядит ее столица. Я уже рассказывал, что царица пыталась придать «знатным улицам» приличный вид, изгнав оттуда питейные заведения, и чем это закончилось. Государыня вообще придавала большое значение благопристойности, что было очень невредно для общественных нравов после разгула и похабств предыдущих царствований, от Петра с его всепьянейшими празднествами до Анны Иоанновны с ее скабрезной шутовской свадьбой в Ледяном Доме. Вместо кабаков в Петербурге учредили «герберги» (от немецкого Herberge, «постоялый двор»), устроенные по европейскому образцу: с кофеем, виноградными винами и бильярдом. Запретили старинный обычай, шокировавший иностранцев, – чтобы мужчины и женщины вместе мылись в бане. В городе все чаще появлялись с гастролями иностранные театральные труппы.
Возник наконец и русский театр, первоначально созданный в Ярославле купеческим сыном Федором Волковым, а затем по особому постановлению Сената переведенный в Петербург. Появились и первые авторы, писавшие комедии и трагедии для русской сцены.
Основоположником отечественной драматургии считается Александр Сумароков. Первая его пьеса «Хорев», согласно тогдашней моде на патриотизм, была посвящена древней русской истории – высоким придворным страстям времен легендарных киевских князей. У персонажей были звучные, никогда не бывавшие имена – Оснельда, Астрада, Завлох. Между собой они разговаривали примерно таким языком:
- Молчи, не представляй мне браков,
- Несчастной мне к тому ни малых нет признков.
- Довольно! Я хочу из сих противных мест.
- О жалостна страна! О горестный отъезд!
Непривычной к новому зрелищу публике эти представления нравились, национальный театр прижился, а имя первого собственного драматурга заняло почетное место в истории русской литературы. Правда только имя. С. Соловьев с почтительной витиеватостью пишет: «Так как Сумароков не обладал сильным талантом в изображении природы человеческой и не мог успешно бороться с языком, не вышедшим еще из хаотического состояния, то и не предохранил своих произведений от забвения».
Скромное начало русской драматургии
Театральные изыски облагораживали жизнь весьма небольшого круга столичных жителей, но шире был слой, затронутый развитием учености.
К началу Елизаветинской эпохи в военной империи на более или менее достойный уровень было поставлено лишь военное образование. Существовали Шляхетский кадетский корпус (выпускавший и некоторое количество гражданских чиновников), две морские академии (по одной в обеих столицах), артиллерийская и инженерная школы.
Из «мирных» учебных заведений имелись только старинная Славяно-греко-латинская академия, где преподавали монахи, и петровская Десиянс-Академия, официальная оценка деятельности которой в указе 1747 года звучит довольно безжалостно: «По сие время Академия Наук и Художеств плодов и пользы совершенно не произвела».
В сороковые и пятидесятые годы, в значительной степени стараниями Ивана Шувалова, состояние российского просвещения значительно улучшилось.
Пагубное положение флота, обнаружившееся во время шведской войны, побудило правительство заняться не только ремонтом и постройкой кораблей, но и кадрами. Вместо прежних академий, влачивших довольно жалкое существование, была создана новая, хорошо устроенная, – Морской академический шляхетский корпус на Васильевском острове. Там обучались 500 гардемаринов.
Обновилась и Славяно-греко-латинская академия, в которой кроме богословских дисциплин теперь стали преподавать физику, метеорологию и даже основы психологии.
Очень повысился статус Академии наук. Ее возглавил большой вельможа – Кирилл Разумовский. Мы видели, что в качестве украинского гетмана он ничем выдающимся себя е проявил – но от символического правителя символической автономии инициативы и не требовалось. Зато в качесте президента Десиянс-Академии, пускай тоже номинального, юный Кирилл Григорьевич сделал немало полезного.
Этот бывший деревенский мальчишка, по прихоти Фортуны, безо всяких личных заслуг взлетевший к самому подножию трона, еще в четырнадцать лет пас коров, а в семнадцать уже был сиятельным графом и одним из образованнейших вельмож своего времени. Второе обстоятельство здесь еще удивительнее первого. Объяснялось оно тем, что перед тем, как быть выпущенным в большой свет, брат фаворита прошел курс учения в Европе, куда его сопровождал личный ментор, академический адъюнкт Григорий Теплов. Юноша поучился в Германии, Италии и Франции, набрался европейских привычек и по возвращении в Санкт-Петербург, всего восемнадцати лет от роду, возглавил главное (собственно, единственное) научное учреждение империи.
Польза, которую граф приносил Академии наук, состояла не в мудрых наставлениях и великих открытиях, а просто в том, что своим именем он прибавлял статуса этому пока непривычному институту, ну и, конечно, делился со своей нестандартной «вотчиной» частью несметных личных богатств.
Первое здание Московского университета (на месте нынешнего Исторического музея)
Академия стала процветать: получила новый регламент и щедрое финансирование, обрела стройную и осмысленную структуру. Очень поднялся престиж членов Академии, каковых могло быть не более двадцати – десять действительных, то есть присутствующих, и десять почетных, иностранных. Вскоре лучшие умы Европы стали добиваться этого звания, поскольку к нему прилагалось еще и солидное денежное вознаграждение.
Академия пока сохраняла дополнительную функцию учебного заведения, при ней существовала гимназия на двадцать студентов (тех, кто оказывался невосприимчив к знаниям, сплавляли в Академию художеств, что по-своему тоже демонстрировало новое уважительное отношение к наукам).
Однако самое примечательное событие произошло не в Петербурге, а в Москве. В 1755 году, по предложению академического профессора Михайлы Ломоносова, поддержанному Иваном Шуваловым, там открылся университет. Самой старой высшей школой империи мог бы считаться Дерптский университет, основанный еще в 1632 году, но при завоевании Прибалтики царю Петру было не до педагогики, поэтому профессора со студентами разбежались кто куда, и университет закрылся. Таким образом детище Ломоносова и Шувалова стало первенцем российского высшего образования.
Правда, сначала в Московском университете было всего три факультета (юридический, медицинский, философский) и только десять профессоров, а также две гимназии – для «благородных» и для «простых».
Подобные успехи просвещения могут показаться скромными, но это были ростки, из которых со временем поднимутся великая наука и блистательная культура – лучший вклад России в эволюцию человечества.
Великий Петр лишь изобразил из своей державы Европу: побрил, нахлобучил парик с треуголкой, научил маршировать в ногу под барабан. При невеликой дочери Петра страна начала приобретать не поверхностные, но сущностные черты европейской цивилизации, а затем приступила и к формированию своей собственной. В этом и заключается благотворность елизаветинского времени.
Дела внешние
Желание мира
Захватившей престол Елизавете досталась по наследству шведская война. В 1741 году стало уже ясно, что реванша у Стокгольма не получится, но и мириться шведы не собирались.
Сначала новая царица попыталась остановить конфликт без дальнейшего кровопролития и через своего друга Шетарди, посредника в сношениях с шведами, предложила неприятельскому командующему Левенгаупту заключить перемирие. Шетарди стал объяснять, что надобно компенсировать королю Фредерику затраты и потери какими-нибудь территориальными уступками – ведь, по сути дела, шведы сражались ради Елизаветы и очень ей помогли. Однако поступаться отцовскими завоеваниями императрица не желала и велела армии готовиться к сражениям.
Итоги шведской войны по Абоскому миру 1743 г. М. Романова
Кампания 1742 года показала, что силы не равны. Русские всюду наступали, шведы пятились. Был взят Борго (современный Порвоо), потом основные шведские силы угодили в окружение близ Гельсингфорса (Хельсинки) и подписали капитуляцию, по которой оставили победителям всю артиллерию. Затем пала и финская столица город Або (Турку).
После этих поражений шведы наконец запросили мира, который и был заключен в следующем 1743 году. Теперь уже Стокгольму пришлось компенсировать победителям их затраты, и России достался изрядный кусок шведской Финляндии «в совершенное непрекословное вечное владение».
Покончив с северной проблемой, Елизавета больше ни с кем воевать не собиралась. На словах провозглашая верность заветам отца, она, в отличие от Петра, не вынашивала никаких экспансионистских планов и желала со всеми жить в мире. Это стремление на долгое время стало главным мотивом российской внешней политики.
А между тем стране, которая считала себя империей, в тогдашней международной ситуации не воевать было трудно. Начиная с 1740 года на континенте все шире разворачивалась очередная, уже третья с начала столетия большая драка за передел Европы. В 1701–1714 гг. великие державы бились за испанское наследство, в 1733–1735 гг. – за польское, а ныне шел спор за наследство австрийское.
Для того чтобы понимать действия российской дипломатии, нам придется разобраться в подоплеке и развитии этого запутанного конфликта.
Изначально это было все то же противостояние двух главных континентальных лидеров – Франции и Австрии. Последняя оказалась в уязвимом положении, потому что император Карл VI умер, не оставив сына. Права его молодой дочери Марии-Терезии выглядели сомнительно и оспаривались. Впервые с 1556 года возникла вероятность, что корона Священной Римской империи уйдет из австрийских рук. Немедленно явились претенденты на те или иные габсбургские владения, разбросанные по всей Европе. Составились два лагеря, где у каждого были свои интересы.
Острее всего противостояние обозначилось на территории самой империи, то есть в германских землях. Там среди множества мелких княжеств существовали три довольно больших государства: самое близкое к Вене – Бавария, самое зажиточное – Саксония и самое военизированное – Пруссия. Баварский и саксонский курфюрсты оба возжелали занять освободившийся императорский престол и для начала объединились, но первую роль в германском альянсе взяла на себя Пруссия, где только что воцарился Фридрих II, энергичный, изворотливый, воинственный и склонный к авантюрам. В последующие десятилетия он будет главным возмутителем европейского спокойствия.
Молодому королю досталась от отца Фридриха-Вильгельма (1713–1740) большая и сильная армия, на содержание которой тратилась львиная доля бюджета. Искушение воспользоваться этим оружием для обогащения за счет ослабевшей Австрии было слишком велико.
К сложившемуся антиавстрийскому союзу, разумеется, присоединилась и Франция.
Пока другие готовились к войне, прусский король ударил первым (так он будет всегда действовать и в дальнейшем). В октябре 1740 года скончался император Карл VI, а уже в декабре пруссаки оккупировали австрийскую Силезию.
В следующем 1741 году удары посыпались на Австрию со всех сторон. Сначала их разбил в сражении Фридрих II, оказавшийся еще и выдающимся полководцем; затем начали наступление французы и баварцы; саксонцы вошли в Богемию; осенью к альянсу присоединилась Испания, зарившаяся на итальянские владения Габсбургов. Баварский курфюрст был избран императором под именем Карла VII. Казалось, Австрия обречена, ничто не спасет ее от сокрушительного разгрома.
Но тут обнаружилось, что 24-летняя Мария-Терезия, которую никто всерьез не воспринимал, – правительница умная и сильная. Она заключила с пруссаками тайное перемирие и направила все свои силы против французов, баварцев и саксонцев, повсюду их тесня. Тогда Фридрих Прусский разорвал перемирие, снова перешел в наступление, опять разбил австрийцев и подобрался к самой Вене. Австрия во второй раз очутилась на пороге краха – и Мария-Терезия вновь вывернулась. Она заключила с Пруссией сепаратный мир, пожертвовав Силезией, но освободив себе руки для дальнейшей борьбы.
Начался новый этап войны, во время которого удача сопутствовала уже австрийцам. Они одержали несколько побед и даже захватили Мюнхен, столицу нового императора. Побеждали австрийцы и на итальянском театре, где перетянули на свою сторону сардинского короля. Перебежала в противоположный лагерь Саксония. Еще важнее было то, что к Марии-Терезии присоединилась Англия, очень встревоженная французской активностью. Боевые действия теперь велись и на севере, во Фландрии. Корабли враждующих держав бились на морях, что совершенно парализовало торговлю. Когда умер Карл VII, новым императором стал муж Марии-Терезии – Франц Первый.
Фридрих II прекрасно играл на флейте и пытался так же солировать в европейской политике. А. Фон Менцель
Но затем события опять развернулись на сто восемьдесят градусов. Видя, что Австрия чрезвычайно усилилась и побеждает, прусский король забеспокоился, не отберут ли у него Силезию обратно. Он сызнова сыграл на опережение: без объявления войны напал на австрийцев и нанес им несколько поражений подряд. Марии-Терезии пришлось подписать мир, уже окончательно закрепивший Силезию за прусским королевством. Взамен Фридрих признал Франца императором.
В Германии после этого воевать перестали, но на остальных фронтах – во Фландрии, Италии, на морях, в заморских колониях – борьба продолжалась. Австрия, Англия, Голландия и Сардиния сражались с Францией и Испанией. Обе стороны одерживали победы и терпели поражения. Конца кровопролитию было не видно.
Таким образом, шведско-русская война в Финляндии была не более чем мелким эпизодом большой европейской свары и произошла вследствие весьма эффективных усилий французской дипломатии, которой удалось оставить Австрию без помощи российского союзника. (Это занимало Версаль гораздо больше, чем волюнтаристская интрига Шетарди по устройству переворота).
В 1743 году Петербург наконец избавился от шведской угрозы, однако вмешиваться в европейский конфликт Россия не стала. Елизавета Петровна не хотела воевать, хотя как раз в это время Австрия брала верх и присоединиться к ней было бы небезвыгодно.
С точки зрения национального благоденствия, мирная политика была прекрасна; с точки зрения имперских интересов – не очень. Россия теряла международное влияние и вес.
Это противоречие станет константой всей последующей российской истории: правителям вновь и вновь придется выбирать между интересами народа и интересами империи. Всякий раз предпочтение будет отдаваться вторым. Руководитель внешнеполитического ведомства Бестужев-Рюмин убеждал царицу не мешкая поддержать Австрию, но в 1743 году Елизавета Петровна воевать не стала и затем целых полтора десятилетия воздерживалась от вооруженных конфликтов.
Но в конце концов имперская целесообразность все же возобладала. Одолев Шетарди и Лестока, французских агентов влияния, Бестужев выстроил свою «систему» сдерживания Фридриха Прусского, который всех очень пугал непредсказуемостью и напористостью. В 1746 году Петербург и Вена подписали оборонительный договор, направленный прежде всего против Пруссии.
Хоть Пруссия в это время уже не воевала, Австрия и ее союзники уговаривали императрицу прислать войско против французов. Англия сулила заплатить за это большие деньги российской казне, а пока подкармливала взятками-«субсидиями» канцлера Бестужева, и тот очень усердствовал.
В конце концов императрица уступила – дала разрешение отправить к Рейну 36-тысячный экспедиционный корпус, но войны Франции так и не объявила. Отпала необходимость.
Изменение баланса сил побудило Францию отказаться от продолжения борьбы. В 1748 году война за австрийское наследство наконец завершилась. Единственным, кто извлек из нее пользу, оказался король Фридрих. России же в конечном итоге удалось поддержать свой международный престиж без существенных затрат. В тот раз дело ограничилось военной демонстрацией.
Неизбежность войны
«Бестужевская система» была обоснована в главном своем тезисе: опасливом отношении к Пруссии. Король Фридрих действительно вынашивал планы превращения своего королевства в империю, которая соберет вокруг себя всю Германию и станет первой державой Европы. (Этот проект осуществится век спустя, а в ХХ столетии приведет к двум мировым войнам.)
Но многоумный российский канцлер просчитался в стратегии. Он исходил из того, что старинная вражда Франции с Австрией непреодолима, поэтому во всем старался противодействовать Версалю. По той же логике Бестужев считал естественным союзником России извечно антифранцузскую Британию. К тому же английский король, являясь владетелем немецкого Ганновера, тоже опасался прусской агрессии. В 1750-х годах между британским и русским правительствами шла долгая торговля из-за того, сколько денег заплатят англичане Петербургу за содержание на прусских границах большого контингента войск. Наконец договорились: за 100 тысяч фунтов в год Россия расквартирует в Прибалтике 40 тысяч пехоты, 15 тысяч конницы и галерный флот. В случае нападения Фридриха на Ганновер вся эта сила должна ударить по пруссакам, за что будет аккордно выплачено еще полмиллиона. Конвенцию подписали в сентябре 1755 года, а четыре месяца спустя – гром среди ясного неба – Англия и Пруссия вдруг заключают военный союз и становятся лучшими друзьями.
Это событие, получившее в истории название «Дипломатической революции», повлекло за собой распад всех сложившихся альянсов, что в свою очередь привело к новой большой войне не только за европейское, но и за колониальное господство.
Истоки конфликта находились очень далеко от России – в Северной Америке, где французские интересы столкнулись с британскими. Стычки между колонистами обеих держав и их индейскими союзниками до того обострились, что в мае 1756 года Англия объявила Франции войну.
Для того чтобы решиться на такой шаг, Англии требовалось прикрыть свои немецкие владения от французского вторжения, и британские дипломаты разыграли смелую комбинацию. Чем платить большие деньги русским за защиту от Фридриха, не дешевле ли и надежнее договориться с самим Фридрихом? Предложение было сделано и с удовольствием принято. Пруссия объявила себя гарантом безопасности Ганновера.
Дешевле и надежнее, правда, не получилось, потому что англо-прусское сближение привело в панику все европейские дворы. Уже воевавшая Франция полностью поменяла свой курс и пошла на сближение с Веной. Еще больше заволновались в Петербурге – вся «бестужевская система» разваливалась. Фридрих II рассчитывал, что русский канцлер с его проанглийской ориентацией сумеет удержать Россию от вмешательства в войну, но британский демарш сильно подорвал позиции Бестужева. Англия, которую он всегда поддерживал и от которой получал деньги, оказывалась врагом, а злодейская Франция, с которой Россия в 1748 году даже разорвала дипломатические отношения, – другом. Горше всего для Алексея Петровича было то, что выходили правы его главный аппаратный враг вице-канцлер Воронцов и Шуваловы, всегда выступавшие за сближение с Версалем.
Единственное, в чем сходились обе придворные партии – во враждебном отношении к королю Фридриху. И с этого момента Россия резко меняет свою дипломатическую стратегию: раз мирное сдерживание не сработало, нужно готовиться к войне. Империя на то и империя, чтобы отстаивать свои интересы при помощи оружия.
Из сочинений некоторых отечественных историков может сложиться впечатление, что в 1756 году «скоропостижный» Фридрих («великим» его тогда еще не называли) ни с того ни с сего развязал агрессивную войну против своих соседей. С одной стороны, так и было – он ударил первым. С другой стороны, прусский король прав, когда пишет в своих мемуарах, что ему не оставили иного выхода. Фридрих пока не стремился к дальнейшей экспансии, он желал лишь удержать захваченную Силезию, благодаря которой его королевство стало в полтора раза больше и в два с половиной раза населеннее. С трех сторон окруженный враждебными странами – Австрией, Россией, Саксонией, а теперь еще и Францией, – он остро чувствовал уязвимость своего положения. Прусская армия была хороша, но по размеру втрое уступала объединенным силам противника, да и сражаться ей пришлось бы сразу на нескольких театрах. На английскую поддержку надеяться не приходилось – островная держава была сильна флотом, но не сухопутными войсками.
Активную подготовку к войне с весны 1756 года начал не Берлин, а Петербург, где наконец твердо решили покончить с «прусской проблемой». Правительство Елизаветы предложило австрийцам напасть на Фридриха II с тем, чтобы Вена вернула себе силезские земли. К прусской границе один за другим потянулись полки, из которых должна была составиться 80-тысячная армия.
Австрийцы, помня о поражениях предыдущей войны, колебались, просили отсрочки до следующего лета, а тем временем обсуждалось заключение тройственного российско-австрийско-французского союза.
Все эти небыстрые, но зловещие приготовления, конечно, отслеживались Фридрихом, который называл зарождающийся антипрусский альянс «Союзом трех шлюх» (Metzen), имея в виду Елизавету, Марию-Терезию и маркизу де Помпадур, фаворитку Людовика XV, которая в значительной степени определяла французскую политику.
Однако шутки шутками, но перспектива войны на всех направлениях сильно тревожила короля, и он решил опередить неприятелей, чтобы, по крайней мере, сократить число потенциальных фронтов.
Сначала он все же попробовал избежать столкновения, задав через своего посла прямой вопрос императрице австрийской: зачем она перемещает войска к границе и не собирается ли напасть на Пруссию? Когда же австрийцы ответили, что слухи об антипрусском союзе ошибочны, Фридрих, зная, что это ложь, перешел к действиям. Как обычно, он не озаботился объявлением войны. «При обычном течении дел не надобно удаляться от этих формальностей, – напишет он впоследствии, оправдывая свою нерыцарственность, – однако нельзя подчиняться им в случаях чрезвычайных, где нерешительность и медленность могут все погубить и где можно спастись только быстротою и силой».
Фридрих даже завел себе трех охотничьих собак: Елизавету, Марию-Терезию и Маркизу Помпадур. И. Сакуров
Операция, направленная против Саксонии, была проведена блестяще, в стиле будущих германских «блицкригов». Пока отдельный прусский корпус отвлекал на себя австрийцев, король с основными силами захватил Дрезден и разоружил саксонскую армию. Все это заняло полтора месяца – поразительная скорость при медленности тогдашних войсковых передвижений.
Одним врагом у Фридриха стало меньше, зато пришли в движение остальные. Конфликт расширялся во все стороны, и скоро война приняла воистине планетарный размах. В ней примут участие с одной стороны Пруссия, Англия, Португалия и несколько немецких княжеств, с другой кроме Австрии, Франции и России еще Швеция с Испанией. Сражения будут происходить не только в Европе, но и на морях, в Северной и Южной Америке, в Индии и даже на Филиппинах. Погибнет, по разным оценкам, от полутора до двух миллионов человек.
В этой семилетней эпопее нас прежде всего интересуют события, в которых непосредственно участвовала Россия. На них мы и остановимся подробнее, кампания за кампанией, лишь в общих чертах следя за ходом войны на других европейских фронтах и вовсе не касаясь колониальных территорий.
Кровавая и нелепая
Быстро присоединиться к войне у русских не получилось – и не только из-за географической отдаленности. После долгих лет мира армия пришла в довольно запущенное состояние. Полки были недоукомплектованы, дисциплина расшаталась, поход в осеннюю распутицу всем представлялся делом невыполнимым (а вот Фридриха это не останавливало). Плохо было и с боевыми генералами. Полководцев аннинской поры, Миниха и Ласси, уже не было: первый томился в ссылке, второй умер. Елизавета назначила главнокомандующим Степана Апраксина, креатуру канцлера Бестужева. Фельдмаршал состоял президентом Военной коллегии, но армиями никогда не командовал. Хорошо маневрировать он умел только при дворе.
Одним словом, в этом году русские пока еще запрягали и воевали с Пруссией лишь словесно. С. Соловьев цитирует публицистику, печатавшуюся в «Санкт-Петербургских ведомостях» – возможно, это первая в России попытка воздействовать на общественное мнение, которое, стало быть, уже начинает иметь значение. О Фридрихе газета писала с витиеватой суровостью: «…Может статься, что мы еще и такого времени доживем, когда все европейские державы устрашатся видеть такого принца, который под ложными виды и закрытыми намеряется вместо праведных законов такие от себя правила ввести, которые, кроме ненасытного желания и зависти или кроме ложного мнения о славе, другого основания себе не имеют. А сия страсть в таком монархе крайне опасна, который свою власть и силу на зло употребляет». Раньше напечатали бы лубок, обозвали «антихристом», и дело с концом. Все-таки нравы при Елизавете заметно усложнились.
Тем временем Фридрих увеличил свою армию за счет саксонских солдат, а британцы собрали на севере, в Ганновере, войско немецких наемников.
Но и в следующем году русская армия очень долго раскачивалась. Общая сонливость эпохи сказывалась и на манере воевать. Поэтому основные события разворачивались на других фронтах, где Фридриху II приходилось туго.
Он попробовал использовать тот же прием во второй раз: вслед за Саксонией быстро вывести из борьбы Австрию. Но без элемента неожиданности затея не сработала, да и противник был посерьезней.
В начале года пруссаки вторглись на неприятельскую территорию сразу с четырех направлений, разбили одну австрийскую армию и захватили Прагу, но Вена прислала свежее войско, и оно заставило Фридриха попятиться.
Тут наконец завершила военные приготовления Франция и вторглась в Ганновер, разгромив нанятые Англией войска и угрожая коренным прусским землям.
Фридрих кинулся на север, в битве при Росбахе нанес французам поражение, но в это время перешли в наступление австрийцы, а их союзники шведы высадились в Померании.
Прусскому королю пришлось, не добив французов, торопиться в обратном направлении. Он победил австрийцев и помчался к Балтике отгонять шведов.
Надо сказать, что во всей этой сумбурной войне носился и спешил один Фридрих, все остальные участники действовали медленно и неповоротливо. Только за счет этого Пруссия как-то и держалась.
Самыми вялыми оказались русские. Фельдмаршал Апраксин дождался, когда закончится весенняя распутица и двинулся с места лишь в мае, причем небольшое расстояние от Курляндии до Пруссии одолевал почти два месяца, ссылаясь на узость дорог и «сильные жары». Многие (вероятно, небезосновательно) считали, что Апраксин тянет нарочно. Императрица хворала, наследник симпатизировал пруссакам, и многоумный фельдмаршал глядел в будущее.
Все же наступление развивалось и почти не встречало сопротивления, поскольку противник был занят другими фронтами. Русская армия при поддержке флота заняла важный порт Мемель (современная Клайпеда).
В конце концов, пришлось и сражаться, потому что навстречу ускоренным маршем двигался корпус старого фельдмаршала Иоганна фон Левальда. У него имелось вдвое меньше солдат, но пруссаки рассчитывали на легкую победу, потому что были очень невысокого мнения о боевых качествах российской армии.
На рассвете 19 (30) августа у восточнопрусской деревни Гросс-Егерсдорф под прикрытием густого тумана Левальд внезапно атаковал русские колонны пехотой и кавалерией с обоих флангов и с тыла. Одни части приняли удар стойко, другие в беспорядке отступили, и неизвестно, чем кончилось бы дело, если б не решительные действия молодого генерал-майора Петра Румянцева (будущего победителя турок). Со своими четырьмя полками он без приказа ударил в штыковую и повернул ход несчастно начавшейся битвы. Прусские полки смешались, стали отступать. Их план провалился.
Но после этой удачи Апраксин вдруг повернул обратно к реке Неман, ссылаясь на нехватку провианта, изнурение кавалерии и изнеможение пехоты. Считается, что фельдмаршала побудило к отступлению письмо его покровителя Бестужева-Рюмина, который со дня на день ждал Елизаветиной кончины и желал отличиться перед новым императором. Но, как уже говорилось, царица поправилась, а Бестужев угодил под суд. Вместе с ним пал и Апраксин, смещенный с командования и заточенный в тюрьму, где он через несколько месяцев умер.
Нового главнокомандующего не прислали из Петербурга, а взяли из находившихся в армии генералов. Виллим Фермор, родом шотландец, отличился в турецкую войну и слыл человеком храбрым, но как бывший адъютант опального Миниха не пользовался доверием при дворе.
В целом же кампания 1757 года при множестве кровопролитных боев ни одной стороне перевеса не дала и лишь продемонстрировала, что борьба будет долгой.
Союзники требовали от Петербурга, чтобы Россия активнее участвовала в войне, и Фермор, в отличие от Апраксина не имевший тайных политических мотивов, повел себя деятельно. Он не стал дожидаться лета, а начал наступление еще в январе. Впрочем, и при новом командующем русская армия оставалась не особенно стремительной. Почти не защищенную Восточную Пруссию, протяженность которой составляла лишь триста километров, войска завоевывали почти пять месяцев. Потом двинулись в сторону Берлина, в среднем преодолевая пять километров за день, но застряли у крепости Кюстрин.
Порядку в полках стало немного больше, но состояние армии продолжало оставаться неважным. Участник похода князь Александр Прозоровский, будущий фельдмаршал, рассказывает в своих записках, что «дисциплина приняла некоторый вид», «выключая малые солдатские шалости, по-французски marode называемые».
Хуже всего с дисциплиной было в так называемом Обсервационном корпусе, составлявшем значительную часть армии. Создание этого контингента было очередным прожектом неутомимого Петра Шувалова. Осенью 1756 года он придумал некое элитное тридцатитысячное войско, которое будет особенным образом экипировано и вооружено невиданным количеством пушек (разумеется, шуваловских). На эту затею граф получил из казны огромную сумму, больше миллиона рублей. Полки Обсервационного корпуса, наскоро укомплектованные, почти не обученные и в конечном итоге очень скверно вооруженные, были самой слабой частью армии. Положение усугублялось еще и тем, что Петр Иванович командовал корпусом лично – но с дистанции, из Петербурга, эпистолярно.
И вот навстречу этому рыхлому, медлительному войску, спасая свою столицу, отправился сам король Фридрих. Он быстрым маршем прошел пол-Германии, за одну ночь форсировал Одер чуть ниже Кюстрина и немедленно атаковал Фермора.
Четырнадцатого (25) августа у деревни Цорндорф развернулась хаотичная и чрезвычайно кровопролитная баталия.
Несмотря на численное преимущество, русские вели себя пассивно, и Фридрих наскакивал на них со всех сторон, энергично используя свою знаменитую конницу. Шуваловский корпус, как и следовало ожидать, проявил себя неважно. Все правое крыло обороны пришло в расстройство, причем шуваловцы даже не побежали, а кинулись грабить повозки с вином, перепились, стали бить собственных офицеров. Однако центр и левое крыло русской армии держались и не отступали.
Ветер в сочетании с галопирующей кавалерией окутали поле боя огромным облаком пыли, в которой ничего не было видно. До темноты все рубились и резались в рукопашную. Потери были ужасающими: русские потеряли почти половину личного состава, пруссаки – треть. (Пропорционально это больше, чем при Бородине). В неразберихе попали в плен пять русских генералов, зато Фридрих лишился части своих пушек.
Хотя сражение, в общем, завершилось безрезультатно, Фермор решил, что оно проиграно, снял осаду Кюстрина, а затем вообще отступил на север, отказавшись от наступления на Берлин, так что прусский король смог спокойно заняться другими фронтами.
Там борьба шла с переменным успехом. Сначала Фридрих попытался наступать в Австрии, но для успеха ему не хватило сил, и он отступил. В сентябре австрийцы захотели воспользоваться тем, что король воюет с русскими, и вторглись в Саксонию. Фридрих за семь дней добрался туда от Цорндорфа, но его тридцатитысячная армия не смогла удержаться против восьмидесятитысячной австрийской. Зато и австрийцы не сумели воспользоваться победой – они вернулись на свою территорию.
Таким образом, на юге и востоке пруссаки в основном сдерживали более сильного противника, но на северо-западе, действуя против французов вместе со своими английскими и германскими союзниками, они добились серьезных успехов: отвоевали Ганновер и трижды побеждали в сражениях.
Всю зиму русская армия бездействовала и зашевелилась только на исходе весны. В июне она наконец приблизилась к прусским рубежам – и тут Виллима Фермора заменили шуваловским ставленником Петром Салтыковым, который ранее командовал проблемным Обсервационным корпусом. С. Соловьев пишет: «Фермор почему-то славился искусством военным. Петр Семенович Салтыков ничем не славился».
Но Семилетняя война выявила одно замечательное качество русской армии: хоть командование у нее никуда не годилось, рядовые солдаты отличались стойкостью и упорством. В этом отношении российское войско являлось прямой противоположностью прусскому. Фридрих Великий делал ставку на инициативных военачальников, отводя нижним чинам функцию покорных автоматов. Поэтому пруссаки с легкостью пополняли свои ряды за счет пленных – какая разница, кого гонять палками в сражение? В результате полки Фридриха отлично проявляли себя в маневрировании и регулярном бою, но, когда ломался строй, легко поддавались панике. Русские же хорошо дрались и предоставленные сами себе – особенно в обороне.
Вот почему даже при «ничем не славном» командующем оказалась возможна победа при Кунерсдорфе, главный успех русского оружия в этой войне.
В августе на Одере силы союзников соединились; в совместной русско-австрийской армии насчитывалось 64 тысячи солдат – не столь уж значительное превосходство перед пятидесятитысячной армией Фридриха. Этот искусный полководец одерживал победы и при худшем соотношении сил.
Салтыков, разумеется, готовился только отбиваться: расположил свои войска на укрепленных высотах. Инициатива все время была у Фридриха.
Битва при Кунерсдорфе. А. Коцебу
Первого (12) августа он навел мосты через Одер, идеально провел переправу. Ловко расставленная артиллерия легко подавила русские батареи, расположенные бестолково, в низине. Потом король, собрав силы в кулак, обрушил удар на левый фланг обороняющихся (где по несчастью находился все тот же шуваловский корпус), разметал его, потеснил и центр, взял 180 пушек и пять тысяч пленных. Казалось, битва триумфально выиграна.
Но там, где всё зависело не от распоряжений начальства, а от солдатской стойкости, коса нашла на камень. На одной из высот русские встали намертво, и сбить их с места оказалось невозможно, сколько пруссаки ни пытались. Когда атакующая конница, понеся тяжелые потери, опрокинулась на пехоту, та побежала, и остановить охваченную паникой толпу, которой уже никто не управлял, было невозможно. Русская и австрийская кавалерия рубила бегущих. Под Фридрихом убили трех лошадей, он сам еле унес ноги.
Разгром был ужасающим. У короля от всей армии осталось не более трех тысяч человек. Невозвратные потери обеих сторон были примерно одинаковыми (по 15–20 тысяч), но многие прусские солдаты служили подневольно и теперь предпочли дезертировать. «Я не переживу этой жестокой неудачи, – писал Фридрих графу фон Финкенштайну, который в случае гибели монарха должен был стать регентом. – Хуже самой битвы будут ее последствия. У меня не остается резервов, и – признаюсь честно – я думаю, что всё пропало. Гибели отечества я не переживу. Навсегда adieu!».
А дальше произошло нечто очень странное – то, что Фридрих в одном из следующих писем назовет «Mirakel des Hauses Brandenburg» («Чудо, спасшее Бранденбургскую династию»).
Союзники перессорились между собой и вместо того, чтобы пойти на беззащитный Берлин, разошлись в противоположные стороны: русские на север, австрийцы на юг.
Самым ценным качеством Фридриха Великого был даже не полководческий талант, а кипучая энергия. Справившись с отчаянием, он наскоро собрал новую армию и продолжил борьбу, хотя после Кунерсдорфа сил на масштабные предприятия у него уже не хватало.
Не менее важные события происходили на франко-английском театре войны, где всё складывалось прямо противоположным образом: союзники Фридриха все время побеждали.
Год начинался с того, что французы готовились высадиться десантом в Англии, но потерпели несколько тяжелых поражений на морях и остались почти без флота. Это дало Фридриху надежду на заключение не слишком убыточного мира. Британия тоже была не против окончания дорогостоящего конфликта. Не хотела продолжать войну и сильно потрепанная Франция.
Но у Австрии и России после Кунерсдорфского триумфа разыгрался аппетит: первая требовала Силезию, вторая – Восточную Пруссию. На такие условия Фридрих согласиться не мог.
Война продолжилась.
В этом году сняли и Салтыкова, потому что он предложил чересчур робкий план кампании: ни в коем случае не вступать в генеральную баталию, ежели не будет «гораздо превосходнейших сил», и вообще подождать, пока прусская армия сама собой придет в полнейшее изнеможение.
Государыне такой план не понравился. Она велела наступать, но насчет генеральных сражений согласилась – рисковать незачем.
Со столь двусмысленной инструкцией в командование вступил фельдмаршал Александр Бутурлин, про которого участник похода, впоследствии автор известных «Записок» Андрей Болотов пишет: «Сие известие привело нас всех в изумление, и мы долго не хотели верить, что сие могло быть правдою. Характер сего престарелого большого боярина был всему государству слишком известен, и все знали, что не способен он был к командованию не только армиею, но и двумя или тремя полками. Единая привычка его часто подгуливать и даже пить иногда в кружку с самыми подлыми людьми наводила на всех и огорчение, и негодование превеликое. А как, сверх того, он был неуч и совершенный во всем невежда, то все отчаивались и не ожидали в будущую кампанию ни малейшего успеха, в чем действительно и не обманулись».
Единственное значимое событие произошло, когда Бутурлин еще не добрался до ставки: русские взяли Берлин. Это звучит очень пышно по ассоциации с 1945 годом, но на самом деле происшествие было не особенной важности. Во-первых, для Фридриха столицей было место, где находилась его походная палатка, а городом Берлином он не слишком дорожил. Во-вторых, Берлин в этой войне один раз уже брали австрийцы и потом ушли оттуда, взяв с жителей контрибуцию. В-третьих, точно так же повели себя и русские: 9 октября приняли капитуляцию, собрали с горожан 200 тысяч талеров (больше, чем австрийцы), а сразу после этого ретировались, поскольку к Берлину двигался Фридрих.
Прусский король был занят восстановлением армии и довел ее до 200 тысяч солдат, в основном необученных рекрутов и военнопленных. Несмотря на низкое качество своих войск он сумел одержать победу над австрийцами в Силезии, но лишился Саксонии и поспешил туда, чтобы отвоевать эту важную область обратно.
Главная битва 1760 года состоялась между пруссаками и австрийцами 3 ноября при Торгау, где Фридрих опять победил, но, не имея привычки щадить «пушечное мясо», положил чуть не половину своих солдат. Зато вернул себе почти всю Саксонию.
Семилетняя война. М. Романова
Шестой год войны все участники встретили сильно истощенными. Относительно спокойные времена для российской казны остались в прошлом. На армию требовалось два с лишним миллиона рублей, а казна могла выделить меньше полутора. В этих условиях матушка государыня проявила высокую самоотверженность: объявила, что не сложит оружия, даже если будет вынуждена продать половину своих бриллиантов и платьев (а последних у нее, напомню, имелось до пятнадцати тысяч).
Но обошлось без таких жертв. Нехватка снабжения армии компенсировалась скудостью ее действий. Фельдмаршал Бутурлин по большей части стоял на месте. Лучше всех проявил себя Румянцев, герой Гросс-Егерсдорфа: он осадил и взял порт Кольберг, очень важный по своему расположению – туда могли прибывать морем подкрепления и припасы.
Фридриху II приходилось проявлять виртуозную маневренность, чтобы затыкать дыры на всех своих фронтах. Пруссаки два раза – в июле в Силезии, потом в октябре в Саксонии – били австрийцев и два раза в западной Германии французов, но, несмотря на это, их дела были плохи. Война явно клонилась к несчастливому для Фридриха финалу.
В прусской армии суммарно оставалось чуть больше ста тысяч человек, а надо было держаться на востоке против 90 тысяч русских, на юге против 140 тысяч австрийцев и на западе против 140 тысяч французов. Может быть, осторожный Салтыков был не так уж и не прав, когда призывал дождаться вражеского изнеможения.
И вдруг всё, словно по мановению волшебной палочки, переменилось. Двадцать пятого декабря в Петербурге скончалась императрица Елизавета. В тот же самый день от ее преемника Петра III к Фридриху помчался гонец с предложением «возобновления, распространения и постоянного утверждения между обоими дворами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы». Россия выходила из войны сепаратно, без каких-либо условий, из одного лишь преклонения нового самодержца перед великим героем.
Прусский король справедливо нарек этот подарок судьбы «вторым чудом Бранденбургской династии».
Теперь для Пруссии открывались новые перспективы.
Война после этого длилась еще много месяцев, но, поскольку Россия в ней больше не участвовала, ограничимся лишь подведением итогов.
Победа досталась англо-прусской коалиции, причем в первую очередь Англии, потому что Фридрих всего только – ценой огромных потерь и полного разорения – сумел сохранить за собой Силезию, Британия же присоединила обширнейшие колонии в Америке и Индии. Собственно говоря, именно Семилетняя война превратила островное государство в настоящую мировую империю.
Россия, потеряв сто тридцать восемь тысяч солдат, никаких территорий не обрела, но все же, как ни странно, главная цель войны была ею достигнута: истощенная Пруссия временно оставила имперские амбиции и уже не представляла опасности для больших соседей (только для маленьких).
Места для новой империи в Европе пока не хватило. Эти времена настанут позже.
Часть третья
Великое время
Власть
Грустная сказка
Чтобы период национальной истории оказался великим, то есть сопровождался бы грандиозным рывком в развитии, необходимы два условия: во-первых, готовность и даже насущная потребность страны к подобному прорыву и, во-вторых, наличие лидера или лидеров, способных возглавить и направить это движение.
Первое условие к началу 1760-х годов в России вполне созрело, а, пожалуй, что и перезрело. Бывшее московское царство превратилось в империю уже несколько десятилетий назад, и за это время новая государственная система, изжив петровские эксцессы и залечив травмы, вполне утвердилась. Империя немного пошаталась, но в конце концов твердо встала на ноги и теперь могла шагать дальше. Если марш не состоялся, то лишь из-за того что вторая нога хромала: русские самодержцы, а вернее самодержицы, по масштабу личности мало соответствовали потенциям великой державы, раскинувшейся от Балтики до Берингова пролива и окруженной либо слабыми соседями, либо весьма условными границами.
Изменение произошло, когда во главе государства наконец оказалась правительница пускай не петровской энергии, но зато гораздо большего здравомыслия, главное же – чей ум был устремлен не на мелкое, как у Анны или Елизаветы, а на грандиозное. Екатерина II хотела быть великой, и ее амбиции совпали с вектором, на который была нацелена модернизированная евразийская империя.
Эта женщина не обладала ни выдающимися талантами, ни предвидением, ее планы сплошь и рядом оказывались непродуманными, но она высоко целила и умела, промахнувшись, скорректировать прицел – этих качеств для величия оказалось достаточно.
Следует лишь оговориться, что применительно к стране величие вовсе не означает счастья и благополучия жителей. Во всяком случае не в России. Исторически это всегда была довольно странная великая держава, в которой обогащение государства вполне могло сопровождаться обнищанием населения, а громкие военные победы не сопровождались материальными выгодами. Екатерининское величие продемонстрировало эту грустную истину не менее наглядно, чем величие петровское, и привело к огромному народному восстанию, настоящей крестьянской войне.
Верно и другое: в «великие времена» тяжело жить, но про них интересно рассказывать.
Повесть о том, как дочь мелкого немецкого князька стала великой государыней великой империи, – это очередная волшебная сказка, на которые так щедра русская история XVIII столетия. Судьба второй Екатерины по-своему не менее удивительна, чем судьба первой. Та, конечно, начинала совсем уж из ничтожества, зато вторая взлетела на куда бльшую высоту и оставила неизмеримо более глубокий след в истории.
Фортуна вела с Софией-Августой-Фредерикой Ангальт-Цербстской (так звали принцессу) какие-то очень непростые игры. Ее отец, владетель карликового северогерманского княжества площадью в тысячу квадратных километров, был небольшим начальником в армии тогда еще очень скромного королевства Пруссия. Эта отцовская служба и стала первопричиной последующих событий.
В начале 1740-х годов антипрусская «система» Бестужева-Рюмина в российской политике еще не утвердилась, и Елизавета Петровна подумывала женить своего юного наследника Петра Федоровича на сестре нового прусского короля Фридриха II. Но, по выражению С. Соловьева, «Фридриху жаль было расходовать свою сестру на русских варваров», и взамен он предложил прислать в Петербург дочь одного из своих генералов, фюрста Ангальт-Цербстского. Помогло то, что девочка были племянницей несостоявшегося мужа Елизаветы, Карла Гольштейн-Готторпского, умершего накануне свадьбы – для сентиментальной императрицы это имело значение. Она согласилась взглянуть на захудалую принцессу, и София-Августа-Фредерика в сопровождении матери отправилась за тридевять земель на смотрины. Вот и всё, что сделала для четырнадцатилетней немки Фортуна. Дальнейшее – заслуга самой девушки.
В то время как мать настроила против себя царицу и двор своей сварливостью и мелочностью, юная Фикхен (уменьшительное от Фредерики) совершенно очаровала Елизавету, и прежде всего тем, что всячески демонстрировала истовое желание перестать быть иностранкой и сделаться русской. То ли по природной сметливости, то ли в силу врожденного такта девочка выбрала самый правильный для тогдашнего Петербурга стиль поведения. Она старательно учила язык и молитвы, а когда тяжело заболела и ее хотели причастить, попросила позвать православного священника и тем окончательно завоевала сердце государыни. Ее такая невеста вполне устраивала, а жениха никто не спрашивал.
Интересно, что уже в этом возрасте Екатерина Алексеевна (так принцессу стали звать после перемены религии) мечтала не о романтической любви, а совсем о другом. «В ожидании брака сердце не обещало мне много счастья. Одно честолюбие меня поддерживало; у меня в глубине сердца было что-то такое, что никогда не давало мне ни на минуту сомневаться, что рано или поздно я сделаюсь самодержавной повелительницей России», – рассказывает она в своих «Записках». Так всё и будет: мало счастья, но много величия.
Портрет юной Екатерины в охотничьем костюме. Г.-Х. Гроот
Семнадцатилетнего жениха и шестнадцатилетнюю невесту обвенчали в августе 1745 года. Принц, доставшийся ангальтской Золушке, оказался совсем не сказочным.
Бывший Карл-Петер-Ульрих, а ныне Петр Федорович может считаться классической жертвой антипедагогического воспитания, в котором все было перепутано: в годы, когда ребенку требуются любовь и ласка, мальчика держали в ежовых рукавицах и всячески унижали, а начиная с переходного возраста, когда нужна дисциплина, его окружили раболепным почтением и вконец испортили.
В одиннадцать лет он остался круглым сиротой и попал под опеку грубого, неумного воспитателя голштинского обер-гофмаршала Отто Брюммера. Тот при малейшей провинности бил своего подопечного по щекам, лупил хлыстом, ставил коленями на горох, прицеплял ослиные уши и так далее. В то время никто не помышлял, что Карл-Петер может унаследовать российский престол, поэтому учили его не русскому языку, а шведскому – принц ведь считался претендентом на шведскую корону. Но и она ему не светила. Маленькое, бедное, ополовиненное Данией голштинское княжество – вот все, на что он мог рассчитывать.
Когда же четырнадцати лет отрок вдруг был объявлен наследником великой империи и переселился в Петербург, всё переменилось. Петр словно кинулся наверстывать свое непрожитое детство, да так в этом состоянии и зафиксировался. По меткому выражению В. Ключевского, «на серьезные вещи он смотрел детским взглядом, а к детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа».
Попытки приобщить наследника к российским государственным делам были тщетными. В восемнадцать лет он был введен в состав Конференции, высшего правительственного органа, но скучал в нем – зато с большим увлечением, дважды в неделю, заседал с министрами своего крошечного герцогства, которым управлял с расстояния в 2000 километров.
Имея возможность командовать настоящими армейскими соединениями, Петр предпочитал муштровать на прусский манер свою карманную голштинскую воинскую команду, а еще лучше – играть в солдатики с дворцовыми лакеями. Он обожал всякие мелкие шалости и проказы, в церкви передразнивал священников, скакал по дворцу на одной ножке, эпатировал своими выходками придворных дам, а однажды провертел в стене дырку, чтобы подглядывать за императрицей. Та, рассказывают, горько плакала, видя, каков у нее наследник.
Впрочем безжалостные оценки Петра Федоровича, каковых сохранилось великое множество, не следует воспринимать с абсолютным доверием. Почти все они относятся уже к времени Екатерины, которой было выгодно изображать свергнутого супруга ничтожеством и идиотом. Как мы увидим, действия Петра III в качестве императора не соответствуют этому установившемуся образу. И все же нужно сильно постараться, чтобы выудить из воспоминаний современников что-то положительное об этом царе-неудачнике. Князь Щербатов пишет, что Петр был «одарен добрым сердцем»; еще он отличался хорошей памятью и мог без запинки перечислить всех русских государей, начиная с Рюрика; знал несколько языков (хоть по-русски изъяснялся неважно); не любя отвлеченные науки, охотно изучал дисциплины практические вроде фортификации или баллистики, в чем был очень похож на своего великого деда. Вот, пожалуй, и все достоинства мужа, который достался Екатерине.
Сначала он пытался превратить жену в соучастницу своих ребяческих забав: учил делать манипуляции с ружьем, стоять на карауле, играл с нею в карты и в солдатики. Если бы целью Екатерины было супружеское счастье, она, вероятно, отнеслась бы ко всему этому с умилением, но, как мы помним, целью честолюбивой девушки являлась не любовь, а величие. Инфантилизм мужа вызывал у великой княгини только презрение. Меж ними возникло отчуждение, постепенно перешедшее во враждебность. Понадобилось чуть ли не десять лет, чтобы этот брак выполнил свою династическую задачу – призвел наследника. В 1754 году родился мальчик (ходили и до сих пор ходят слухи, что настоящим отцом был камергер Салтыков). Императрица велела назвать младенца Павлом и забрала его к себе. Екатерине разрешалось видеться с сыном редко, в присутствии государыни. Таким образом, ни настоящей жены, ни настоящей матери из молодой женщины не получилось. Рождение сына не улучшило, а ухудшило ее положение. Теперь она исполнила свою функцию и стала никому не нужна. Третируемая мужем и царицей, окруженная наушниками и ябедниками, она вела печальное, полное унижений существование – и так длилось целых 18 лет.
Единственным утешением Екатерины (пока она не научилась заводить любовников) было чтение книг, питавшее ее ум и стимулировавшее, казалось, несбыточные мечты о великих деяниях. Начинала она с романов, потом перешла к чтению серьезному, сформировавшему ее взгляды. Это были в первую очередь сочинения французских просветителей: Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро, Д’Аламбера. «Никогда без книги и никогда без горя», – так описывала она свою уединенную жизнь.
Вела себя при этом великая княгиня очень умно – старалась со всеми ладить, была скромна и тактична, скрытна, осторожна, демонстративно набожна и патриотична. Сама она пишет об этом следующим образом: «Я не обнаруживала предпочтения ни в какую сторону, ни во что не мешалась, показывала всегда ясный вид, много предупредительности, внимания и учтивости ко всем, и так как я от природы была очень веселого нрава, то с удовольствием видела, что день ото дня приобретала более привязанности в публике, которая смотрела на меня как на интересную и неглупую молодую особу. Я оказывала большое почтение к моей матери, беспредельную покорность императрице, глубокое уважение к великому князю и прилагала величайшее старание снискать любовь публики».
Неудивительно, что со временем у супруги наследника появились серьезные союзники, рассчитывавшие ее использовать в политических целях. Царица постоянно болела, и большие люди тревожились за свое будущее. Шуваловы делали ставку на Петра; враждовавшие с ними Разумовские стали ориентироваться на Екатерину. Уже тогда, во второй половине 1750-х, многим приходило в голову, что она больше пригодна для роли монарха, чем легкомысленный голштинец. Бестужев-Рюмин, зная о пропрусских симпатиях наследника, развернул целую интригу в пользу Екатерины, что, как уже рассказывалось, закончилось для хитроумного канцлера политическим крахом. Попала в немилость и великая княгиня, чуть было не высланная из России. Свое положение Екатерина сохранила лишь благодаря ловкости и присутствию духа, но с тех пор постоянно находилась под подозрением и надзором. От своих честолюбивых планов она, впрочем, не отказалась и стала заводить новых сторонников, о которых речь впереди. Была надежда на то, что Елизавета, очень недовольная своим беспутным наследником, передаст корону маленькому Павлу Петровичу, а Екатерина станет регентшей.
Возможно этим бы и закончилось, но царица умерла раньше, и на престол без каких-либо осложнений взошел давно утвержденный преемник.
Со смертью Елизаветы Петровны болезненная династия Романовых, ни один мужчина которой не дожил до старости, пресеклась окончательно (из десяти монархов двое, Екатерина I и Иоанн VI, строго говоря, не были Романовыми). На русском престоле утвердился Гольштейн-Готторпский дом, который во имя преемственности взял себе прежнее имя. Отныне и до самого конца империи страной правили самодержцы, доля русской крови у которых постоянно уменьшалась. Последний царь Николай II будет русским на полтора процента (что, впрочем, не сильно отличалось от ситуации с другими европейскими династиями, где было принято женить наследников на иностранных принцессах).
Короткое царствование Петра III
Репутация пустоголового ничтожества настолько приросла к супругу Екатерины, что, непредвзято рассматривая его действия в качестве самодержца, испытываешь некоторое удивление. За шесть месяцев своего правления Петр III успел не так уж мало, причем его решения и указы выглядят совсем не глупо.
Начнем с единодушно осуждаемого отечественными историками замирения с Фридрихом II. Принято считать, что из-за одного ребяческого преклонения перед великим полководцем новый русский император свел на нет все жертвы и траты четырех лет войны, отказавшись от территориальных приобретений и избавив Пруссию от неминуемого разгрома. Однако тут возникают вопросы. Курляндия, которую желала присоединить Елизавета Петровна, и без того находилась в зоне российского влияния (впоследствии она войдет в состав империи безо всякого кровопролития). Что же касается Пруссии, то ее силы и так уже были подорваны, опасности это королевство более не представляло, а вот окончательное его уничтожение чрезмерно возвысило бы Австрию и изменило баланс европейских сил. Вряд ли это было бы на пользу Российской империи. Самым убедительным доказательством разумности выхода русских из конфликта является то, что, захватив власть, Екатерина и не подумала возобновить боевые действия, хотя европейская война еще не завершилась.
Таким образом, Петр III дал своей державе мир и обеспечил ей на будущее очень выгодные позиции в Европе: ближайшие соседи, Австрия и Пруссия, во-первых, обе теперь находились в неплохих отношениях с Россией, а во-вторых, гораздо больше ослабленные войной, должны были относиться к ней как к старшему партнеру (чем вскоре и воспользуется Екатерина при разделе Польши). Чем же тогда, даже с имперской точки зрения, была дурна мирная инициатива Петра Федоровича?
Начал он свое правление еще и с того, что помиловал многих, кого репрессировали при Елизавете, то есть оказался милосерднее своей восхваляемой за доброту предшественницы. Вернулись из заточения и ссылки Бирон и Миних, изломанный на пытке Лесток, лишенные языка светские сплетницы Наталья Лопухина с Анной Бестужевой, равно как и многие другие. Единственный, кто не был прощен, – интриговавший против Петра Федоровича бывший канцлер Бестужев, но никаким новым гонениям его не подвергли. Опал вообще не было. Фаворит скончавшейся царицы Алексей Разумовский, враждебный Петру Федоровичу, просто переселился в свой дворец; его брат Кирилл остался при всех своих должностях.
В правительстве было несколько дельных людей: Иван Шувалов, Михаил Воронцов, тайный секретарь Дмитрий Волков. Последнего считают автором изданных в это время постановлений, среди которых не было ни одного вздорного, а несколько представляются почти революционными.
Одним из первых указов император отменил высокие цены на соль, установленные по инициативе прожектера Петра Шувалова, что сильно облегчило жизнь народа. Затем была упразднена зловещая Тайная канцелярия, причем в документе говорилось: «Ненавистное выражение, а именно “слово и дело”, не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем: не употреблять оного никому». Поистине эпохальное событие! Отменялись преследования против старообрядцев, которым дозволялось беспрепятственно следовать своей вере и обычаям, а тем, кто эмигрировал, дозволялось вернуться на родину. Был учрежден Государственный банк, которому поручалось напечатать бумажные деньги «яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство» – важная веха в истории российского финансового дела.
Император Петр III. Неизвестный художник. XVIII в.
Главное же – были приняты два закона, имевшие огромное историческое значение: о дворянской вольности («Дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают») и о секуляризации церковных земель, отчуждавшихся в пользу государства. Эти меры были подхвачены и реализованы уже при Екатерине, которая всю заслугу забрала себе, поэтому подробнее мы остановимся на них позднее.
Н. Павленко пишет, что за полгода этого царствования новых законов было обнародовано едва ли не больше, чем за двадцатилетнее правление Елизаветы. Когда же обрадованное предоставленной вольностью дворянство выразило желание собрать деньги на золотую статую благодетелю, Петр ответил: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных».
Нет, этот человек в государственных делах определенно не был тем беззаботным дурачком, каким его изображают. Если же он не сумел воздвигнуть себе «долговечного памятника», то причина здесь состояла в беззаботности иного рода – неумении удержать на голове корону.
В качестве чуть ли не основной причины непопулярности Петра III поминают подготовку войны с Данией за чуждые русскому солдату голштинские интересы, но можно подумать, солдаты понимали, ради чего они прежде воевали с Пруссией. Ради того, чтобы Австрия вернула себе Силезию? К тому же до сражений дело скорее всего не дошло бы. Дания очень испугалась противостояния с Российской империей, которой к тому же обещал поддержку Фридрих, и выразила готовность участвовать в «негоциях» по голштинскому вопросу.
Причина краха заключалась в ином: Петр недооценил опасность своей жены и размеры ее честолюбия.
В записках Екатерины много написано про то, как ее унижал отвратительный супруг, заведший себе любовницу (племянницу канцлера Воронцова) и публично оскорблявший свою жену, кроткую овечку. И всё это правда. Но правда и то, что кроткая овечка, во-первых, тоже имела любовника, а во-вторых и в главных, замышляла свергнуть своего мужа. Вокруг нее возник заговор – даже два заговора. В первом участвовали большие персоны: граф Кирилл Разумовский и Никита Панин, видный дипломат, воспитатель наследника. Они ждали момента, когда царь отправится в датский поход, чтобы возвести на престол маленького Павла Петровича. Скорее всего, из этого плана ничего не вышло бы, поскольку возглавляли его персоны неторопливые и очень осторожные. Но существовал и другой кружок, состоявший из людей несановных, обычных офицеров, зато решительности у них было в избытке, а опыт прежних гвардейских переворотов показывал, что горстка смельчаков вполне может захватить власть, если объединится вокруг хорошего претендента. Во главе тайного общества стояли братья Орловы, очень популярные в офицерской среде – прежде всего Григорий, возлюбленный Екатерины, и Алексей, самый предприимчивый и активный из всего этого напористого семейства. Они готовили свое отчаянное предприятие и все время расширяли круг сторонников, так что к концу заговорщиков набралось сорок человек и даже возникло нечто вроде правильной структуры из четырех «отделов».
Принято считать, что столь обширная организация осталась нераскрытой из-за беспечности Петра, очень некстати распустившего Тайную канцелярию, но вряд ли это так. Основной функцией упраздненного учреждения было внушать подданным трепет перед властью, а не защищать ее от покушений. С настоящими угрозами этот орган справлялся плохо. Напомню, что в 1741 году Тайная канцелярия не обнаружила еще более неряшливый заговор Елизаветы Петровны против тогдашнего правительства.
Петр III ускорил назревавший конфликт тем, что не скрывал своего намерения так или иначе отделаться от опостылевшей супруги. До Екатерины доходили тревожные слухи, что царь собирается не то посадить ее в крепость, не то упечь в монастырь – одним словом, развестись. Эти разговоры побуждали молодую женщину к действию. Как и в случае с Елизаветой, главной причиной переворота стал страх за будущее.
Молодые офицеры тоже торопили события. Петр неосторожно себя вел не только с женой, но и с гвардией, которой совершенно справедливо не доверял, называл ее «янычарством» и вслух сетовал, что она держит правительство в заложниках. Поговаривали, что император собирается вовсе отменить эти привилегированные части. Гвардейская среда была сильно раздражена – не в последнюю очередь еще и тем, что государь отдавал явное предпочтение чужакам, голштинским выходцам. Если уж Петр хотел провести реформирование гвардии, надо было делать это быстро и твердо, а так получилась лишь игра со спичками.
Огонь вспыхнул неожиданно, в незапланированный момент. Столь широкий заговор, в котором участвовало множество не привычных к конспирации молодых людей, рано или поздно должен был по какой-нибудь случайности обнаружиться даже и без тайной полиции. Это и произошло 27 июня (8 июля), когда капитан Пассек, руководитель одного из четырех «отделов», вдруг был арестован. О заговоре начальство пока не знало, но кто-то сболтнул лишнее, и возникли подозрения.
Остальные офицеры пришли в страшное возбуждение, и Орловы взялись за дело, не спрашивая Екатерину – по сути дела поставили ее перед фактом.
События завертелись с невероятной скоростью.
В это время супруги жили порознь: Петр – в любимом загородном дворце Ораниенбаум, с фавориткой и своими любимыми голштинцами, Екатерина – в Петергофе. Туда рано утром следующего дня примчался Алексей Орлов, сержант-семеновец, и разбудил императрицу, сказав, что Пассек арестован и что «всё готово», надо ехать. Следует отдать Екатерине должное – в этот роковой миг она не отступилась, да и поздно было отступаться.
«Всё готово» означало лишь, что в Петербурге, в одной из гвардейских казарм, собралось два десятка заговорщиков. Они сначала подняли Измайловский полк, ничего толком солдатам не объяснив, а лишь заставив их кричать «Да здравствует императрица!». Отправились в следующий полк, Преображенский, где возникла было заминка – нашлись офицеры, не желавшие участвовать в бунте, но они оказались в меньшинстве, общее недовольство Петром возобладало.
Дальше пошло легче. Восстание росло, как снежный ком. Гвардейские части присоединялись к нему одна за другой, и к полудню Екатерина стала хозяйкой положения в столице. Она устроила нечто вроде сбора близ Казанского собора, куда явились уже и некоторые вельможи – в том числе гетман Разумовский и Никита Панин. Наскоро призванное духовенство отслужило молебен, Екатерину тут же провозгласили самодержавной императрицей. Сразу после этого в Зимний дворец истребовали всех наличных сенаторов и членов Синода, стали приводить их к присяге.