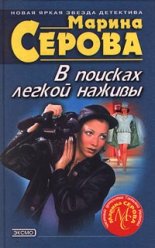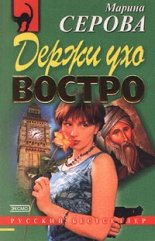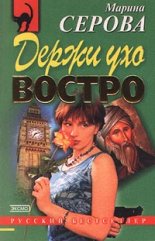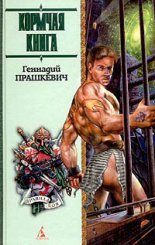Диалоги с Иосифом Бродским Волков Соломон
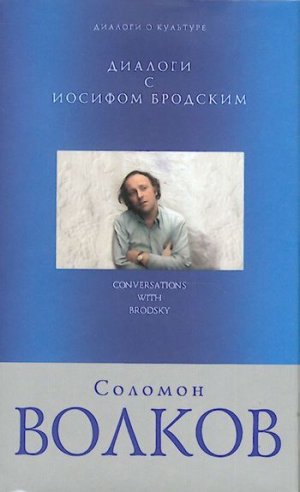
ИБ: Но все-таки мы настоящую совместную работу над этими переводами откладывали на будущее: вот, сядем когда-нибудь на досуге и займемся Кавафисом в свое удовольствие. Но будущее — это, по определению, такая вещь, которая все время отодвигается, да? Надо зарабатывать деньги, надо выживать. В связи с чем у Шмакова была масса всяких других насущных проектов. Много времени у него уходило на тесное общение с Либерманами — Алексом и особенно его женой Татьяной, весьма, как вам известно, примечательной женщиной. Он ведь стал у них как бы членом семьи. И потому мы совместную работу над Кавафисом забросили. Но когда он заболел, я ему сказал: «Дай мне эти твои переводики Кавафиса, мы посмотрим, что с ними можно сделать». Я решил сделать это, чтобы Шмакова не столько развлечь, сколько отвлечь хотя бы немного. И в итоге двадцать стихотворений отредактировал. То, что Шмаков по отношению к Кавафису предпринял — это огромная работа. Невероятно, что один человек все это сделал. И сделал в ситуации, когда никакой перспективы увидеть это напечатанным у него не было. Вообще это диковатая история.
СВ: А какого вы мнения о вышедшей в Москве книжечке переводов из Кавафиса работы российских поэтов?
ИБ: Чрезвычайно посредственное издание. Это при том, что не хотелось бы говорить ничего дурного о людях, которые в этом предприятии участвовали. Редактировала эту книжку Кавафиса довольно профессиональная женщина — Софья Ильинская, которая первой представила этого поэта русскоязычной публике. И редактура ее, и вступительная статья довольно хороши. И там есть несколько приличных переводов, но также масса чудовищных неряшливостей. Многие поэты, видимо, считают, что в переводах сойдет то, чего нельзя допустить в собственных стихах.
СВ: Значит, вы все-таки считаете, что Кавафиса русской аудитории следует представить в переводах Шмакова?
ИБ: Вне всякого сомненья. Прежде всего потому, что Шмаков знал новогреческий. А в том издании, которое вы упомянули, только его редактор знал этот язык. Но даже ее переводы, включенные в эту книжечку, представляются мне не вполне удовлетворительными. То есть человек знает, с чем он имеет дело, но воспроизвести не может. Все-таки для этого нужна поэтическая интуиция или, по крайней мере, какая-то техническая сноровка. И хотя для переводов этой книжки Кавафиса были привлечены высокопрофессиональные люди, именно с технической стороной дела у них обстояли весьма мрачно. А это недопустимо.
СВ: Меня в связи со Шмаковым вот какая вещь интересует. Он ходил по Ленинграду эдаким павлином, распускал хвост (кстати, это его собственное выражение, он сам о себе часто говорил с некоторой иронией). Знание иностранных языков, подчеркнуто светские манеры — все это делало его фигурой экзотической. Вдобавок известный гомосексуалист и балетоман — обстоятельства, еще более эту экзотичность обострявшие. При этом он воспринимался, как настоящий петербуржец — в традиции Михаила Кузмина, что ли. Американцы таких называют quintessential Petersburger. И вдруг уже здесь, в Нью-Йорке, скульптор Эрнст Неизвестный рассказал мне, что Шмаков — родом с Урала, все его рассказы о боннах, которые якобы в детстве учили его иностранным языкам — это фантазии… И так далее. Как, по-вашему, человек делает себя вот таким «настоящим петербуржцем»?
ИБ: Как делает… Соломон, давайте поговорим об этом медленно. Потому что у меня от этого включенного магнитофона вдруг появляется такое ощущение, что мне надо торопиться. Давайте помедленнее, хорошо?
СВ: Конечно, конечно…
ИБ: Видите ли, я вообще считаю, что настоящим снобом человек может стать, только если он из провинции. Когда я говорю о снобизме, то употребляю это слово вовсе не в негативном смысле. Ровно наоборот. Снобизм — это форма отчаяния; уж не помню, кто это сказал, может быть, даже я сам. Но это неважно… Человек из провинции — у него уже просто по определению аппетит к культуре покрепче, чем у человека, который в этой культуре, в этой среде вырос. И в результате со Шмаковым произошла совершенно феноменальная история. Потому что если рассматривать его не как конкретного человека, а как некий символ, то он прошел все стадии культурного развития. Он родился в провинции и вначале смотрел на культуру чрезвычайно издалека. И постепенно приближался к ней огромными скачками, пока не оказался просто-напросто в Италии. И я даже сказал бы больше. Когда ты совершаешь следующий шаг, следующий прыжок, то есть когда ты перемещаешься в Соединенные Штаты, то возникает такая парадоксальная ситуация: ты как бы пробурил культуру насквозь — знаете, как крот — и вышел с другой ее стороны, и уже смотришь на культуру с другой стороны, то есть — из другой провинции. Не знаю, внятно ли я все это вам объясняю. Возьмем схожий пример: одним из самых, я бы даже сказал, изысканно-извращенных существ в английской литературе был Ди Эйч Лоуренс. А он как раз был родом из шахтерской семьи, откуда-то с севера Англии. И полюбуйтесь, во что он превратился.
СВ: Вы знаете, я разговаривал на эту тему с Андреем Битовым, и он считает, что в Петербурге все воспитывает человека — и проспекты, и здания, и даже просто камни. И вода тоже. То есть ты просто ходишь по городу и получаешь литературное образование. Потому что в общении с петербургскими камнями ты сразу попадаешь в какой-то литературный контекст. И таким образом становишься петербуржцем, даже если ты приехал туда из другого места. Мне эти рассуждения Битова показались очень убедительными.
ИБ: Вы знаете, Соломон, мы ведь все проецировали себя на старый Петербург. Это естественно. У каждой эпохи, каждой культуры есть своя версия прошлого. Например, существует немецкая Древняя Греция XVIII века. Существует английская Древняя Греция. Есть французская Древняя Греция. Хуже того — есть греческая Древняя Греция, и так далее. А внутри каждого такого большого пласта существует еще разбивка по поколениям. И у каждого последующего поколения взгляд на прошлую культуру меняется и, разумеется, становится все более и более расплывчатым. Что для меня во всем этом интересно, так это то, на что именно каждое поколение наводит увеличительное или уменьшительное стекло. То есть что оно в прошлой культуре выделяет, а что — игнорирует. И мне интересен вот этот механизм выживания культуры посредством того или иного поколения; что именно выживает, а что погибает.
СВ: То есть вы считаете, что это мы одухотворяем камни, а не камни — нас?
ИБ: Камни или не камни, объясняйте это как хотите, но в Петербурге есть эта загадка — он действительно влияет на твою душу, формирует ее. Человека, там выросшего или, по крайней мере, проведшего там свою молодость — его с другими людьми, как мне кажется, трудно спутать. То есть для начала нас трудно спутать, скажем, с москвичами уже хотя бы по той причине, что мы говорим по-русски иначе, да? Мы произносим «что», а не «што». Хотя можем и «што» произнести…
СВ: И не поморщиться…
ИБ:… да, не поморщиться и даже испытать от этого некоторое удовольствие. Но при этом, произнося «што», в подкорке мы помним, что нужно-то сказать «что». Вот такой примерно расклад.
СВ: Если я не ошибаюсь, Блок был первым великим русским поэтом, родившимся в Петербурге. Для нас Пушкин так тесно связан с Петербургом, что мы забываем: родился-то он в Москве. И Достоевский родился в Москве. Это учиться они приехали в Петербург. Или вот другой пример, уже из советской эпохи. Для меня поэты группы ОБЭРИУ — настоящие петербуржцы. И действительно, Хармс и Введенский родились в Петербурге. Но Заболоцкий, к примеру, родился под Казанью, а вырос в Вятке и Уржуме. Олейников — вообще казак, откуда-то с Кубани. А стихи они оба писали в высшей степени петербургские.
ИБ: Вы знаете, Соломон, а у меня подобного ощущения от всей этой группы нет. И даже от Заболоцкого, которого я очень люблю. Хотя Заболоцкий и писал замечательные стихи об Обводном канале, об этой знаменитой пивной — «Красная Бавария». Это совершенно другая стезя, не петербургская. Не будем сейчас говорить обо всей петербургской культуре, потому что это нечто необъятное, хотя, конечно, можно было бы засесть и вычислить: кто к ней принадлежит, а кто — нет. Но если говорить только об изящной словесности в Петербурге, то ей свойственен совершенно определенный тон. Кажется, это Мандельштам сказал об «эллинистической бледности» Пушкина, да? Существует такое понятие — гений или дух места, genius loci. Кстати, потому мы и говорим о гении места, что место-то само уже другое, оно изменилось. Но тем не менее, если говорить о genius loci Петербурга, то он действительно сообщает литературе этого города некоторую «бледность лица».
СВ: Я понимаю, «бледность» не в смысле цвета лица, а как understatement. Мандельштам, мне помнится, говорил о «бледных молодых побегах нашей жизни»…
ИБ: Если уж говорить о бледности петербургского лица в плане метафорическом, то оно представляется мне незагорелым и, если можно так сказать, изголодавшимся — по культуре, свету…
СВ: Это как в стихах у Слуцкого: «Его кормили. Но кормили — плохо». Тоже, кстати, о поэте написано!
ИБ: Дело в том, что на петербургской изящной словесности есть налет того сознания, что все это пишется с края света. Откуда-то от воды. При этом я не имею в виду какого-то слияния со средой, с элементами. Это не является чем-то утробным. Но если можно говорить о каком-то пафосе, или тональности, или камертоне петербургской изящной словесности, так это — камертон отстранения. Даже если вы там какой-нибудь Блок и собираетесь или принимаетесь говорить о судьбе всей державы и о будущем нации. Даже и в Блоке, даже в нем присутствует ощущение этой сдержанности, которая берется в некотором роде от сырости. То, что мы можем назвать «петербургской гнилью» — это, может быть, единственный воздух, который достоин того, чтобы попадать в человеческие легкие.
СВ: С этим я соглашусь, но возражу по поводу группы ОБЭРИУ. Почему-то сложилась странная ситуация, когда типично московский по установке и приемам роман Андрея Белого «Петербург» стал считаться чуть ли не образцовым петербургским произведением, а тексты ОБЭРИУ выводятся за пределы петербургской традиции. Я здесь могу сослаться на авторитет Ахматовой. Она всегда говорила, что в романе Белого ничего петербургского нет. В то же время прозу Хармса и близкие к ней, в каком-то смысле, произведения Зощенко она ценила чрезвычайно высоко.
ИБ: Одну секунду, одну секунду! Зощенко — замечательный писатель, о чем речь. Что касается Хармса, то я помню слова Ахматовой о том, что он мог описать, как человек вышел на улицу, идет-идет и вдруг — полетел. И добавляла: «Такое только у Хармса могло получиться, больше ни у кого». И если считать, что задачей прозы является описание таких вот экстраординарных ситуаций, то тогда и Хармса можно считать замечательным автором. Но вместе с тем — это не петербургская проза, а поэзия группы ОБЭРИУ — не петербургская поэзия. По крайней мере я их произведений с идеей Петербурга не увязываю. Хотя все эти люди и писали в двадцатые-тридцатые годы нынешнего столетия в этом городе. А о Белом я скажу сейчас ужасную вещь: он — плохой писатель. Все.
СВ: И главное, типичный москвич! Потому что существует достаточное количество и петербургских плохих писателей, но Белый к ним не относится. Что же касается ОБЭРИУ, то как вы объясните такое совпадение: расцвет этой группы сюрреалистов и дадаистов в Ленинграде, который об ту пору был, может быть, самым сюрреальным городом на земле? Разве это случайность?
ИБ: Но в этом же городе об ту же самую пору существовал, простите меня, и Константин Вагинов — совершенно феноменальный автор и настоящий, на мой взгляд, петербуржец. Или в несколько меньшей степени — Леонид Добычин.
СВ: Я разделяю с вами восторженное отношение к Вагинову. Но он, между прочим, тянулся к той же самой группе ОБЭРИУ, некоторые исследователи его к ней и причисляют. А Добычин всегда стоял особняком — его в Ленинграде сравнивали с Джойсом и Прустом, хотя писал он микроскопические рассказы. Помните, была такая литературная шутка — «выученик хедера имени Марселя Пруста»? На самом деле у всей ленинградской прозы двадцатых-тридцатых годов можно найти общие черты: у Хармса, у Вагинова, у Добычина, у Александра Грина и у Зощенко, которого все мы, слава Богу, обожаем.
ИБ: Ну, Зощенко замечателен прежде всего как «вокс попули» в литературе. Нечто в этом роде.
СВ: Ну а его поздняя проза — эти короткие отточенные новеллы, разве это не типично петербургская литература? Разве в них нет той «бледности», о которой вы говорили?
ИБ: Подождите, вы что имеете в виду — «Перед восходом солнца»? Никакой отточенности я в этой книге Зощенко не заметил. Там, по-моему, все заслоняет доморощенный фрейдизм.
СВ: Бог с ним, с фрейдизмом. Зато какие нагие, простые слова!
ИБ: К сожалению, заслоняет.
СВ: А как же с доморощенным бахтинизмом Вагинова? Ведь Вагинов был членом кружка Бахтина в Петербурге. Разве философские отступления Вагинова вас не раздражают?
ИБ: Этого господина я обожаю.
СВ: Я всегда ощущаю ткань романов и стихов Вагинова как типично петербургскую. А вы?
ИБ: Правильно, именно о ткани в данном случае и нужно говорить. Потому что ткань произведений Вагинова — это такая старая, уже посыпавшаяся гардина, да? В текстах Вагинова меня особенно привлекает это ощущение как бы ненапряженного мускула — не то чтобы даже обмякшего, а дряблого мускула. Это постоянно чувствуется и в его композиции, и в интонации.
СВ: А куда бы вы причислили Владислава Ходасевича — к московской литературной школе или к петербургской?
ИБ: Внутренне я отношу Ходасевича к Петербургу, хотя в его произведениях много и других веяний. Но его интонация, особенно в белых стихах, — для меня это, безусловно, Петербург. Я очень отчетливо помню, как впервые познакомился со стихами Ходасевича. Его сборник «Путем зерна» я прочел, когда мне было, наверное, двадцать один или двадцать два года — в той же самой библиотеке Ленинградского университета, где я тогда разыскал и «Камень» Мандельштама. О Мандельштаме и говорить нечего, но стихи Ходасевича я тоже многие помню до сих пор наизусть, как это ни странно.
СВ: А Набоков?
ИБ: Его «Камеру обскуру» я прочел, когда мне было, думаю, года двадцать два-двадцать три. Это было первое произведение Набокова, с которым я познакомился. А года через два-три я уж прочел все, что только можно было из Набокова об ту пору в Советском Союзе получить. Все-таки Набоков, как и Ходасевич, был эмигрантом. С эмигрантской литературой в Советском Союзе всегда было немного сложнее.
СВ: А «Другие берега» Набокова вы тоже прочли еще в Ленинграде?
ИБ: «Другие берега», как и англоязычный вариант этой книги — «Speak, Memory» — я прочел, как это ни странно, только на Западе. И на меня это не произвело того впечатления, которое эта книжка производит на большинство читателей.
СВ: Неужели чтение Набокова не вызвало в вас никаких ностальгических эмоций?
ИБ: Точно — нет. Для меня Набоков — как это, опять же, ни странно — вообще писатель не из Петербурга, а из какого-то другого места. Я его воспринимаю скорее как какого-то московско-берлинского писателя. Не знаю, как это вам объяснить. Думаю, что меня до известной степени отпугивает аппетит Набокова к реальности. Этот господин весьма повязан материальным миром. И именно в этом смысле он для меня слишком «современный», что ли. Хотя я понимаю, что это мое ощущение может быть чисто субъективным.
СВ: Помните, вы как-то говорили мне, что воспринимаете всю жизнь и творчество Набокова как некую гигантскую рифму. То есть внутренне рифмуются две его «Лолиты» — русская и англоязычная, два варианта его мемуарной книги, еще шире — его русские и англоязычные романы, и даже то, что Набоков писал и прозу, и стихи. И объясняли вы это тем, что Набоков всю жизнь хотел быть именно поэтом, хотя стихи у него, как мы знаем, не очень-то, с прозой не сравнить. Вот он бессознательно и зарифмовал все свое существование. И отсюда же — столь любимая Набоковым литературная фигура двойника.
ИБ: Да, принцип рифмы пронизывает все творчество Набокова. И тут, противореча себе, я мог бы сказать, что в этом нетрудно усмотреть влияние Петербурга, поскольку именно в родном городе идея отражения всегда была, натуральным образом, чрезвычайно сильна.
СВ: Ну конечно — вспомним Достоевского! Недаром существовало такое понятие — «петербургская гофманиада». Невозможно себе представить «московскую гофманиаду». И еще одно соображение. Я ведь не зря спрашиваю о ваших юношеских реакциях на Ходасевича или Набокова. Помните, мы в свое время говорили о том, что я называю «зарубежной ветвью» петербургского модернизма, — а точнее, о Стравинском, Набокове и Баланчине? Последние годы я работал над историей культуры Петербурга. И для меня со все большей ясностью вырисовывается следующая картина. Стравинский, Набоков и Баланчин — не только они, но главным образом эти трое — поддерживали на Западе легенду о Петербурге в то время, когда в Советском Союзе эта легенда всячески искоренялась и загонялась в подполье. И, на мой взгляд, произошла такая любопытная вещь: этот сохраненный на Западе имидж Петербурга с помощью западного радио, нелегально поступавших в Советский Союз книг, а также гастролей Стравинского и танцевальной труппы Баланчина, вновь вернулся в Россию и помог там выжить этой самой петербургской легенде. Так мне сейчас кажется. Совпадают ли наши ощущения?
ИБ: Вы знаете, Соломон, мне трудно рассуждать в столь общих категориях. Но я думаю что конечно же что-то в этом роде имело место. Хотя, как мне кажется, этот возврат, о котором вы говорите, начался несколько раньше гастролей Стравинского и театра Баланчина. Правда, здесь я могу говорить только о самом себе. В возрасте между двадцатью и тридцатью годами я прочел довольно много произведений будущих эмигрантов — и того же Ходасевича, и Георгия Адамовича, и Георгия Иванова — изданных или до революции, или же в первые послереволюционные годы. Вы же помните, какие у нас в Ленинграде были замечательные букинистические магазины.
СВ: Еще бы! За трешку можно было купить и Ходасевича, и Кузмина.
ИБ: Да, все что угодно! И, конечно, огромную роль играло западное радио на русском языке — вдруг услышишь, не знаю уж, какого-нибудь Владимира Вейдле, с его велеречивостью, вещающего о Серебряном веке… С другой стороны, меня берет сомненье, когда вы говорите про Баланчина или про того же Стравинского. Потому что для меня Баланчин — это явление, во-первых, чисто визуальное (может быть, потому, что балет для меня никогда не был большой реальностью), а во-вторых, — до известной степени заграничное, а не петербургское. То же самое и Стравинский. Это не та музыка, которая в моем сознании ассоциируется с родным городом. Правда, и Шостакович для меня с родным городом не ассоциируется. Об этом немножко неловко говорить, потому что тут возникает элемент снобизма, и не того снобизма, о котором я говорил в связи со Шмаковым. С другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, если нас обвинят в снобизме, пусть их. Все равно нас в чем-нибудь обвинят. Мне вот самому захотелось попробовать определить, что есть «петербургское» в данном контексте. Это — ясность мысли и чувство ответственности за содержание и благородство формы. Вот так. Нет, я попробую снова… Поскольку «благородство формы» — это как-то не очень убедительно звучит… Если попробовать точнее, то это — трезвость формы. Трезвость сознания и трезвость формы, если угодно. Это не стремление к свободе ради свободы, а идея — вызванная духом места, архитектурой места — идея порядка, сколько бы он ни был скомпрометирован. Это стремление к жанровому порядку, в противовес размыванию границ жанра, размыванию формы. Если угодно, это то, что греки называли «космос», то есть порядок. Ведь когда греки говорили о космосе, то имелся в виду не только космос небесных тел, но и космос военных построений, и космос мысли. И тут петербургское в культуре смыкается, по Мандельштаму, с эллинизмом. Это идея о том, что порядок важнее, чем беспорядок, сколько бы последний ни был конгениален нашему ощущению мира. Эстетический эквивалент стоицизма — вот что такое Петербург и его культура.
СВ: А что вы скажете об имперской идее в петербургской культуре?
ИБ: Какая такая имперская идея?
СВ: Ведь Петербург с самого начала замысливался как имперская столица. Отсюда и легенды эти — о том, что сам Петр Великий выкопал на месте основания города первый ров, о том, что над ним при этом парил орел…
ИБ: Какие уж орлы в этой местности? Скорее уж над головой Петра парили вороны…
СВ: Помните, испокон веку говорили: «Москва — третий Рим»? Поскольку вторым Римом почитался Константинополь… Так вот, Петр Великий эту идею «третьего Рима» начал проецировать на основанный им Петербург.
ИБ: Петр? Идею «третьего Рима»? На Петербург? Да вы что, Соломон? Вот чего у Петра в мыслях не было, того не было!
СВ: Ну ведь не зря Петр из русского царя превратился в русского императора — в чем, кстати, старообрядцы усмотрели лишнее доказательство того, что Петр — Антихрист, поскольку Рим ими понимался как царство Антихриста. В гербе Петербурга, как считают специалисты, содержатся трансформированные мотивы герба города Рима. И таких символических деталей и намеков можно насчитать множество…
ИБ: Лично мне чем Петр приятен? Чем он и хорош и ужасен? Тем, что он действительно перенес столицу империи на край света. Какие у него для этого были рациональные основания, я уж не знаю. Но он начисто отказался от этой утробной московской идеи. То есть это был человек, по праву ощутивший себя…
СВ: Демиургом?
ИБ: Каким демиургом? Государем! В сознании Петра Великого существовало два направления — Север и Запад. Больше никаких. Восток его не интересовал. Его даже Юг особо не интересовал — может быть, исключительно как географическая категория. Это был человек, который добрую половину своей жизни провел в общении — то ли путешествуя, то ли воюя — именно с Западом и Севером. Вот в этих направлениях он и двигался. И если взглянуть на жизнь и деятельность Петра Великого из какого-то такого диковатого извне, то можно увидеть, что в своем сознании (сам того, видимо, не понимая — хотя я уж не знаю, что там творилось в его воображении) он двигался именно в сторону абсолюта. Именно потому что был в первую очередь Государем, то есть политическим существом прежде всего. А вовсе не неким демиургом или там наследователем римской идеи в каком бы то ни было виде. Вот вы говорили об идее «третьего Рима» в России. Это ведь в первую очередь православная идея. Я же думаю, что православие Петра Великого мало занимало. Этого у него в голове, по-моему, начисто не было. Таким, по крайней мере, Петр Великий мне представляется. Или таким я хотел бы, чтобы он был.
СВ: В свете вышесказанного — как вы относитесь к возвращению этому городу его исторического имени Санкт-Петербург? Какие у вас были эмоции, когда вы об этом узнали?
ИБ: Я был этому чрезвычайно рад. Чрезвычайно! Я это говорю совершенно без дураков и безо всяких оговорок или сдерживающих соображений. Хотя на сегодняшний день ситуация складывается парадоксальная: существует город Санкт-Петербург Ленинградской области. Или я, например, получаю оттуда письмо с таким обратным адресом: Санкт-Петербург, улица Косыгина. Это все несколько сводит с ума. Но в данном случае следует думать не столько о нас самих, сколько о тех, кто будет жить в этом городе, кто еще в нем родится. И лучше, если они будут жить в городе, который носит имя святого, нежели дьявола.
СВ: Значит, вы согласны с тем, что все-таки есть такая вещь, как мистика имени, которая оказывает воздействие на реалии?
ИБ: Безусловно, это так. Для меня всегда важно было то обстоятельство, что народ — даже в те годы, когда город именовался Ленинградом, — упорно продолжал именовать его Питером.
СВ: А когда вы и ваши друзья в те, молодые, годы называли этот город Питером или Петербургом — это помогало вам занять какую-то независимую позицию по отношению к советской власти?
ИБ: Вы знаете, это было последним соображением в ряду многих. Просто слово «Петербург» нравилось нам больше. И я могу сказать, что употребление этого слова было продиктовано не столько борьбой с советской властью, сколько определенным очарованием, в этом имени содержащемся. Причем очарование это даже внесемантического характера, оно чисто эвфоническое. Вы заметили, что в слове «Петербург» — в этом «г», которое стоит в его конце, — для русского уха слышна какая-то твердость, сродная твердости камня? И даже, может быть, в имени города больше твердости, чем в имени и облике самого Петра, да? Я еще одно могу сказать. Когда мы еще в советские годы настойчиво называли этот город Петербургом, то в первую очередь думали, пожалуй, о какой-то преемственности культуры. И это было средством если не установить, то по крайней мере намекнуть на эту преемственность. Во всяком случае, таково было наше внутреннее ощущение.
СВ: Меня, признаюсь, удивило предложение Солженицына о переименовании Ленинграда в Свято-Петроград. Я понимаю, что ему хотелось русифицировать имя города. Но странно, что он — писатель, обыкновенно внимательно относящийся к звучанию слова, — не почувствовал громоздкости и неуклюжести предложенного им варианта…
ИБ: Да ну, про этого господина и говорить неохота…
СВ: Как вы считаете — та миссия, для которой был создан Петербург (если согласиться с тем, что такая миссия имела место), — она уже осуществлена, закончена? То есть может ли этот город претендовать на исторически значимое будущее, сравнимое с его блестящим прошлым?
ИБ: Я бы все-таки еще не стал это место хоронить. Я уж не знаю — почему. Существует, конечно, мнение, что город, который имел начало, должен иметь и конец. И что в отличие от, скажем, Рима или Парижа Петербург — как говорят на ипподроме — город «заделанный». То есть те столицы развивались естественно и постепенно, в то время как застройка Петербурга была предопределена заранее. Это определение Петербурга как «заделанного» города есть, как мне кажется, современная перифраза слов Достоевского о Петербурге как самом «отвлеченном и умышленном» месте на свете. Но я с подобными историческими перекидками был бы более осторожен, особенно в отношении этого города. По самым разнообразным соображениям. Разумеется, в какой-то момент он действительно скатился на статус провинциального..
СВ: Ну, формально он превратился в провинциальный город в тот момент, когда в марте 1918 года Ленин перенес столицу России вновь в Москву…
ИБ: Вы знаете — и да, и нет. Мне кажется, что даже после перенесения столицы в Москву понадобилась смерть еще нескольких поколений, чтобы это ощущение центра действительно испарилось из Петербурга. Сегодняшний Петербург — это, разумеется, не Александрия. Но, я думаю, потребуется вторжение новых, действительно uprooted, как здесь говорят, — то есть наглухо лишенных исторической памяти — поколений, чтобы Петербург стал полностью провинциальным. Хотя уже и сейчас он даже не «город-герой», как Ленинград именовали после Второй мировой войны.
СВ: Зато он, как мне кажется, приобрел новый статус — «города-мученика». Это случилось в результате тех ужасных потрясений, которые выпали на долю Петербурга в XX веке как следствие русской истории.
ИБ: Вы знаете, русская история xx века представляется мне на нынешний момент ужасно невнятной. Относительно же Петербурга я могу сказать одно: все мы, все на свете становится жертвой демографии. Ни одно место на земле от влияния демографических обстоятельств не избавлено, в том числе и родной город. И полагаю, что его демографическая физиономия чрезвычайно сильно изменится в сторону широких скул и невысокого роста. Что, по-видимому, неизбежно. Но, поскольку останутся площади, и проспекты, и вода, и мосты над ней, и горизонт, и небо…
СВ: То есть те декорации, которые диктуют актерам их поведение, их реплики…
ИБ: Может быть, вы и правы… Может быть, действительно декорации как бы детерминируют репертуар актера. Вероятно, такой эффект должен иметь место. Но для нас самое важное заключается в том, что это за актер. И как он подготовлен к тому, чтобы появиться на фоне этой самой декорации. И тут-то наступает полный ужас, потому что нынешняя эпоха, с ее демографическим взрывом и тектоническими перемещениями народов, подготавливает сознание к популистскому восприятию мира: что все одинаковы, все равны. Что все более или менее движется на некоем среднем уровне, что никаких высот нет. А соответственно, не нужно этих высот и завоевывать. Для нас, для нашего поколения и город, и его декорации были очень важны. Но еще более важным было то, на чем мы как актеры этого спектакля воспитывались. Потому что мы воспитывались не просто этой декорацией, но тем, что в этой декорации было создано, когда она еще была реальной перспективой. И в этой перспективе мы видели Ахматову, Мандельштама, затем Блока, Анненского. Но и даже эти последние были, может быть, в меньшей степени насущны для сознания, выросшего в Петербурге, нежели все что в этом городе произошло в первой четверти XIX века. Когда там жили Пушкин, Крылов, Вяземский, Дельвиг. Когда туда приезжал Баратынский. И я называю далеко не все значительные имена. Я что хочу сказать? Что именно созерцание этой петербургской перспективы дает определенные основания для какой-то надежды, да? Поскольку ты видишь, что в этом городе примерно каждые двадцать-тридцать лет происходит некий творческий всплеск и нет никакой гарантии того, что этот всплеск не произойдет и в будущем — разумеется, видоизмененным образом. И если даже мы доживем до этого всплеска — а я думаю, что почти наверняка не доживем — то мы этого всплеска, вполне вероятно, не признаем. Но он, я думаю, должен повториться — хотя бы потому, что петербургский пейзаж не изменился. И экология не изменилась. И еще я бы сказал следующее. Думаю, что у каждого такого всплеска есть и будет также и нечто общее. Поскольку Петербург — это город у моря. И, как следствие этого, в сознании человека, там живущего, начинает возникать — быть может, фантасмагорическое, но чрезвычайно сильное — представление о свободе. Личность в этом городе всегда будет стремиться куда-то в сторону, поскольку пространство, пред ней предстающее, не ограничено и не разграничено землей. Отсюда — мечта о неограниченной свободе. Вот почему я думаю, что в этом городе естественнее сказать всему существующему миропорядку — «нет».
СВ: То есть вы считаете, что петербургская декорация делает из человека аутсайдера. Это, кстати, верно и по отношению к Шмакову, которого вы признаете quintessential петербуржцем. Ведь Шмаков, в сущности, был чужаком и в Ленинграде, и в Нью-Йорке. В Ленинграде он был чужаком как переводчик с западных языков — то есть как человек, пытающийся контрабандой протащить западные ценности на советскую территорию. Затем, он был подозрителен как гомосексуалист. И наконец, как балетоман. Поскольку балет в России всегда существовал скорее для экспортного употребления. А внутри страны балетом увлекались очень немногие, составляя при этом изолированный, а для многих невероятно эксцентричный островок. Вот вы, скажем, — разве вы в Ленинграде ходили на балет, скажите честно?
ИБ: Вы знаете, нет. Странно как-то получилось, да? Я знаю колоссальное количество балетных — что балерин, что мужиков-солистов. Но, тем не менее, меня балет никогда особенно не интересовал. И до сих пор не интересует. Хотя, надо сказать, когда я вижу на сцене Барышникова, то это ощущение совершенно потрясающее. Я даже думаю, что это вообще уже даже и не балет — то, чем он занимается.
СВ: А что же это такое, если не балет?
ИБ: На мой взгляд, это чистая метафизика тела. Нечто, сильно вырывающееся за рамки балета.
СВ: В годы вашей молодости в Ленинграде молодые поэты обсуждали балет как нечто, заслуживающее уважения?
ИБ: В моем кругу — никогда. Мы все — то есть сколько нас всего и было? по пальцам можно пересчитать — так вот, мы все к балету относились, если так можно выразиться, по-офицерски. Балерины, цветы…
СВ: Вы что, сопротивлялись официальной ауре балета?
ИБ: Если уж говорить об официальной ауре, то она скорее относилось к тому, к чему мы находились несколько ближе — к кинематографу. Поскольку главный источник более или менее внятного заработка для нас был именно кинематограф — научно-популярный или даже художественный. Вот почему люди из кино были для нас важнее, чем балетные. Не говоря о том, что кино просто интересней для нас было, — как для всякого русского человека. Ведь для русских всякое дидактическое искусство куда интереснее просто чистого искусства. Так что к балету я никогда всерьез не относился. Видел однажды «Спящую красавицу», видел «Щелкунчика» — малышом, меня мать повела. И, конечно, бесчисленное количество «Лебединых» по телевизору.
СВ: Чайковского любили в России и по радио передавать…
ИБ: Да, неслось из всех репродукторов, наравне с Краснознаменным ансамблем песни и пляски Советской Армии и сюитами композитора Будашкина в исполнении оркестра народных инструментов.
СВ: Как же вы, при таком отношении к балету, все-таки познакомились и подружились с Барышниковым?
ИБ: А я и не помню, настолько это давно произошло. Дело в том, что в Ленинграде у нас было несколько общих, довольно близких знакомых. Не говоря о том, что мы просто ухаживали за девушками, жившими в одном доме, на одной и той же лестнице. Я-то тогда этого не знал. Мне это Мишель рассказал потом. Оказывается, его девушка ему меня показывала. Моя-то Барышникова не знала. И меня, по-моему, не знала тоже. Все это происходило в районе Мариинского театра. В конце концов, Ленинград — это small town, поэтому там практически все всех знали. И в этом смысле я, кстати, не думаю, что Шмаков в той среде как-то выделялся, что он был на подозрении. Единственная причина, по которой он мог казаться подозрительным, — эта та, что он виделся со слишком большим количеством иностранцев. За что в Ленинграде легко можно было схлопотать срок. В остальном же Шмаков чувствовал себя в Ленинграде в высшей степени дома — куда в большей степени, чем у себя на родине, в Свердловске. И куда в большей степени, чем в Нью-Йорке. В Ленинграде жили его учителя, друзья, коллеги. Он в этой среде плавал как угорь в Балтийском море или корюшка в Финском заливе. Чужаком он в Ленинграде не был. Хотя, разумеется, выделялся количеством своих знаний, да и просто отношением к жизни. О Шмакове кто-то сказал недавно, что он был романтик. Да, романтик, но одновременно он был таким счастливым гедонистом. Это был человек, которого ничто в жизни не могло огорчить, кроме одной простой вещи — отсутствия денег в кармане. И в тот момент, когда у него появлялись — в Ленинграде шестьсот рублей, а в Нью-Йорке двести долларов — и он мог купить то, что хотел, какую-нибудь дорогую вещь, в этот момент он был абсолютно счастлив, забывая о том, что было вчера, и не думая о том, что может произойти завтра или послезавтра. То есть этот человек вел себя — по всем стандартам легкомысленно, а по моим стандартам — как эллин. По крайней мере, я себе так эллинов представляю. И даже когда он умирал и мы стали говорить с ним о степени серьезности его болезни, он сказал мне: «Жозеф, я к смерти отношусь как французский аристократ к гильотине. Она неизбежна, поэтому чего об этом толковать».
СВ: Боюсь, Иосиф, что вы несколько идеализируете — задним числом — ситуацию с гомосексуалистами в Ленинграде. Конечно, официально никакой такой ситуации вообще не существовало — как не существовало официально и других сложных проблем. Но реальное положение гомосексуалистов в обществе — вспомните, Иосиф! Я даже не говорю сейчас о работягах. Но вот я, например, жил в Ленинграде в интернате, как он назывался, «для музыкально одаренных детей». Так вот, эти милые «музыкально одаренные» дети регулярно целыми толпами отправлялись бить «гомиков», «пидоров» — выслеживали их и жестоко избивали. А потом еще похвалялись этим… И это были будущие музыканты, предположительно тонкие натуры! Многие из них знали, что их любимый Чайковский был «пидором». И все равно это их не останавливало… Мне еще один показательный эпизод запомнился, это было, когда «гласность и перестройка» в Советском Союзе уже вовсю раскручивались. Я поймал на коротковолновом приемнике передачу из Москвы на английском языке. Это был такой «радиомост» в прямой трансляции: люди из Штатов задавали вопросы, а советские эксперты в Москве, сидя в студии, им отвечали. Тема была — life styles. И вдруг какой-то гей из Сан-Франциско задает вопрос: «And what about gay life-style in the Soviet Union?» Что тут стряслось с советскими экспертами, описать невозможно: они все начали нервно хихикать и перебрасывать этот вопрос друг другу как горячую картошку. И никто из них не осмелился объявить американцу, что в Советском Союзе гомосексуализм — уголовно наказуемое деяние, даже между совершеннолетними и по взаимному согласию. И так дело обстоит, если я не ошибаюсь, до сих пор. Вот вам и весь советский gay life-style…
ИБ: Совершенно верно. Но в этом смысле любой life-style в Советском Союзе был уголовно наказуемым преступлением. Объективно говоря, если вы интересуетесь литературой — это уже девиация, отклонение от нормы. И каждый человек, который занимается литературой более или менее всерьез, ощущает себя — в той или иной степени — в подполье. Для меня это само собой разумеющийся факт. А в Советском Союзе ситуация еще более обострялась по одной простой причине. Ведь на самом-то деле литература, да вообще искусство — это, в конечном счете, частное предпринимательство. И у русского человека, по крайней мере в то время, в которое мы со Шмаковым воспитывались и воспитывали себя сами, существовало всего несколько форм частного предпринимательства. Для меня таковым была изящная словесность, для Шмакова — искусство, адюльтер, да еще вот — пойти в кино. (Поскольку при всей ограниченности киноменю мы все-таки могли сами выбрать: куда пойти и что посмотреть.) Поэтому вы неизбежно чувствовали себя в несколько обостренных отношениях с системой, с государством. И не столько даже с государством и системой, сколько с людьми, вас окружавшими. И хотел бы вот что сказать, уточняя наши давешние рассуждения о том, кто и где ощущает себя чужаком. Вы знаете, дело тут вот в чем. Я помню, что еще в Ленинграде, написав стихотворение и выйдя после этого вечером на Литейный проспект, ощущал — и даже не просто ощущал, а знал точно — что я нахожусь среди людей, с которыми имею чрезвычайно мало общего. Потому что еще пятнадцать минут назад мою голову занимало то, что им в голову по той или иной причине не приходит — и, видимо, не скоро и придет. А это, между тем, были мои соотечественники. Поэтому когда выходишь с тем же самым ощущением на улицу в Нью-Йорке, то тут, по крайней мере, находишь оправдание, поскольку в данном случае у прохожих хотя бы родной язык иной, да? Так что ощущение чуждости здесь — оно не столь болезненно, сколь ощущение чуждости в отечестве. И это обстоятельство не следует упускать из виду, когда слушаешь все эти бесконечные и набившие оскомину рассуждения о жуткой драме писателей в изгнании. Потому что это, на самом деле, не совсем так. Я даже думаю, что аудитория здесь, на Западе, у писателей, музыкантов, танцовщиков из России или Восточной Европы — эта аудитория, в общем, более или менее адекватна, а зачастую даже превосходит ту, которая у этих людей имелась на родине. Я часто себя ловлю на этой мысли.
СВ: Это звучит логично даже с точки зрения простой арифметики. Помните, нам в Союзе постоянно долдонили про «одну шестую часть света»? Все-таки в остатке — пять шестых, не так уж мало. Кстати, вы знаете эту шутку: «что такое одна шестая часть света?» Ответ: «тьма». Это, кажется, Юз Алешковский придумал…
ИБ: Я бы к этому вот что добавил. Нам на наши рассуждения по этому вопросу могут возразить: да, у вас есть на Западе аудитория, но эти люди ничего не понимают, потому что не говорят с вами на одном языке. А я на это вот что отвечу: с человеком вообще на его языке никто не говорит! Даже когда с вами жена разговаривает, она не на вашем языке говорит! Разговаривая с ней, вы приспосабливаетесь к жене. И к другу вы себя приспособляете. В каждой подобной ситуации вы пытаетесь создать особый жаргон. Почему существуют жаргоны? Почему существуют всяческие профессиональные терминологии? Потому что люди знают, что они все — разные животные, но от этого страшненького факта они пытаются отгородиться, создав какую-то общую идиоматику, которая будет кодовым языком для «своих». Вот таким-то образом и возникает иллюзия, что ты — среди «своих», что в данной группе тебя понимают. Разумеется, когда ты, выступая, хохмишь, а в зале начинают улыбаться и хихикать — то есть демонстрируют, что «понимают» тебя, — то это вроде бы приятно. Но в общем это удовольствие, без которого можно обойтись.
СВ: То, о чем вы говорите, имеет отношение и к Шмакову. Переехав из Питера в Нью-Йорк, он, конечно, многое потерял. Но многое и приобрел. В частности, в Нью-Йорке ему больше не нужно было скрывать свою гомосексуальность. Причем выигрыш здесь был как бы двойной. С одной стороны, полностью исчезла висевшая над Шмаковым в Ленинграде постоянная угроза тюрьмы или лагеря. С другой, он все-таки ощущал себя принадлежавшим к некоему ордену, братству. Мне кажется, он в этой ситуации наслаждался.
ИБ: Нет, он был существом гораздо более сложным. Если уж мы говорим о том, о чем говорить не следует, то есть об эротических предпочтениях индивидуума, да? Хотя это, в конце концов, частное дело каждого человека. И я не понимаю, почему это надо превращать в тему для обсуждения. Но тем не менее…
СВ: Иосиф, вы меня знаете, я не стал бы затевать этого разговора из чисто скабрезного интереса. Но мы сейчас говорим о фигуре примечательной, имеющей, как мне кажется, определенный символический интерес и значение — как в контексте Ленинграда шестидесятых годов, так и в контексте Нью-Йорка семидесятых-восьмидесятых годов. И его сексуальные предпочтения имели огромное значение для его жизни…
ИБ: А также для его смерти. Ну вы знаете, я скажу так. Шмаков вовсе не был, что называется, your average flaming homosexual. Ничего подобного. Он был, если уж говорить об этом, бисексуален. Это для начала. Разумеется, здесь, в Нью-Йорке, ему уже не нужно было всячески скрывать ту сторону его натуры, которая была заинтересована и увлечена мужчинами. Но и это мое заявление тоже до известной степени является преувеличением. Потому что все-таки дело не столько в ограничениях, накладываемых социальной структурой, сколько в самоограничении человека определенной культуры. А мы с ним, наше поколение, все были продуктами в общем-то пуританской культуры. Соответственно, Шмаков был не тем человеком, который на каждом углу кричал о своих предпочтениях и привязанностях. Не забывайте, что он обожал Пруста, много переводил его. То есть он был пленником культуры в первую очередь — и в последнюю тоже — а не пленником своих эротических предпочтений, и эта культура, эта литература воспитывала его совершенно определенным образом. В конце концов, тот же самый Пруст, когда он писал свой роман, ведь он не зря Альберта превращал в Альбертину. Так и Шмакову в вопросах пола была присуща скорее таинственность, то есть он был склонен скорее покрывать свои любовные похождения некоторым налетом таинственности, нежели на каждом углу заявлять о своей сексуальной свободе. Он так и не стал одним из этих типичных местных геев, для которых существо их жизни состоит именно в утверждении своей сексуальной identity. (Уж не знаю, как это перевести на русский язык, хотя, наверное, перевод есть.) Другой identity у этих людей нет. А у Шмакова — была.
СВ: Помню, мы встретились со Шмаковым перед его отъездом из России в Нью-Йорк, дело было весной 1975 года. Он тогда подарил мне свою вышедшую в Тарту работу об отношениях Блока и Михаила Кузмина, с надписью, которую я люблю перечитывать — «Милому Соломону Волкову с надеждами на встречу в стране „цвета времени и снов“. Такими ему из России виделись Штаты. (Сейчас-то я в эту надпись вкладываю совсем другой смысл.) А тогда Шмаков был радостно возбужден, говорил мне, что в Нью-Йорке будет, видимо, преподавать в университете. Из этого, однако, ничего не получилось…
ИБ: Вы знаете, я тоже предполагал, что как только Шмаков приедет в Штаты, все сейчас же станет на свои места. И он начнет преподавать в каком-нибудь университете — как я надеялся, в Колумбийском. Но тут обстоятельства сложились крайне неблагополучно. Потому что ключевые позиции на славистских кафедрах в нескольких из ведущих американских учебных заведений оказались занятыми теми людьми, которые в прошлом Шмакова доили, в некотором роде. Когда они в свое время приезжали в Советский Союз, Шмаков давал им разнообразные материалы, на основании которых они в дальнейшем писали свои диссертации, при этом без всяких ссылок на Шмакова или его консультации. И для них появление Шмакова в Нью-Йорке было хуже второго пришествия. Мы оба знаем, о ком идет речь, поэтому можем обойтись без фамилий. То, что они повели себя как подонки — это безусловно. Шмаков же, со своей стороны, когда его, по самому началу, приглашали на какие-то славистские конференции, усугубил ситуацию тем, что, слыша несшуюся с трибуны ахинею, таковой ее и называл. Такие номера он выкидывал несколько раз. Что ни в коем случае не помогло ему в приобретении друзей в академической славистской среде. Но Шмакова все это не особенно уязвило, как это ни странно. Поскольку он был человек очень гордый, подачек бы не стал принимать все равно. И он, в общем-то, действительно был равнодушен к успеху. То есть, конечно, ему было приятно, когда к нему хорошо относились. Это нам всем приятно. Но когда к нам относятся плохо, это нас ни в коем случае с толку не сбивает. В этом смысле Шмаков был типичным представителем нашего поколения. Мы там, в Питере, все выросли убежденными индивидуалистами — и потому, быть может, большими американцами, чем многие настоящие американцы, в Штатах родившиеся. По крайней мере, это так в философском и, может быть, психологическом плане. И Шмаков, потерпев в Нью-Йорке неудачу на академическом поприще, совершил несколько попыток реализации своих индивидуалистических устремлений. Помню, как он носился с идеей русской кухни в Нью-Йорке — то, что здесь называется catering. Потому что Шмаков, как вы знаете, был совершенно феноменальным кулинаром.
СВ: Да, шмаковские супы и котлеты я никогда не забуду!
ИБ: Я тоже второго такого волшебника в этой области не знал. За одним, пожалуй, исключением: Честер Каллман, приятель покойного Одена. Каллман и Шмаков во многом были существа конгениальные. Увы, ничего из этой затеи Шмакова не вышло, прогорела его кулинарная антреприза. Тогда он стал пописывать в разные журналы статьи о русском балете. Помните, вы как-то процитировали Слуцкого: «Его кормили. Но кормили — плохо»? Так вот, кормили Шмакова не очень плохо, на самом деле. То есть он сам кормился не очень плохо. Но вот платили ему особенно поначалу, за его статьи — плохо. И тогда я познакомил его с Алексом Либерманом и Татьяной Яковлевой, его женой. Либерман, как вы знаете, возглавлял американский «Вог», для какового журнала Шмаков и стал более или менее стабильно поставлять материалы.
СВ: Насколько я знаю, Шмаков также стал записывать воспоминания Яковлевой. Она ведь прожила бурную жизнь — и в Европе, и в Америке. Великая любовь Маяковского — чего уж более!
ИБ: Из этого тоже, к сожалению, ничего не вышло, по многим и сложным причинам. Но Либерманы оказались для Шмакова новой семьей. Последние годы он просто жил в их загородном доме в Коннектикуте, уже довольно редко наведываясь в свою нью-йоркскую квартиру. В отношении Шмакова Либерманы были ангелами. И вообще, они ужасно хорошие. Ты сюда приезжаешь, чего-то там залупаешься, с кем-то сшибаешься из-за каких-то принципов. Но в том-то и прелесть жизни, что вот она проходит, и самыми важными становятся чисто человеческие дела и отношения, а не идеологическая или философская сторона дела. Я об этом в последнее время стал задумываться именно в связи с общением с Либерманами. И я рад, что они скрасили Шмакову его последние дни. Кроме того, они принимали живейшее участие в книжных проектах Шмакова, из которых он успел осуществить три. Первой вышла автобиография Натальи Макаровой, которую Шмаков фактически написал, хотя в этом издании он значился только лишь как редактор. Затем последовала биография Барышникова — на мой взгляд, чрезвычайно достойное произведение, чьи достоинства оказались до известной степени причиной финансового неуспеха этой биографии. Ибо в ней не было никаких сплетен, не перебиралось грязное белье звезды и так далее. И, наконец, великолепно изданный том под названием «The Great Russian dancers».
СВ: Извините, Иосиф, что я вас перебью, но мне хотелось бы высказаться по поводу первых двух книг Шмакова — автобиографии Макаровой и биографии Барышникова. Обе эти книги — как и «The Great Russian dancers», конечно, — стоят у меня дома на полке. Они для меня довольно-таки важны по многим причинам. Главное — я на собственном опыте знаю, как трудно здесь, на Западе, пробиться в книжный бизнес эмигранту из России, чья специализация — то, что у нас называлось «вед»: то есть если он литературовед, музыковед, искусствовед, его здесь рассматривают в первую очередь как «информанта», как источник сугубо фактических сведений. Принес, как собака, в зубах свою информацию — и хорошо, а твои выводы или обобщения никому здесь не нужны, можешь убираться на все четыре стороны. Шмаков такого отношения нахлебался, как мы знаем, в Штатах вдоволь. И я чрезвычайно уважаю его за настойчивость, которую он в данном случае, опубликовав не одну (что уже само по себе — почти подвиг), а целых три книги по-английски, проявил. Но тут я вынужден с горечью добавить, что герои книг Шмакова ему в этом многотрудном деле не очень-то поспособствовали. Я об этом знаю со слов самого Шмакова. Сколько крови попортила ему Наталья Макарова во время их совместной работы над ее автобиографией!
ИБ: Ну, она — звезда с фанабериями, это всем известно!
СВ: Коли звезда, то не грех было бы и рассчитаться с братом — эмигрантом из России — за выполненную им высокопрофессиональную работу пощедрее… А что случилось с книгой Шмакова о Барышникове? Закончив рукопись, Шмаков дал ее Барышникову на прочтение. И, как Шмаков мне рассказывал, Барышников вычеркнул из этой рукописи все показавшиеся ему «излишними» или «неудобными» биографические подробности. И вот этот кастрированный вариант Шмаков и опубликовал. Ясно, что у подобной биографии было мало шансов на успех; я помню, как нью-йоркские критики в своих рецензиях недоумевали: почему это Шмаков, многолетний и близкий друг Барышникова, не сообщил в книге о нем ничего нового и интересного? Шмаков оказался в глупом положении, но, в конце концов, это был его выбор, его дело. Меня удивило другое. Какое-то время спустя в «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин» появилось интервью с Барышниковым, причем среди вопросов был и такой: «читали ли вы книгу Шмакова?» Тут, казалось бы, Барышникову предоставлялся удобный случай сказать о Шмакове и его работе хотя бы несколько теплых слов. Вместо этого он ответил, что книги этой не читал. Опять-таки, говорит Барышников репортерам правду или нет — это его личное дело. Но Шмакова он в данном случае уже во второй раз подставил.
ИБ: Ну да, в деловом смысле…
СВ: Поскольку он эту книгу не просто читал, но еще и выполнил по отношению к ней роль, которую уважающий себя американский автор ему бы выполнить не дал, а именно — роль цензора. В Штатах в принципе не положено нести биографию человека ему на предварительный просмотр и одобрение, поскольку это ставит под сомнение авторскую, как здесь говорят, integrity. Но Шмаков этим принципом поступился. В данном случае я его не одобряю, но он, видимо, считал, что это его обязанность по отношению к Барышникову как к другу, а не просто как к объекту исследования. Но тогда, в свою очередь, и Барышников должен был вести себя как друг. И когда я слушал такое теплое, прочувствованное выступление Барышникова на панихиде по Шмакову, то не без грусти думал: а что мешало эти же красивые слова высказать публично еще при жизни Шмакова?
ИБ: Ну вы знаете, в конце концов все мы совершаем ошибки. Все мы находимся в тот или иной момент в какой-то диковатой ситуации.
СВ: Ведь когда Барышников сказал, что книги Шмакова не читал — это был чистой воды выпендреж, за счет друга.
ИБ: Ну да, наверное это был выпендреж, а может быть — и не выпендреж, я не знаю. Может быть, Барышников не хотел признаваться, что читал книгу Шмакова. Может быть, он хотел создать впечатление, что книг о себе не читает. И надо сказать, что зачастую так дело и обстоит. Например, я точно знаю, что он не читал скандальной книжки Гелси Киркланд. С другой стороны, я знаю довольно детально, в какой степени Барышников помогал Шмакову во всех других отношениях. Так что я думаю, что если Барышников в своем сознании занимался этой проблемой — хотя я не думаю, что он этим занимался или должен был бы заниматься — если он соотносил одно с другим, то у него, вероятно, не должно было возникать ощущения той подножки, о которой вы говорили. Вы знаете, одно уравновешивает другое.
СВ: Я лично остаюсь при мнении, что хорошие слова о человеке предпочтительнее говорить при его жизни, не стесняясь и публичных оказий. И, коли мы уж об этом заговорили, хочу поблагодарить вас за лестное для меня упоминание моего имени в вашем недавнем интервью московскому журналу «Огонек». Должен вам сказать, что это — первое после моей эмиграции на Запад появление моего имени в тамошней прессе без сопровождающего обязательного слова «отщепенец».
ИБ: Неизвестно еще, надо ли меня за это благодарить. Поскольку я думаю, что называться отщепенцем — это весьма лестно. Все мы отщепенцы, изгои, да?
СВ: С третьей, и последней книгой Шмакова, опубликованной при его жизни — «The Great Russian dancers», вообще сложилась, как мне представляется, ситуация трагическая. Она не только не нашла широкого читателя, но и профессиональная критика ее практически замолчала. Что отражало ту враждебность и пренебрежение к Шмакову, которые в тот момент накопились в этой среде.
ИБ: Безусловно! Поскольку Шмаков был человеком абсолютных мнений, плюс никогда их не скрывал. Я тоже считаю, что просто бессмысленно открывать рот, чтобы сказать то, чего ты не думаешь. Это полная трата отпущенного тебе времени и энергии. От Шмакова стали отгораживаться иронией и насмешками. Его имя, как вы знаете, для американского уха звучит несколько диковато и комично. И как следствие, оно дважды появлялось в списке местных критиков с самыми неудобоваримыми именами. Что очень отравляло Шмакову жизнь. Он даже изменил написание своего имени, но это его не спасло. Тогда он какие-то свои статьи стал подписывать псевдонимом, что было предметом наших бесконечных шуток. Вдобавок очередная работа Шмакова о балете — биография Мариуса Петипа, первая в своем роде, насколько мне известно — была встречена его издателем без особого энтузиазма. Уж не знаю, в чем там было дело. В свое время я видел несколько сот страниц этого манускрипта, но ведь я этих вещей не читаю — я вам говорил уж не раз, что балет меня не особенно сильно занимает. В итоге Шмаков несколько поохладел к писаниям о балете. Думаю, главное, что его на свете интересовало в последние годы — годы, оказавшиеся последними — это опера, Мария Каллас, о которой он и принялся писать книгу. Кроме того, автобиографический роман. Вот вы употребили выражение «трагическая ситуация». Да нет же, я не устану повторять, что это был человек счастливой психологической конституции. И поскольку он имел хлеб насущный сегодня, его не особенно интересовало, что произойдет завтра. Тем более что его поддерживали Либерманы, Барышников — да все, кто его знал и любил.
СВ: В свою очередь, и он очень многим помог Барышникову…
ИБ: Да, он Барышникову дал чрезвычайно много. Поскольку у Шмакова, как вы знаете, была совершенно феноменальная балетная и сценическая память. Он знал и помнил наизусть множество классических балетных постановок. Он помнил в них каждую мизансцену, каждое движение. Это было нечто удивительное. Должен вам сказать, что мне было чрезвычайно интересно слушать разговоры Шмакова с Барышниковым о том или ином классическом балете. Я, помню, думал: какие у людей бывают странные качества! Представьте себе: я раньше не знал, что существует такое понятие, как музыкальная память. Что музыканты запоминают последовательность разворачивания музыки, такт за тактом, как мы помним разворачивание стиха — слово за словом. И даже музыкантская память — более подробная и точная. Для меня это было большим сюрпризом… Подождите, Соломон, я сейчас закурю…
СВ: Понятная человеческая слабость…
ИБ: Да, понятная человеческая слабость, от которой наступает еще большая слабость…
СВ: Когда Шмаков умер, меня поразило одно совпадение. Это была всего лишь деталь, но «говорящая». В «Нью-Йорк Таймс» появился некролог, в котором было сказано, что причина смерти — опухоль в мозгу. В то время как Шмаков умер от СПИДа…
ИБ: Этот некролог написал, кстати, я. Ну они мне его перекроили, разумеется. И даже вписали фразу, которая мне вообще не принадлежит — именно эту, об опухоли в мозгу. Я подобной вещи сказать не мог, поскольку факт смерти Шмакова от СПИДа был более или менее общеизвестен. Секрета из этого мы не делали. И я крайне удивился подобной цензуре со стороны «Нью-Йорк Таймс». Ну, в конце концов, смерть — это дело частное. Неважно, от чего умираешь…
СВ: Совпадение же, о котором я начал говорить, заключается в том, что приблизительно в это же время в московском журнале «Огонек» появилось огромнейшее интервью с главным тамошним сексологом Игорем Коном на тему о СПИДе в России. И это был, насколько я понимаю, прорыв в обсуждении этой темы там. Впервые открыто заговорили о СПИДе. Впервые, на моей памяти, официальная пресса высказалась без осуждения и паники о гомосексуалистах в России. Кон сказал, что по его оценкам от двух до пяти процентов мужского населения там — гомосексуалисты. Никогда раньше подобные цифры не приводились. Я уж не знаю, насколько они точны — скорее всего, сильно занижены: кто же сейчас в России будет признаваться в том, что он — гомосексуалист! Но все-таки это начало какого-то откровенного разговора. При том, что они настаивают, будто в России известен всего один случай заболевания СПИДом. Что, конечно, является неправдой. Кстати, Шмаков вовсе не был первым известным русским эмигрантом, умершим от СПИДа. В начале 1988 года в Амстердаме умер молодой пианист Юрий Егоров…
ИБ: Да, я знал его!
СВ: Это был музыкант фантастической одаренности! Он обещал стать новым Горовицем. Я получил извещение о его смерти, подписанное голландским другом Егорова. А через несколько месяцев пришло письмо, извещавшее о смерти этого друга… Что касается публикации в журнале «Огонек», то там обнажается масса проблем: ничего нет, даже презервативов в продаже нет.
ИБ: Никак перестал работать знаменитый Баковский завод резиновых изделий? Помните? Но эти изделия, насколько я припоминаю, никогда не пользовались у населения России особым доверием.
СВ: Да, гораздо больше ценились импортные китайские презервативы. Считалось, что они повышенного качества, поскольку китайцам надо было контролировать рождаемость.
ИБ: Это, по-моему, глобальная проблема. Недавно я прочел где-то довольно интересную информацию о том, что в Чикаго, в одном из исследовательских институтов, в качестве опыта презервативы просто положили на подоконник. И они от воздействия воздуха — от этого смога и так далее — начали разлагаться. То есть резина не выдерживает того воздуха, которым мы дышим.
СВ: Резина не выдерживает, а мы как-то выдерживаем.
ИБ: Но недолго. Недолго. И вдобавок, эта обременительная мысль о том, что надеяться на презервативы не приходится. На каковую тему мы в свое время со Шмаковым также немало шутили.
СВ: Хорошо бы теперь издать в России переводы Шмакова из Кавафиса, да и другие его работы. Нынче это в принципе возможно, поскольку там довольно жадно абсорбируют культурное богатство, накопленное русской эмиграцией за семьдесят лет. Дойдет, безусловно, очередь и до писаний Шмакова. Что будет восстановлением некоей исторической справедливости, поскольку, когда Шмаков эмигрировал, его имя в России стали отовсюду вычеркивать, а работы его повыкидывали из библиотек. Что самое удивительное — в свое время подобная варварская политика, которая применялась ко всем эмигрантам без исключения — все они словно проваливались в черную дыру — воспринималась в России как нечто естественное, само собой разумеющееся. Возникали всякого рода гротескные ситуации. Например, в Москве в 1976 году вышел сборник статей о Майе Плисецкой, в котором участвовали ведущие балетные критики, в том числе и Шмаков. Но, поскольку он в это время уже жил в Нью-Йорке, его статья подписана другим именем.
ИБ: Да, Шмаков к Майе относился с восторгом. И она к нему была очень благосклонна. Уже когда он был совершенно болен, Шмаков, вместе с Барышниковым, отправился в Бостон на галапредставление Майи. Но там он свалился с приступом, пришлось спешно возвращать его в Нью-Йорк.
СВ: Мне об этом рассказывал Андрей Вознесенский, который поехал в Бостон в одной компании со Шмаковым. Он тогда, кажется, сочинил свой стихотворный экспромт: «Геннадий Шмаков, ты не любил в душе башмаков».
ИБ: Должен сказать, что, при всей его подонностости, Евтушенко мне все же симпатичнее, чем Вознесенский. С моей точки зрения — которая конечно же не безупречна — у Евтуха русский язык все-таки лучше. Ну, что такое Евтух? Это такая большая фабрика по сомовоспроизводству, да? Он работает исключительно на самого себя и не делает из этого секрета. То есть он абсолютно откровенен. И, в отличие от Вознесенского, не корчит из себя poete maudit — «проклятого поэта», богему, тонкача и знатока искусств. И я, между прочим, думаю, что искусство Евтушенко знает и понимает получше, чем Вознесенский.
СВ: Вы знаете, Иосиф, я уверен, что в какую-то будущую идеальную антологию русской поэзии XX века войдут при любом, самом строжайшем отборе, по десятку-другому стихотворений и Евтушенко, и Вознесенского.
ИБ: Ну это безусловно, безусловно! Да что там говорить, я знаю на память стихи и Евтуха, и Вознесенского — думаю, строк двести-триста на каждого наберется. Вполне, вполне.
СВ: И в истории русской культуры и общественно-политической жизни XX века и «Бабий Яр», и «Наследники Сталина» Евтушенко навсегда останутся.
ИБ: А я не уверен, что останутся. Потому что если в ту антологию, о которой вы говорите, будет включена «Погорельщина» Клюева или, скажем, стихи Горбовского — то «Бабьему Яру» там делать нечего.
СВ: Разница в том, что произведения Клюева или Горбовского все эти десятилетия распространялись по стране в лучшем случае в списках, а то и в устной форме, а «Бабий Яр» и «Наследники Сталина» появились в газетах с миллионными тиражами, их весь Советский Союз прочел. Потому эти стихи Евтушенко и сыграли свою историческую роль.
ИБ: Ну правильно. Ну, чуваки бросали камни в разрешенном направлении, зная, что они идут на полголовы впереди обывателя. И обыватель балдел! Вот и вся их историческая роль. Все это очень просто, даже банально: у Евтуха и Вознесенского всю дорогу были какие-то друзья в ЦК партии — вторые, или третьи, или шестнадцатые секретари — и потому чуваки постоянно были более или менее в курсе дела, куда ветер завтра подует.
СВ: Скоро наступит конец xx века. У людей так уж устроено мышление, что в связи с подобными круглыми датами они всегда ожидают каких-то сверхъестественных событий, вроде конца мира.
ИБ: Самое интересное, что нечто в этом роде всегда и наступало…
СВ: Но особенно разительно ситуация под конец века все-таки изменилась в бывшем Советском Союзе и странах советской империи. Я не говорю сейчас об экономике, в которой все равно ничего не понимаю, а о культурной сцене. Здесь изменения наиболее радикальны, причем интересно, что произошли они вовсе не в том направлении, в каком…
ИБ: …чуваки предполагали? Да, совершенно верно. Но это нормальный просчет. Это просчет всего государственного аппарата культуры. Это просчет бесчисленных чиновников всех этих так называемых творческих союзов. Это и просчет самих этих чуваков. Но это и естественно. Они не могли не просчитаться. Потому что единственный способ предсказать будущее с какой бы то ни было точностью — это когда на него смотришь сквозь довольно мрачные очки.
СВ: Особенно забавны сейчас сравнительно недавние издания в серии «Библиотека поэта» — кого там записали в классики русской поэзии XX века. До того, как в этой серии издали, наконец, Гумилева и Ходасевича, в ней появились пухлые тома Луговского, Луконина, Наровчатова, то есть поэтов с совершенно дутыми репутациями.
ИБ: Ну не такие уж они и дутые, там талант присутствовал. Другое дело, что с этим талантом произошло потом.
СВ: Ну разве можно Луговского сравнить хотя бы с Сельвинским или Тихоновым? Те действительно что-то сделали для русской поэзии. А что Луговской оставил? Стихи о чекистах, рыбоводах — фальшивая романтика, хуже Багрицкого.
ИБ: Это хуже Багрицкого, конечно. Багрицкий гораздо лучше Луговского, хотя тоже не бог весть что. Но я помню у Луговского целую книжку, называлась «Середина века». Это были белые стихи, которые сыграли определенную роль в становлении — по крайней мере, чисто стиховом — нашего поколения. Конечно, такая колоссальная фигура как Ходасевич их всех под себя подминает. Это безусловно. С другой стороны, следует ожидать издания в этой самой «Библиотеке поэта» и тома какого-нибудь эмигранта, вроде Георгия Адамовича, стихи которого мне никогда особенно не нравились. Помню, как я огорчился, увидев — еще в Ленинграде — первую книжку Адамовича. Поскольку все уже было понятно — логика развития и так далее. И все это было не очень интересно. Ну если уж мы заговорили о том, что под конец века все на культурной сцене как бы расставляется по своим местам, то я вот что скажу: никто не должен волноваться по этому поводу. Потому что на свои места ставит само время — независимо от наличия железного занавеса или же его отсутствия. Существует закон сохранения энергии: энергия, выданная в мир, не пропадает бесследно при любой политической или культурной изоляции. И если в этой энергии вдобавок есть еще и какое-то определенное качество, то тогда волноваться уж совершенно незачем. Поэтому зря поэты предаются вельтшмерцу по поводу того, что их не печатают или не признают. Им надо волноваться только по поводу качества того, что они делают. Потому что при наличии качества все рано или поздно станет на свои места. Особенно теперь, когда благодаря популяционному взрыву людям нечем заняться и многие из них идут в критики или литературоведы. Так что вниманием никто не будет обойден, с этим все будет в порядке. Неизвестных гениев — нет. Это просто такая мифология, доставшаяся нам в наследство от XIX века — мифология довольно-таки неубедительная. В будущем все сестры получат по серьгам.
СВ: Любопытно наблюдать за тем, как засуетились люди в связи с крушением установившихся иерархий в области культуры. Сначала было модным доказывать, что ты всегда был диссидентом или, по крайней мере, нонконформистом в душе. Но этот период сравнительно быстро прошел и теперь можно опять с гордостью вспоминать о былом высоком положении и близости к власть предержащим. Кто-то из писателей не так давно с воодушевлением описывал, как он сражался в теннис с комсомольскими вождями — не помню уж, кажется, это был Гладилин.
ИБ: Что касается Гладилина, то мне сейчас вспомнился связанный с ним характерный эпизод. Это был 1965 год, я только что освободился и приехал в Москву. Довольно хорошо помню, как я попал туда, но сейчас это неважно. Так вот, Евтушенко тогда пригласил меня в журнал «Юность» на банкет, который давал Гладилин в связи с публикацией там своей новой повести. Это была такая феня, о которой я совершенно не подозревал, для меня все это было большим открытием об ту пору; что писатель устраивает банкет для тех, кто помог протолкнуть, пропихнуть его произведение в журнал или какое-нибудь издательство. Здесь, на Западе, все происходит как раз наоборот: тут издатель тебе устраивает банкет, если он вообще что-нибудь устраивает. Но в принципе в банкете как таковом ничего ужасного нет, это даже и нормально. Дело не в банкете, дело в том, что я там услышал. Сидели там в основном сотрудники «Юности», довольно страшные существа. Гладилин встал и, обращаясь ко всем этим падлам и сволочам, начал что-то плести: «Только благодаря вашей мудрости, вашему тонкому чутью и пониманию современной русской литературы» и так далее. Я понимаю, что это этикет. Я понимаю, что все эти люди всего лишь исполняли свою работу, но объективно — это падлы, да? А Гладилин выдает им этот тост, этот шпиль минут на пятнадцать. И чего он только там не говорил! Меня от этого дела просто начало физически мутить. Тем не менее Гладилина-то я еще сдюжил, думал — ну сейчас жрать начнем. Но не тут-то было! Встает Евтух и выдает спич на таком уровне холуйской элоквенции, что мне действительно стало сильно не по себе. С сердцем началась лажа. Тогда Ахматова еще была жива, я с ней общался и потому все время носил с собой валидол. Пришлось мне выйти в предбанничек, я сел на лавочку и начал этот валидол лизать. Потому что так этих падл в лицо за столом, уставленном жратвой, превозносить нельзя. Это было сильно выше определенной черты. Это была уже такая, как бы сказать, ионосфера безнравственности. Но дело даже не в этом. Слова, конечно, ничего не значат. Эту концепцию, в общем, можно понять. Но только на уровне концепции! Потому что когда ты присутствуешь физически при этом выходе за пределы тяготения, то тебе становится худо: перегрузка начинает действовать.
СВ: Сейчас в России много говорят о деньгах: кто сколько зарабатывает и так далее. Некоторые осуждают подобные разговоры — дескать, куда же улетучился традиционный русский идеализм? Действительно, в Советском Союзе о деньгах, окладах и тому подобном говорить не то чтобы не поощрялось, но прямо запрещалось. Фактического равенства все равно не было, поскольку и тогда существовали огромные разрывы в доходах, но поддерживалась иллюзия этого равенства. Это было такое социальное лицемерие. И в теперешних разговорах о своем былом высоком положении, членстве в Союзе писателей и так далее, я слышу отголоски этого лицемерия. Потому что на самом-то деле человек хочет сказать: «Эх, сколько я тогда зарабатывал денег!»
ИБ: Это очень интересно, между прочим. У этой проблемы есть два аспекта. Прежде всего, всякое равенство, да и вообще идея равенства как таковая, мне представляется абсолютно бредовой, да? Что же касается этих воспоминаний о том, кто и кем был в Советском Союзе… Тут есть еще один нюанс, который я в общем-то считаю основой вот этой психологии. На самом-то деле эти люди имеют в виду даже не столько то, кем они некогда были и сколько они зарабатывали, а то, что они делом занимались. Что они реальные люди. Это попытка доказать реальность своего существования, хотя бы и в прошлом. К примеру, человек говорит: «Я работал главным инженером большого завода». Главный инженер в советской мифологии — это человек, который сталкивался с реальными проблемами, да? То же самое происходит, когда человек говорит: «Я был видным членом Союза советских писателей». Конечно, мне это все глубоко несимпатично, но когда я все эти речи сейчас слушаю, то пытаюсь найти в них некий лиризм. Потому что — ну какие мы этим людям судьи?
СВ: Оно конечно — «не судите, да не судимы будете»…
ИБ: Это вообще-то не про коммунальную квартиру сказано, это про несколько более высокий уровень. Но не в этом дело…
СВ: Просто, общаясь с людьми, мы производим какой-то отбор. А судить их при этом вовсе не обязательно.
ИБ: Я-то думал, что отбор, о котором вы говорите, производится на основе чисто физической. Знаете, когда ты кого-то просто на дух не переносишь, да? А совершенно не по принципиальным соображениям. Что же касается принципиальных соображений, то я вообще не очень понимаю их чрезмерной роли в личных отношениях, особенно среди соотечественников. Поскольку уж чему-чему, а одной вещи нас в России всю дорогу учили — хотя, к величайшему сожалению, не до конца научили — это прощать, извинять, оправдывать. А не судить. Нет, если я с кем-то там дел не имею, то исключительно потому, что меня от этого человека просто мутит. Есть такие… Ну что поделаешь — несовместимость.
СВ: Теперь вас в России много печатают, хвалят, цитируют. Но продолжаются также и нападки. Просто раньше эти нападки были государственными — «тунеядец», «хулиган», «отщепенец», «антисоветчик» и прочее, а теперь вас поносят в основном с правого фланга: националисты, коммунисты, неофашисты. Их атаки на вас сводятся в основном к следующему: вас нельзя называть русским поэтом, поскольку вы и не поэт, и не русский. То есть писания многих ваших врагов основываются на консервативной эстетике с весьма ощутимой примесью антисемитизма.
ИБ: Вы знаете, Соломон, я вам сейчас просто прочту две строчки из письма, полученного мною сегодня по почте из Москвы. Вот они: «Жид недобитый! Будь ты проклят!» Все.
СВ: Что, это письмо пришло прямо на ваш нью-йоркский адрес?
ИБ: Да.
СВ: От такого можно поежиться… В такие моменты благодаришь судьбу за то, что живешь по другую сторону океана, под защитой…
ИБ: Да, «под защитой чуждых крыл»…
СВ: И теперь я, пожалуй, лучше понимаю, почему вы до сих пор не съездили в Россию и, в частности, в родной город…
ИБ: Ну мы ведь знаем, что дважды в ту же самую реку вступить невозможно, даже если эта река — Нева. Более того, на тот же асфальт невозможно вступить дважды, поскольку он меняется после каждой новой волны траффика. А если говорить серьезно, современная Россия — это уже другая страна, абсолютно другой мир. И оказаться там туристом — ну это уже полностью себя свести с ума. Ведь как правило, куда-нибудь едешь из-за некой внутренней или, скорее, внешней необходимости. Ни той, ни другой я, говоря откровенно, в связи с Россией не ощущаю. Потому что на самом деле — не едешь куда-то, а уезжаешь от чего-то. По крайней мере со мной все время так и происходит. Для меня жизнь — это постоянное удаление «от». И в этой ситуации лучше свое прошлое более или менее хранить в памяти, а лицом к лицу с ним стараться не сталкиваться.
СВ: У Ахматовой есть на этот счет высказывание, которое я очень люблю. Она говорила примерно так: «Отсутствие — лучшее лекарство от забвения; а лучший способ забыть навек — это видеть ежедневно». Я эти слова Ахматовой часто в последние годы повторял, поскольку писал историю культуры Санкт-Петербурга и все это время воображал какой-то идеальный город, которого, наверное, на самом-то деле нет и не было. Конечно, можно было бы туда поехать, но это, я уверен, помешало бы мне закончить книгу.
ИБ: Что ж, это вполне достойное соображение. Но у меня даже и такого аргумента нет, поскольку я ведь не знал, что я пишу и чего я не пишу. Потому что со стишками — знаете, как это? — день так, день иначе, непонятно, что происходит… Но уж коли мы стали докапываться до каких-то причин, то вот вам еще одно соображение. Ведь что в сильной степени выводит из себя в Европе? Что страны разные, их культуры разные, истории их разные, а кожаные куртки и стрижки у европейской молодой шпаны — везде одинаковые. Видеть этих молодых хулиганов на улице мне крайне неприятно. И если уж неприятно шпану эту видеть здесь, то увидеть ее в родном городе — это было бы уж совсем ни в какие ворота, да? Ну я не знаю…
СВ: Я давно хотел спросить вас вот о чем. В России теперь книги ваши выходят одна за другой. Но все они составлены не вами, а другими людьми. И в связи с этим от вас часто можно услышать разного рода претензии по поводу того, как та или иная из ваших книг составлена. А сами вы тем не менее за эту работу так и не беретесь. Если я не ошибаюсь, за всю вашу творческую историю вы, быть может, всего раз или два взяли на себя, что называется, ответственность за состав собственной книги. Это что, ваша позиция?
ИБ: Самый простой ответ будет такой: да, это моя позиция. Это так, если угодно. Мне действительно все равно, как будет выглядеть очередная моя книжка — постольку поскольку уже с самого начала все у меня пошло неправильно. Быть может, все это и надо было бы печатать в свое время какими-то циклами, согласно хронологии появления. Но поскольку это не имело места, то чего об этом и заботиться. Карты раз и навсегда спутаны, а исправлять что бы то ни было, приводить в порядок — я не собираюсь. Мне это абсолютно безразлично. Тем более что я вообще не смотрю на себя и на свои дела как на какой-то линейный процесс. То есть этот процесс, безусловно, линейный — просто потому, что время, к сожалению, линейно. По крайней мере, в нашей культуре, да? Но тем не менее никаких дополнительных усилий по выпрямлению своих дел я предпринимать не собираюсь. Никаких особых ощущений или замечательных идей — например, что что-то в моих книжках стоит не на том месте, что-то напечатано неправильно — у меня нет. Не там стоит — да и прекрасно, что не там.
СВ: То есть вы категорически отказываетесь составлять собственные книги стихов?
ИБ: Да, я этого делать совершенно не в состоянии. Единственное, что я в состоянии сделать — это написать цикл стихотворений. И тогда, конечно, хочется, чтобы он сразу же был опубликован, да? Но этого практически никогда не происходило. А ретроспективно этим заниматься — бессмысленно. Да и вообще, чтобы этим заниматься, надо к себе лучше относиться, чем это имеет место в моем случае. Ведь сочинительство — это процесс, как бы это сказать, не очень-то гладкий, да? И уж если у тебя есть возможность чем-то заниматься, то ты уж лучше стишки сочиняешь, чем книжки составляешь. А в тот момент, когда можно бы составлять книжку… Как правило, в тот момент стихи не пишутся, чего-то не получается. А когда стихи не получаются, тебе кажется, что они уже никогда не получатся. Что это, как сказала бы Ахматова, «ушло». Поэтому заниматься составлением книги в этот период — ну совершенно уже полный моветон, потому что думаешь: елки-палки, что происходит? Получается, что ты живешь вчерашней репутацией, старыми заслугами.
СВ: Я знаю, что такие периоды творческого отчаяния, когда кажется, что никогда уже ничего не сочинится, периодически приключались с Шостаковичем. Но он их всякий раз преодолевал. А с вами такое часто случается?
ИБ: Довольно часто. Всякий раз, когда стихотворение не пишется, не получается. Не то что чаще, но примерно столь же часто, как оно и получается. И когда стихотворение получается, сразу охота другое делать. Поэтому на составление книг нет внутреннего времени, чисто психологически. Пусть их лучше кто-нибудь другой составляет. Ну только там хронологию проверишь, да иногда два или три стихотворения перетасуешь.
СВ: Понятно, что у вас были проблемы с публикацией ваших стихов в Советском Союзе. Но ведь когда вы переехали в Соединенные Штаты, то хотя бы здесь можно было попытаться начать все заново, разве не так?
ИБ: Не совсем так… В Штатах тоже с самого начала все пошло как бы не по тем рельсам. Первые мои книжки составлял Леша Лосев. Прежде всего, для начала, это должна была быть одна книжка, а не две. Но эту книжку по издательским соображениям — прежде всего потому, что им таким образом пошло больше денег — разбили на две: «Конец прекрасной эпохи» (стихи 1964-1971) и «Часть речи» (стихи 1972-1976). Ну с этим можно было согласиться, потому что 1972 год был какой-то границей — по крайней мере, государственной, Советского Союза, да? Но ни в коем случае не психологической границей, хотя в том году я и перебрался из одной империи в другую. Тем не менее границы психологической я в своих стихах Того периода не вижу. Хотя и думаю, что, начиная со стихотворения «Темза в Челси», написанного в 1974 году, имеет место быть несколько иная поэтика. Это, я думаю, более или менее другие стихи. Но опять-таки, то, что эта поэтика другая, заметно только тогда, когда стихотворение это находится в соседстве с чем-то предыдущим, с тем, что более или менее подготовило этот сдвиг, или что было на излете или издыхало, что называется. Только тогда видно, что это — другая вещь. Так что мне самому не очень понятно, как все это делить на разделы и книжки, да и надо ли это делить вообще. Пусть себе идет одно за другим — как жизнь, более или менее.
СВ: А книги на английском языке, другие иностранные издания ваших стихов?
ИБ: Ну это — такое нормальное мероприятие, в них, в общем, включаешь те стихотворения, которые к данному моменту более или менее цивильно переведены. На этот счет у меня вообще никаких ни иллюзий, ни амбиций нет. Просто выходят книжки как книжки. В этом смысле я совершенно не профессионал.
СВ: И вдобавок, как бы выпадаете из традиций русской поэзии. Посмотрите, с какой маниакальной придирчивостью русские поэты нового времени — и Блок, и Анненский, и Пастернак, и Ахматова — относились к составлению циклов и книжек. Они бесконечно тасовали свои стихотворения.
ИБ: Быть может, за исключением Мандельштама…
СВ: Ну у него в какой-то момент наступили для этого неблагоприятные обстоятельства — вроде ваших. А так и он бы, думаю, весьма тщательно составлял бы все свои книжки. А вспомните классиков, вспомните книги Баратынского! На самом-то деле мне сейчас приходит в голову один-единственный пример отношения к собственным книжкам, схожий с вашим — это столь мало любимый вами Тютчев. Он тоже позволял другим людям составлять свои сборники, отказывался их править, а потом частным порядком жаловался на то, что там все перепутано. И он тоже настаивал на том, что не является профессиональным литератором. В этом отношении он был, пожалуй, еще последовательнее вас.
ИБ: Безусловно, безусловно. Никаких сомнений. Вы знаете, Соломон, — это, между прочим, наблюдение очень толковое и очень справедливое. Действительно, я — не литератор. У меня нет таких амбиций, как я уже сказал. Единственная амбиция, которая у меня существует — это амбиция по отношению к процессу, она заключается только в течении процесса, в самом процессе. А жизнь, так сказать, продукта меня совершенно не волнует. Мне совершенно безразлично, что происходит с моими стихами после того, как они написаны. И в этом смысле есть некоторые совпадения — или я надеюсь, что они есть — между тем, как я отношусь к своим занятиям — и древними. А вовсе не с Тютчевым.
СВ: Вы имеете в виду средневековых анонимов? Или же древних греков и римлян?
ИБ: Я говорю об античных авторах. Ведь все эти издания античных поэтов — они, до известной степени, посмертные издания, да? Иначе к ним невозможно относиться. Ведь как все это происходит? Исследователи что-то такое находят, а затем все это располагается в порядке, самим авторам не очень-то известном, да? Что есть — то и суется под обложку. Ну то же самое, хочется надеяться, происходит и в моем случае, с большим или меньшим приближением. Какие эклоги у меня написаны, те я и отдаю в книжку. Ну когда их набирается достаточное количество. А вся эта забота поэта о своей биографии — моветон, как я уже сказал. Тем более для XX века, поскольку в этом веке, особенно в русской поэзии, стилистически все находится в процессе развития. И это развитие, как мне кажется, до сих пор продолжается. Так что мне совершенно неохота останавливаться на какой бы то ни было манере высказывания. И я думаю, что это не только мне свойственно, а и многим другим. Именно поэтому хронология в поэтических сборниках не так уж и важна, честно говоря. Поскольку за развитием поэта следишь либо по его стилистическому движению, либо по увеличивающейся глубине содержания. И в этом смысле ни составитель сборника, ни его читатель ошибки совершить не могут.
СВ: Не должны, во всяком случае…
ИБ: Да, не должны! Не должны. Невозможно в сборнике Пастернака, к примеру, стихи из «Доктора Живаго» поставить перед стихами из книги «Поверх барьеров». Это просто не будет иметь смысла. Или же будет иметь тот высший античный смысл, о котором мы только что говорили.
СВ: Я к вопросу хронологии в поэтических сборниках подхожу чисто эгоистически, как простой читатель. Мне всегда интересно знать, в каком именно году поэт написал то или иное стихотворение. Я тогда могу вычислить, сколько ему было в тот момент лет, каковы были обстоятельства — исторические и приватные. И меня раздражает, когда поэты эти обстоятельства нарочно затемняют. Многие из них к хронологии своих стихов относятся со сложными чувствами. А вы как-то особенно амбивалентны на этот счет.
ИБ: Вы знаете, Соломон, я тут перечитал какие-то свои старенькие стишки. Ну это полный бред! Это ночь, абсолютная! Чего там я только, не насочинял! И в связи с этим мне пришло в голову следующее соображение. Если бы у меня была возможность в отечестве печатать все, что мне в голову взбрело написать, то это, конечно, была бы полная катастрофа. Так что в некотором роде я должен быть благодарен за все те цензурные рогатки, которые в отечестве существовали. Слава Богу, что они были! Конечно, потом, лет после двадцати пяти, когда я начал заниматься сочинительством более или менее всерьез, был момент, когда хорошо было бы, если бы возник такой естественный процесс, да? Если бы я мог составлять и печатать свои книжки по мере появления каких-то циклов. И даже здесь, на Западе, меня несколько раз подмывало задним числом отобрать то, что было сделано, и напечатать это в каком-то определенном порядке. Но этого делать не следует. Так не делается. Стихи уже напечатаны — в каком-то скорее беспорядке, чем порядке. Но безумный беспорядок — есть порядок, как говорил Уоллес Стивенс. И я, в отличие от нормального читателя, подобные вещи понимаю буквально, а потому принимаю их чрезвычайно близко к сердцу. В жизни, в поведении своем я всегда исходил из того — как получается, так и получается. Впоследствии — если грамматически такое время вообще существует — все, в общем, станет более или менее на свои места. По крайней мере, в отношении издания моих книжек. Хотя я этого чудовищно боюсь, потому что представляю себе, чего там натворят даже самые замечательные люди, даже из самых замечательных побуждений. И какой хаос там воцарится. Потому что ничего более страшного, чем посмертные комментарии, вообразить себе нельзя. Я думаю, что даже в случае с Пушкиным хронология очень сильно переврана, то есть порядок стихов переставлен. Это, как вы понимаете, не параллель, а просто наиболее показательный пример, поскольку у Пушкина-то все должно было бы быть более или менее ясно. Что уж тут говорить о людях вроде Лермонтова, там вообще непонятно — где и что происходит. Вот сейчас мучаются над Цветаевой. Бог даст, какая-то внятная хронология выявится. А что касается меня, то, как мне кажется, какая-то и чисто стилистическая, и интеллектуальная, если угодно, прогрессия настолько очевидна, что никакой особенной трудности с установлением хронологии быть, вроде бы, не должно. Хотя я представляю себе, что они там в итоге наворотят! А потому мне абсолютно все равно.
СВ: Иосиф, я пытаюсь во всем этом разобраться вместе с вами, и мне кажется, что в этом вашем самоустранении в связи с публикацией собственных книг есть еще два чисто психологических момента. Первое: можно сказать, что это то самое смирение, которое паче гордыни. А другая эмоция — она, кстати, присутствовала, на мой взгляд, и у Тютчева, от которого вы так открещиваетесь, — сводится примерно к следующему: раз я этим не занимался, то с меня и взятки гладки. То есть вы с себя как бы снимаете ответственность за конечный продукт. Это боязнь — может быть, даже подсознательная — читательского суда.
ИБ: Соломон, я могу вам сказать совершенно точно, что никакой боязни, никаких комплексов у меня в связи с этим нет. И я не ставлю себя выше читателя — как, впрочем, и ниже. Может быть, в этом смысле я — продукт советской системы, но никогда я не относился к себе как к автору. Честное слово! Хотя это заявление, будучи произнесенным, может восприниматься как некое кокетство. На самом деле я всю жизнь относился к себе — и это главное! — прежде всего как к некоей метафизической единице, да? И главным образом меня интересовало, что с человеком, с индивидуумом происходит в метафизическом плане. Стихи на самом-то деле продукт побочный, хотя всегда считается наоборот. На самом-то деле это — чушь. И не то чтобы я считал это занятие — составление своих книжек и прочее — суетным. Ничего подобного, ровно наоборот! Это занятие чрезвычайно благородное, дельное, серьезное — в общем, выберите любой эпитет, какой вам заблагорассудится! Но вся история заключается в том, что у меня для этого нет ни времени, ни желания. Ахматова говорила: «Когда стихи не пишутся, жить очень неуютно». Когда поэт составляет книгу? Когда можно этим заниматься? Когда не занимаешься стихописанием как таковым. Но когда ты не занимаешься стихописанием, то совершенно балдеешь. Ты звереешь — в первую очередь по отношению к самому себе. Я хочу, чтобы вы меня поняли, Соломон. Когда не пишется, то думаешь, что жизнь кончилась. У меня к себе отношение в некотором роде романтическое. Не столько даже к себе лично, сколько к существованию как к таковому. А с самим собой у меня отношения кальвинистские, если угодно. И это вовсе не гордыня.
СВ: Как же вы перепрыгиваете через эту психологическую пропасть — я имею в виду, когда стихи не сочиняются?
ИБ: Когда они не сочиняются, их стараешься сочинить, да? Или пытаешься каким-то образом забить себе голову, да уж так, чтоб и не вспоминать об этом. Переводы делаешь, лекции готовишь, книжки читаешь — я уж не знаю что. Книжку, кстати, куда интереснее читать, чем составлять, я вам точно говорю. То есть важнее для индивидуума в чисто метафизическом, да и каком угодно смысле. Было время, когда я думал, что уж не составлю в своей жизни ни одной книжки, что этого не произойдет никогда. Просто не доживу. Поскольку чем старше становишься — тем труднее этим заниматься. Но один сборничек я все же составил.
СВ: «Новые стансы к Августе»?
ИБ: Да. Как вам, вероятно, известно, это сборник стихов за двадцать лет с одним, более или менее, адресатом. И до известной степени это главное дело моей жизни. Когда я об этом думал, то решил так: даже самые лучшие руки этого касаться не должны, так что лучше уж это сделаю я сам. И опять-таки если бы я этого не сделал сам, то уж тут наворотили бы такого ералаша! Кроме того, мне пришла в голову совершенно внезапным образом, во время разговора с Лешей Лосевым, одна мысль. Я просмотрел все эти стихи и вдруг увидел, что они поразительным образом выстраиваются в некий сюжет. И мне представляется, что в итоге «Новые стансы к Августе» можно читать, как отдельное произведение. К сожалению, я не написал «Божественной комедии». И, видимо, уже никогда ее не напишу. А тут получилась в некотором роде поэтическая книжка со своим сюжетом — по принципу скорее прозаическому, нежели какому бы то ни было другому. И у меня есть тайная надежда, что читатели это сообразят. То есть что они в каком-то таком бесконечном смысле тоже окажутся на уровне. Что они дотянут. Ну я не знаю даже, как это объяснить.
СВ: Кстати, одно обстоятельство меня удивляет. Поэзия ваша весьма эпична и все более и более эпичнеет, что ли…
ИБ: «Эпичнеет» — это замечательно…
СВ: Но при этом вы до сих пор не разразились каким-нибудь монументальным романом в стихах.
ИБ: Вы знаете, я ведь два раза предпринимал подобную попытку. Ну, по молодости лет я написал эту ахинею — «Шествие». Мне тогда было чуть больше двадцати. Потом, когда все уже посерьезнело, я написал нечто, что — даже и сейчас, когда я оглядываюсь на это — хотя это уже почти и невозможно — мне представляется произведением чрезвычайно серьезным.
СВ: «Горбунов и Горчаков»?
ИБ: Да. А что касается «Комедии Дивины»… Ну я не знаю, но, видимо, нет — уже не напишу. Если бы я жил в России, дома — тогда, может быть, я и предпринял бы подобную попытку в третий раз. Знаете, ведь такие вещи можно сочинять, только находясь в каком-то естественном контексте. Когда ты начинаешь думать: ладно, я им сейчас всем врежу — и старым, и малым. То есть и предшественникам, и потомкам, да? Подобный сентимент может вас одолевать исключительно в том случае, если вы находитесь в своей естественной среде. Когда же вы из нее выпадаете — или выбываете — то существование начинает носить несколько более отчаянный характер. И уже не до грандиозных замыслов.
СВ: А с другой стороны то, что по-русски называется несколько высокопарным словом «изгнание», дает фантастическое преимущество в виде эффекта остранения.
ИБ: Совершенно верно. Но у меня уж этого самого остранения навалом. Я вообще чересчур уж наостранялся, вы знаете. Это уже превратилось в инстинкт. Зарекаться, конечно, не надо, да я и не зарекаюсь, но по тому, как жизнь идет — крупных произведений мне уже не сочинять. А читателю — не читать. Не говоря уж о том, что они не читают того, что уже написано людьми получше нас — скажем, «Гильгамеш», Гомера или, допустим, того же Данте.
СВ: Ну люди всегда предпочитают читать современников. И за это их стыдить не приходится, хотя есть такая вечная тенденция: вздымать руки к небу и сокрушаться, что вот, не читают Гомера, а читают, как когда-то Саша Черный сказал, «поэта Бородавкина». Но это же ерунда. Потому что современный поэт всегда скажет нечто, что гораздо больнее резанет по коже, чем любой классик. Так всегда было и будет. Это совершенно нормальная вещь.
ИБ: Не знаю, не знаю… Может быть… Ну может быть я чего-нибудь предприму вроде оденовского «For the Time Being», если Бог даст. Это, знаете ли, не от меня зависит. Ведь сочиняешь более или менее в зависимости от того, как твоя собственная просодия развивается. А вовсе не потому, что тебе есть что сказать. Вы знаете, ведь существует какой-то такой непосредственный диктат языка: слова начинают звучать — то-се, пятое-десятое. Не знаю, может быть, моя просодия и доизменяется до какого-нибудь эпоса. С другой стороны, вот Монтале ничего такого не сочинил эпического. Да и Элиот тоже ничего такого особенно эпического не сочинял, хотя он, конечно, примером служить не может. И Йейтс ничего эпического не сочинял.
СВ: И Мандельштам… А у Пастернака его стихотворный роман «Спекторский» — не из лучших его сочинений.