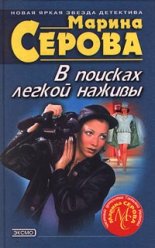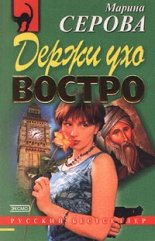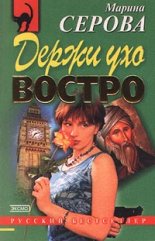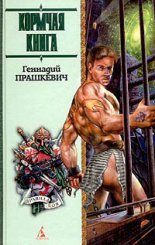Диалоги с Иосифом Бродским Волков Соломон
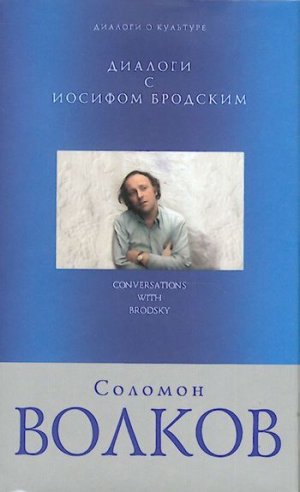
Волков: Нет, не могу.
ИБ: У него в голове происходит полный бенц! Между тем Шахматов был человеком весьма незаурядным: колоссальная к музыке способность, играл на гитаре, вообще талантливая фигура. Общаться с ним было интересно. Потом произошло вот что: он отлил в галоши и бросил их в суп на коммунальной кухне в общежитии, где жила его подруга, — в знак протеста против того, что подруга не пускала его в свою комнату после двенадцати часов ночи. На этом Шахматова попутали, дали ему год за хулиганство. Он загремел, потом освободился, опять приехал в Ленинград. Я к нему хорошо относился, потому что мне с ним было очень интересно. Когда вам двадцать лет, вам все интересно. А тут — пестрая биография, летчик. Все как полагается.
СВ: Действительно пестрая биография, ничего не скажешь!
ИБ: Потом Шахматов снова уехал и объявился в Самарканде, где, сбежав с собственной свадьбы, стал учиться игре на гитаре в местной консерватории и жить со своей преподавательницей, которая была довольно замечательная дама, армянка. Одновременно он преподавал музыку в местном Доме офицеров. И вот он стал призывать меня в гости — знаете, эти цветастые письма из Средней Азии?
СВ: Догадываюсь. Я ведь в Средней Азии родился, в Ходженте.
ИБ: А мне в Среднюю Азию всю дорогу хотелось! Тут я заработал какие-то деньги на телевидении, фотографиями, и смог отправиться в Самарканд. Мы с Шахматовым были там крайне неблагополучны: ни крыши над головой не было, ни черта. Ночевали где придется. Вся эта история была, между прочим, чистый роман-эпопея. Короче, в один прекрасный день, когда Шахматов в очередной раз жаловался мне на полное свое неблагополучие (а он считал, что очень натерпелся от советской власти), нам пришла в голову идея — не помню, кому именно… скорее всего мне. Короче, я говорю Шахматову: «Олег, будь я на твоем месте, я бы просто сел в один из этих маленьких самолетов, вроде ЯК-12, и отвалил бы в Афганистан. Ведь ты же летчик! А в Афганистане дотянул куда бензину бы хватило, а потом пешком просто дошел бы до ближайшего города — до Кабула, я не знаю».
СВ: И как Шахматов на эту идею отреагировал?
ИБ: Он предложил бежать в Афганистан вдвоем. План был таков. Мы покупаем билеты на один из этих маленьких самолетиков. Шахматов садится рядом с летчиком, я сажусь сзади, с камнем. Трах этого летчика по башке. Я его связываю, а Шахматов берет штурвал. Мы поднимаемся на большую высоту, потом планируем и идем над границей, так что никакие радары нас бы не засекли.
СВ: Это же киплинговская эскапада!
ИБ: Не знаю, насколько этот план был реален, но мы его обсуждали всерьез. Шахматов все-таки был старше меня лет на десять, да вдобавок был летчиком. Так что он должен был знать, о чем идет речь.
СВ: Насколько я знаю, в вашем деле побег как таковой не фигурировал, а только подготовка к нему. Что же вас остановило?
ИБ: Дело в том, что изначально это была все-таки моя идея. И я конечно, подонок и негодяй. Потому что, когда мы уже купили билеты на этот самолет — все четыре билета, все три сиденья, как полагается, — я вдруг передумал.
СВ: Испугались?
ИБ: Нет, все было по-другому За час до отлета я на сдачу — у меня рубль остался — купил грецких орехов. И вот сижу я и колю их тем самым камнем, которым намечал этого летчика по башке трахать. А по тем временам, начитавшись Сент-Экзюпери, я летчиков всех обожал. И до сих пор обожаю. Вообще, летать — это такая моя сверхидея. Когда я приехал в Штаты, я в первые три или четыре месяца даже брал уроки пилотирования. И даже летал — садился и взлетал! Ну это неважно… Колю я, значит, эти орехи и вдруг понимаю, что орех-то внутри выглядит как…
СВ: Человеческий мозг!
ИБ: Именно так. И я думаю — ну с какой стати я его буду бить по голове? Что он мне плохого сделал, в конце концов? И, главное, я этого летчика еще увидел… И вообще, кому все это надо — этот Афганистан? Родина — не родина — этих категорий, конечно, не было. Но я вдруг вспомнил девушку, которая у меня об ту пору была в Ленинграде. Хотя она уже была замужем… Я понял, что никогда ее не увижу. Подумал, что еще кого-то не увижу — друзей, знакомых. И это меня задело, взяло за живое. В общем, домой захотелось. В конце концов — вокруг Средняя Азия, а я все-таки белый человек, да? Словом, я сказал Олегу, что никак не могу пойти на этот номер. И мы разными путями вернулись в Европейскую часть СССР. Потом я видел Шахматова в Москве, где он более или менее бедствовал. А через год его взяли с револьвером в Красноярске.
СВ: Это и было началом дела Уманского?
ИБ: Да, потому что Шахматов — видимо, испугавшись, что ему дадут еще один срок — заявил, что объяснит факт хранения револьвера только представителю госбезопасности, каковой представитель был ему немедленно предоставлен, потому что в России ничего проще нет. Там это — как здесь quick coin laundry.
СВ: В следственных материалах ваша идея побега квалифицировалась как «план измены Родине», или что-то в этом роде. То есть властям об этом было все известно, так?
ИБ: Да, потому что Шахматов этому представителю госбезопасности все рассказал. Винить его за это не приходится, поскольку он как бы шкуру свою спасал, но некоторым из нас досталось довольно солоно, особенно Уманскому. Поскольку Шахматов назвал всех, кого он знал, объяснив, что они большие враги советской власти. И нас всех стали брать. Человек двадцать вызвали в качестве свидетелей. Меня тоже вызвали в качестве свидетеля, а оставили уже в качестве подозреваемого. Ну, нормально.
СВ: Как же вам удалось тогда выкрутиться?
ИБ: Меня, подержав, выпустили, поскольку оказалось, после допроса двадцати человек, что единственное показание против меня — самого же Шахматова. А это даже по советской юридической системе было не совсем комильфо. С Уманским же произошла история похуже, потому что против него показал, во-первых, сам Шахматов, а, во-вторых, жена Уманского и ее любовник.
СВ: Значит, цепочка к процессу Бродского протянулась непосредственно отдела Уманского?
ИБ: Я думаю, что все было гораздо интереснее и сложнее. Но ни вдумываться в это, ни разбираться в этом не хочу. Не желаю. Поскольку меня совершенно не интересуют причины. Меня интересуют следствия. Потому что следствия всегда наиболее безобразны. То есть — по крайней мере, зрительно — они куда занятней.
СВ: Возвращаясь к этому чертику из табакерки, Лернеру — почему ему пришла в голову мысль писать фельетон? Ведь он вовсе не был журналистом по профессии.
ИБ: Видимо, это была не собственная идея Лернера. Его, видимо, науськала госбезопасность. Поскольку мое досье все росло и росло. И, полагаю, пришла пора принимать меры. Что касается Лернера, то он вообще был никто. Насколько я помню, он имел боевое прошлое в госбезопасности. Ну, может быть, не такое уж и боевое, не знаю. Вообще, такой отставной энтузиаст со слезящимся глазом. Один глаз у него, по-моему, даже был искусственный. Все как полагается! Полная катастрофа! И ему, естественно, хотелось самоутвердиться. Это совпало с интересами госбезопасности. И понеслось! А уж когда меня попутали в третий раз, тогда они припомнили мне все — и «Синтаксис», и Уманского, и Шахматова, и Самарканд, и всех, с кем мы там встречались.
СВ: А когда на вас все это свалилось — третий арест, процесс — как вы все это восприняли: как бедствие? Как поединок? Как возможность конфронтации с властью?
ИБ: На этот вопрос сложно ответить, потому что трудно не поддаться искушению интерпретировать прошлое с сегодняшних позиций. С другой стороны, у меня есть основания думать, что именно в этом аспекте особенной разницы между моими ощущениями тогда и сейчас нет. То есть я лично этой разницы не замечаю. И могу сказать, что не ощущал все эти события ни как трагедию, ни как мою конфронтацию с властью.
СВ: Неужели вы не боялись?
ИБ: Вы знаете, когда меня арестовали в первый раз, я был сильно напуган. Ведь берут обыкновенно довольно рано, часов в шесть утра, когда вы только из кроватки, тепленький, и у вас слабый защитный рефлекс. И, конечно, я сильно испугался. Ну представьте себе: вас привозят в Большой дом, допрашивают, после допроса ведут в камеру. (Подождите, Соломон, я сейчас возьму сигарету.)
СВ: А что — камеры находятся прямо там, в Большом доме?
ИБ: Вы что, не знаете? Ну я могу вам рассказать. Большой дом это довольно интересное предприятие. В том смысле, что он физически воплощает идею «вещи в себе». То есть Большой дом имеет — как бы это сказать? — свой периметр, да? Большой дом построен в форме квадрата, внутри которого существует еще один квадрат. И внутренний квадрат сообщается с внешним посредством Моста Вздохов.
СВ: Как в Венеции?
ИБ: Именно! В Большом доме этот мост построен, если не ошибаюсь, на уровне второго этажа — такой коридор между вторым и третьим этажом. И по нему вас переводят из внешнего здания во внутреннее, которое и есть собственно тюрьма. И самый страшный момент наступает, собственно говоря, после допроса, когда вы надеетесь, что вас сейчас отпустят домой. И вы думаете: вот сейчас выйду на улицу! Поскорей бы! И вдруг понимаете, что вас ведут совершенно в другую сторону:
СВ: А каков дальнейший тюремный ритуал?
ИБ: Дальше вам говорят: «Руки за спину!» И ведут. И перед вами вдруг начинают отворяться двери. Вам ничего не говорят, вы сами все понимаете. Чего уж тут говорить! Никакие интерпретации здесь невозможны.
СВ: Почти по Сюзан Зонтаг — «against interpretation»!
ИБ: Наконец тот, кто вас довел до конца коридора по этому Мосту Вздохов, сдает вас местному дежурному у двери внутренней тюрьмы. Этот дежурный, вкупе с помощником, вас обыскивает. После чего у вас вынимают шнурки из ботинок. И ведут далее. Меня, например, привели на третий этаж. Между прочим, моя камера располагалась над ленинской камерой, если я не ошибаюсь. Когда меня вели, то сказали, чтобы я в ту сторону не смотрел. Я пытался выяснить, почему. И мне разъяснили, что вот в той камере сидел сам Ленин, и мне, в качестве врага, смотреть на это совершенно не полагается.
СВ: А разве Большой дом такое старое здание, что в нем еще Ленин сидел?
ИБ: Внутреннее здание существовало еще до революции. А внешнее построено уже при большевиках. По-моему, в двадцатые годы. Когда ни о каком сталинском терроре еще, казалось бы, не было и речи. То есть чуваки уже тогда знали, к чему они стремились. И над созданием этого внешнего здания трудилось много замечательных людей. По-моему, даже Александр Бенуа принимал участие в постройке. Но, может быть, я зря клепаю на Бенуа[5].
СВ: Бенуа уехал в Париж, если не ошибаюсь, в 1926 году. Но это можно проверить…
ИБ: Если в этом есть необходимость… Короче, вас приводят в камеру. И когда меня в первый раз в жизни привели в камеру, то мне между прочим, очень там понравилось. Действительно, понравилось! Потому что это была одиночка.
СВ: А что, дверь в камеру действительно захлопывается с таким зверским лязгом, как в кинофильмах из тюремной жизни?
ИБ: Да, именно с таким лязгом.
СВ: Ну вот вы в одиночной камере Большого дома. Опишите ее для меня.
ИБ: Ну, кирпичные стены, но они замазаны масляной краской — если не ошибаюсь, такого зелено-стального цвета. Потолочек белый, а, может быть, даже серый, я не помню. Вас запирают. И вы оказываетесь тет-а-тет со своей лежанкой, умывальничком и сортиром.
СВ: А какого размера камера?
ИБ: Если не ошибаюсь, восемь или десять шагов в длину. Примерно как эта моя комната здесь, в Нью-Йорке, но уже в два раза. Что же в ней было? Тумбочка, умывальник, очко. Что еще?
СВ: Что такое — «очко»?
ИБ: Очко? Это такая дыра в полу, это уборная. Я не понимаю, где вы жили, Соломон?!
СВ: В это время уже жил в Ленинграде, в том же самом городе, где и вы, в интернате музыкальной школы при консерватории. И такого слова — «очко» — никогда не слышал.
ИБ: Что еще? Окно, сквозь которое вы ничего не можете увидеть. Потому что там, кроме, как полагается, решетки, еще снаружи намордник. Сразу объясняю: это такой деревянный футляр, чтобы вы не могли высунуться, скорчить кому-нибудь рожу или помахать ручкой. И вообще чтобы вам было максимально неприятно.
СВ: Лампа стоит на тумбочке?
ИБ: Нет, лампочка висит, вделанная в потолок. И она тоже забрана решеткой, чтобы вы не вздумали ее разбить. В двери, естественно, глазок и кормушка.
СВ: Кормушка открывается вовнутрь, как в фильмах?
ИБ: Да, вовнутрь. Но дело в том, что, пока я там сидел, я не видел, как она открывается. Поскольку это была следственная тюрьма. И меня по двенадцать часов держали на допросах. Так что еду, когда я возвращался в камеру, я находил уже на тумбочке. Что было с их стороны довольно интеллигентно.
СВ: А что за еда была?
ИБ: Еда банальная, то есть незатейливая. Помню, один раз я получил котлетку, что меня очень сильно обрадовало. Ну про тюремную еду говорить — это смех и грех, да? Да и вообще, во время следствия кормят более или менее прилично — если сравнить с тем, как кормят в настоящей тюрьме.
СВ: А когда вас арестовали по делу Уманского, то опять повезли в Большой дом?
ИБ: Да. Но в третий раз я миновал Большой дом. Меня попутали на улице и отвезли в отделение милиции. Там держали, кажется, около недели. После чего меня отправили в сумасшедший дом на Пряжке, на так называемую судебно-психиатрическую экспертизу. Там меня держали несколько недель. И это было самое худшее время в моей жизни.
СВ: Я понимаю, что об этом вспоминать нелегко. И на вашем месте я, вполне вероятно, тоже отказывался бы отвечать на вопросы об этом периоде. Но в данном случае я выступаю как историк культуры, если угодно. Как хроникер культуры. И я бы хотел узнать о вашем пребывании в психушках несколько подробнее. Сколько раз вы там оказывались?
ИБ: Ну… два раза…
СВ: Когда именно?
ИБ: Первый раз — в декабре 1963 года. Второй раз… В каком же месяце это было? В феврале-марте 1964-го. И я даже все это стихами описал, что называется. Знаете — «Горбунов и Горчаков»?
СВ: Как в стихах — знаю. Расскажите, как это было на самом деле. Меня особенно интересует второй раз, когда власти отправили вас на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.
ИБ: Ну, это был нормальный сумасшедший дом. Смешанные палаты, в которых держали и буйных, и не буйных. Поскольку и тех, и других подозревали…
СВ: В симуляции?
ИБ: Да, в симуляции. И в первую же мою ночь там человек в койке, стоявшей рядом с моей, покончил жизнь самоубийством. Вскрыл себе вены. Помню, как я проснулся в три часа ночи: кругом суматоха, беготня. И человек лежит в луже крови. Каким образом он достал бритву? Совершенно непонятно…
СВ: Ничего себе первое впечатление.
ИБ: Нет, первое впечатление было другое. И оно почти свело меня с ума, как только я туда вошел, в эту палату. Меня поразила организация пространства там. Я до сих пор не знаю, в чем было дело: то ли окна немножко меньше обычных, то ли потолки слишком низкие, то ли кровати слишком большие. А кровати там были такие железные, солдатские, очень старые, чуть ли не николаевского еще времени. В общем, налицо было колоссальное нарушение пропорций. Как будто вы попадаете в какую-то горницу XVI века, в какие-нибудь Поганкины палаты, а там стоит современная мебель.
СВ: Утки?
ИБ: Ну уток там как раз и не было. Но это нарушение пропорций совершенно сводило меня с ума. К тому же окна не открываются на прогулку не водят, на улицу выйти нельзя. Там всем давали свидания с родными, кроме меня.
СВ: Почему?
ИБ: Не знаю. Вероятно, считали меня самым злостным.
СВ: Я хорошо понимаю это ощущение полной изоляций. Но ведь и в тюрьме в одиночке было не слаще?
ИБ: В тюремной камере можно было вызвать надзирателя, если с вами приключался сердечный припадок или что-то в этом роде. Можно было позвонить — для этого существовала такая ручка, которую вы дергали. Беда заключалась в том, что если вы дергали эту ручку второй раз, то звонок уже не звонил. Но в психушке гораздо хуже, потому что вас там колют всяческой дурью и заталкивают в вас какие-то таблетки.
СВ: А уколы — это больно?
ИБ: Как правило, нет. За исключением тех случаев, когда вам вкалывают серу. Тогда даже движение мизинца причиняет невероятную физическую боль. Это делается для того, чтобы вас затормозить, остановить, чтобы вы абсолютно ничего не могли делать, не могли пошевелиться. Обычно серу колют буйным, когда они начинают метаться и скандалить. Но кроме того санитарки и медбратья таким образом просто развлекаются. Я помню, в этой психушке были молодые ребята с заскоками, попросту — дебилы. И санитарки начинали их дразнить. То есть заводили их, что называется, эротическим образом. И как только у этих ребят начинало вставать, сразу же появлялись медбратья и начинали их скручивать и колоть серой. Ну каждый развлекается как может. А там, в психушке, служить скучно, в конце концов.
СВ: Санитары сильно вас допекали?
ИБ: Ну представьте себе: вы лежите, читаете — ну там, я не знаю, Луи Буссенара — вдруг входят два медбрата, вынимают вас из станка, заворачивают в простынь и начинают топить в ванной. Потом они из ванной вас вынимают, но простыни не разворачивают. И эти простыни начинают ссыхаться на вас. Это называется «укрутка». Вообще было довольно противно. Довольно противно… Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дурдом лучше, чем тюрьма. Между прочим, «от сумы да от тюрьмы не зарекайся», да? Ну это было в другое время…
СВ: А почему, по-вашему, русский человек полагает, что дурдом все-таки лучше тюрьмы?
ИБ: Он из чего исходит? Он исходит из того, — и это нормально, — что кормежка лучше. Действительно, кормежка в дурдоме лучше: иногда белый хлеб дают, масло, даже мясо.
СВ: И тем не менее, вы настаиваете, что в тюрьме все-таки лучше.
ИБ: Да, потому что в тюрьме, по крайней мере, вы знаете, что вас ожидает. У вас срок — от звонка до звонка. Конечно, могут навесить еще один срок. Но могут и не навесить. И в принципе ты знаешь, что рано или поздно тебя все-таки выпустят, да? В то время как в сумасшедшем доме ты полностью зависишь от произвола врачей.
СВ: Я понимаю, что этим врачам вы доверять не могли…
ИБ: Я считаю, что уровень психиатрии в России — как и во всем мире — чрезвычайно низкий. Средства, которыми она пользуется, — весьма приблизительные. На самом деле у этих людей нет никакого представления о подлинных процессах, происходящих в мозгу и в нервной системе. Я, к примеру, знаю, что самолет летает, но каким именно образом это происходит, представляю себе довольно слабо. В психиатрии схожая ситуация. И поэтому они подвергают вас совершенно чудовищным экспериментам. Это все равно, что вскрывать часовой механизм колуном, да? То есть вас действительно могут бесповоротно изуродовать. В то время как тюрьма — ну что это такое, в конце концов? Недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Всего лишь.
СВ: Я вижу, что к тюрьме вы как-то приноровились, чего нельзя сказать о психушке.
ИБ: Потому что тюрьму можно более или менее перетерпеть. Ничего особенно с вами там не происходит: вас не учат никого ненавидеть, не делают вам уколов. Конечно, в тюрьме вам могут дать по морде или посадить в шизо…
СВ: Что такое шизо?
ИБ: Штрафной изолятор! В общем, тюрьма — это нормально, да? В то время как сумдом… Помню, когда я переступил порог этого заведения, первое, что мне сказали: «главный признак здоровья — это нормальный крепкий сон». Я себя считал абсолютно нормальным. Но я не мог уснуть! Просто не мог уснуть! Начинаешь следить за собою, думать о себе. И в итоге появляются комплексы, которые совершенно не должны иметь места. Ну это неважно…
СВ: Расскажите о «Крестах». Ведь само это название — часть петербургско-ленинградского фольклора, как и Большой дом.
ИБ: Чисто визуально «Кресты» — это колоссальное зрелище. Я имею в виду не внутренний двор, потому что он довольно банальный. Да я его и видел, работая в морге. А вот вид изнутри! Потому что эту тюрьму построили в конце XIX века. И это не то чтобы арт нуво, но все-таки: все эти галереи, пружины, проволока…
СВ: Похоже на Пиранези?
ИБ: Чистый Пиранези! Абсолютно! Такой — а ля рюсс. Даже не а ля рюсс, а с немецким уклоном. Похоже на Путиловский завод. Красный кирпич везде. В общем, довольно приятно. Но потом было уже менее интересно, потому что меня поместили в общую камеру, где нас было четыре человека. Это уже сложнее, ибо начинается общение. А в одиночке всегда гораздо лучше.
СВ: А как менялись ваши эмоции от первой к третьей посадке?
ИБ: Ну когда меня вели в «Кресты» в первый раз, то я был в панике. В состоянии, близком к истерике. Но я как бы ничем этой паники не продемонстрировал, не выдал себя. Во второй раз уже никаких особых эмоций не было, просто я узнавал знакомые места. Ну а в третий раз это уж была абсолютная инерция. Все-таки самое неприятное — это арест. Точнее, сам процесс ареста, когда вас берут. То время, пока вас обыскивают. Потому что вы еще ни там, ни сям. Вам кажется, что вы еще можете вырваться. А когда вы уже оказываетесь внутри тюрьмы, тогда уж все неважно. В конце концов, это та же система, что и на воле.
СВ: Что вы имеете в виду?
ИБ: Видите ли, я в свое время пытался объяснить своим корешам, что тюрьма — это не столь уж альтернативная реальность, чтобы так ее опасаться. Жить тихо, держать язык за зубами — и все это из-за боязни тюрьмы? Бояться-то особенно нечего. Может быть, мы этого ничего уже не видели потому, что были другим поколением? Может быть, у нас порог страха был немножечко ниже, да?
СВ: Вы хотите сказать — выше?
ИБ: В общем, когда моложе — боишься меньше. Думаешь, что перетерпеть можешь больше. И потому перспектива потери свободы не так уж сводит тебя с ума.
СВ: А как у вас сложились отношения со следователями?
ИБ: Ну, я просто ни на какое общение не шел, ни на какие разговоры. Просто держал язык за зубами. Это их выводило из себя. Тут они на тебя и кулаками стучать, и по морде бить…
СВ: Что, действительно били?
ИБ: Били. Довольно сильно, между прочим. Несколько раз.
СВ: Но ведь это было время, как тогда любили говорить, сравнительно вегетарианское. И вроде бы бить не полагалось?
ИБ: Мало ли что не полагалось.
СВ: А разве нельзя было эти побои каким-то законным образом обжаловать?
ИБ: Каким? Это, знаете ли, было еще до расцвета правозащитного движения.
СВ: Многие из нас, кто на самом процессе Бродского не был, знакомы, тем не менее, с его ходом по стенографическим записям, сделанным в зале суда журналисткой Фридой Вигдоровой. Эти записи широко ходили в российском самиздате. Они аккуратно отражают ход судебного разбирательства?
ИБ: Аккуратно, но там ведь не все. Там, может быть, одна шестая процесса. Потому что ведь ее выставили из зала довольно быстро. А уж потом начались наиболее драматические, наиболее замечательные эпизоды.
СВ: Я считал эти записи выдающимся документом.
ИБ: Вы, может быть, считаете, а я — нет. Не говоря уж о том, что этот документ был с тех пор напечатан тысячу раз. Не так уж это все и интересно, Соломон. Поверьте мне.
СВ: Ну об уникальности этого документа как раз и свидетельствует тот факт, что он был опубликован по всему миру. И с тех пор цитировался бесчисленное количество раз.
ИБ: Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне.
СВ: Особенность этого процесса была в том, что судили поэта. В России поэт — фигура символическая, особенно талантливый. И никакому другому русскому поэту вашего ранга в тот период так же сильно от властей не досталось.
ИБ: Ну я тогда не был поэтом никакого ранга. Во всяком случае, с моей собственной точки зрения. Может быть, с точки зрения — не знаю уж там, Господа Бога…
СВ: Вас в России тогда не печатали, но читали и почитали, потому что стихи ваши достаточно широко расходились в самиздате. О большем признании в тот момент и мечтать, наверное, нельзя было. Власти более или менее представляли себе, кого они судят. Вы что, хотели бы, чтобы они устроили процесс в тот момент, когда вы получите Нобелевскую премию?
ИБ: Можно было бы!
СВ: Процесс над вами пришелся на исторически очень важный для России момент. В тот период у многих были упования, что дело идет к большей свободе. Хрущев разрешил напечатать «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Начали устраивать какие-то выставки, играть современную музыку. Я хорошо помню это ощущение каких-то ожиданий.
ИБ: Ну это был уже конец хрущевского периода. Его же как раз в октябре 1964 года и скинули.
СВ: А когда перечитываешь стенограмму Вигдоровой, понимаешь, что все эти надежды были наивными. У меня лично при чтении записей Вигдоровой волосы встают дыбом.
ИБ: Ну это напрасно.
СВ: Потому что воочию видишь, как эта государственная машина движется, подминая под себя все независимое, творческое, свободолюбивое. Она идет как бульдозер.
ИБ: Видите ли, мне с самого начала процесса было ясно, что они хозяева. И поэтому они вправе на вас давить. Вы становитесь инородным телом, и в этот момент на вас автоматически начинают действовать все соответствующие физические законы — изоляции, сжатия, вытеснения. И ничего в этом экстраординарного нет.
СВ: Вы оцениваете это так спокойно сейчас, задним числом! И, простите меня, этим тривиализируете значительное и драматичное событие. Зачем?
ИБ: Нет, я не придумываю! Я говорю об этом так, как на самом деле думаю! И тогда я думал так же. Я отказываюсь все это драматизировать!
СВ: Я понимаю, это часть вашей эстетики. Но стенограмма Вигдоровой тоже, в общем, не драматизирует происходящего. Она не нагнетает эффектов. И все-таки она производит потрясающее впечатление. При том что — как вы утверждаете — в записи Вигдоровой самая драматическая часть процесса не попала.
ИБ: На мой взгляд — да.
СВ: И самое для меня в этих записях страшное — это реакция зала, так называемых «простых людей»,
ИБ: Ну зал-то наполовину состоял из сотрудников госбезопасности и милиции. Такого количества мундиров я не видел даже в кинохронике о Нюрнбергском процессе. Только что касок на них не было! Мой процесс — это тоже, кстати, то еще кино было! Кинокомедия! И эта комедия была куда занятней, чем то, что описала Вигдорова. Самое смешное, что у меня за спиной сидели два лейтенанта, которые с интервалом в минуту, если не чаще, говорили мне — то один, то другой: «Бродский, сидите прилично!», «Бродский, сидите нормально!», «Бродский, сидите как следует!», «Бродский, сидите прилично!». Я очень хорошо помню: эта фамилия — «Бродский», после того, как я услышал ее бесчисленное количество раз — и от охраны, и от судьи, и от заседателя, и от адвоката, и от свидетелей — потеряла для меня всякое содержание. Это как в дзен-буддизме, знаете? Если ты повторяешь имя, оно исчезает. Эта идея даже имеет прикладное применение. Если ты, скажем, хочешь отделаться от мысли о Джордже Вашингтоне, повторяй: «Джордж Вашингтон, Джордж Вашингтон, Джордж Вашингтон… « На семнадцатый раз — может, и раньше, потому что для меня, скажем, это имя иностранное, — мысль о Джордже Вашингтоне становится полным абсурдом. Таким же абсурдом быстро стал для меня и процесс. Единственное, что на меня тогда, помню, произвело впечатление, это выступления свидетелей защиты — Адмони, Эткинда. Потому что они говорили какие-то позитивные вещи в мой адрес. А я, признаться, хороших вещей о себе в жизни своей не слышал. И поэтому был даже немножко всем этим тронут. А во всем остальном это был полный зоопарк. И, поверьте, никакого впечатления все это на меня не произвело. Действительно никакого!
СВ: В связи с процессом я хочу вас спросить еще об одной вещи. На суде поминался ваш юношеский дневник, в котором вы якобы «поносили Маркса и Ленина». Вы в России вели дневник?
ИБ: Да нет, с какой стати? Какой вообще русский человек может позволить себе вести дневник? Мальчишкой, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать, я попытался вести нечто вроде дневника, в который я записывал мои собственные замечания по поводу советской власти, представлявшиеся мне остроумными. И не более того. Теперь все это находится в архивах КГБ. А никакого другого дневника не было.
СВ: А здесь, на Западе, вы никогда не пробовали вести дневник?
ИБ: Вы знаете, пробовал, И даже совсем недавно. Но я решил, что уж если я его буду вести, то а ля государь император — по-английски. То есть как Николаша вел. И что-то я там даже начал записывать. Но, в общем, нет, дневника я в итоге ни в коем случае не веду. Ну как-то не до этого. Нет нужного покоя. Для ведения дневника нужна жизнь а ля Лев Николаевич Толстой, да?
СВ: В Ясной Поляне?
ИБ: Да, в собственной усадьбе. Где жизнь идет размеренно. Чтобы вести дневник, нужен какой-то установившийся быт. А этого у меня нет.
Глава 4. Ссылка на север: весна 1986
СВ: Давайте поговорим о вашей ссылке. Мне об этом интересно узнать по многим причинам. В частности и потому, что меня всегда очень привлекал русский Север.
ИБ: Ну это был не совсем тот русский Север, о котором обычно идет речь в художественной литературе или искусстве. И который так любят интеллигентные люди в России. Но зато он был настоящий.
СВ: Вот и расскажите мне о настоящем Севере. Как вы туда попали? Как развивались события после процесса?
ИБ: После суда меня отправили назад в участок, а из участка в «Кресты». Из «Крестов» этапом через Вологду в Архангельск. Там меня посадили на поезд и повезли. Куда везут, я не знал. И никто в поезде не знал.
СВ: Была целая партия?
ИБ: Да, причем там были кто угодно. В большинстве своем, уголовники. Никаких так называемых интеллигентных людей мне там не попадалось. Хотя был один человек, который, надо сказать, раз и навсегда снял для меня всю эту проблему правозащитного движения с повестки дня. Он был со мной в одном купе.
СВ: А что, ехали в нормальных поездах, с купе?
ИБ: Нет, ну какие там нормальные поезда? Ехали в «Столыпине».
СВ: А что это такое — «Столыпин»?
ИБ: «Столыпин» — это тюремный вагон. Так называемый вагонзак. Существовал он в двух образцах: до модернизации и после. У нас был старенький «Столыпин». Окна в купе забраны решетками и заколочены, забиты ставнями. Купе по размеру рассчитано на четырех человек, как обычно. Но в этом купе на четырех везут шестнадцать, да? То есть верхняя полка перекидывается и ее используют как сплошной лежак. И вас туда набивают как, действительно, сельдей в бочку. Или, лучше сказать, как сардинки в банку. И таким образом вас везут.
СВ: Как же вы там выживали?
ИБ: Это был, если хотите, некоторый ад на колесах: Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем. А публика — главным образом блатари. Люди уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим — а там с шестнадцатым. И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик — ну как их какой-нибудь Крамской рисовал, да? Точно такой-же — эти мозолистые руки, борода. Все как полагается. Он в колхозе со скотного двора какой-то несчастный мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек — ни в России, ни на Западе — на его защиту не подымется. Никогда! Просто потому, что никто и никогда о нем и не узнает! Это было еще до процесса Синявского и Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащитное начиналось, Но за этого несчастного старика никто бы слова не замолвил — ни Би-Би-Си, ни «Голос Америки». Никто! И когда видишь это — ну больше уже ничего не надо… Потому что все эти молодые люди — я их называл «борцовщиками» — они знали, что делают, на что идут, чего ради. Может быть, действительно ради каких-то перемен. А может быть, ради того, чтобы думать про себя хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудитория, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого старика никакой аудитории нет. Может быть, у него есть его бабка, сыновья там. Но бабка и сыновья никогда ему не скажут: «Ты благородно поступил, украв мешок зерна с колхозного двора, потому что нам жрать нечего было». И когда ты такое видишь, то вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер.
СВ: И куда же вас привезли?
ИБ: В Каношу. Это такая станция между Вологдой и Няндомой, в южной части Архангельской области. В Коноше меня расконвоировали. Начальником отделения милиции там был майор Одинцов, как сейчас помню. Единственный, по-моему, приличный человек, которого я встретил в этой системе. Сейчас-то он, наверное, в отставке или мертв. Потому что при той жизни, я думаю, долго протянуть нельзя. Совершенно замечательный человек был. Ну вот. И он послал меня, как и всех других высланных, искать работу в окрестных деревнях.
СВ: Как это — искать работу? Разве вас не посылали в определенное место?
ИБ: Нет, нам говорили: вот поезжайте туда-то и поговорите — если вас возьмут на работу, мы вас, что называется, поддержим. И так я нашел себе это самое село Норенское Коношского района. Очень хорошее было село. Оно мне еще и потому понравилась, что название было похоже чрезвычайно на фамилию тогдашней жены Евгения Рейна.
СВ: Это был колхоз?
ИБ: Нет, совхоз.
СВ: И что была за работа?
ИБ: Ну работа там какая — батраком! Но меня это нисколько не пугало. Наоборот, ужасно нравилось. Потому что это был чистый Роберт Фрост или наш Клюев: Север, холод, деревня, земля. Такой абстрактный сельский пейзаж. Самое абстрактное из всего, что я видел в своей жизни.
СВ: Что вы имеете в виду?
ИБ: Я уж не знаю, как это объяснить. Никаких особенных теорий у меня на этот счет нет, могу говорить исключительно про ощущения. Прежде всего, специфическая растительность. Она, в принципе, непривлекательна — все эти елочки, болотца. Человеку там делать нечего ни в качестве движущегося тела в пейзаже, ни в качестве зрителя. Потому что чего же он там увидит? И это колоссальное однообразие в итоге сообщает вам нечто о мире и о жизни.
СВ: А белые ночи?
ИБ: Совершенно замечательные! Они вносили элемент полного абсурда, поскольку проливали слишком много света на то, что этого освещения совершенно не заслуживало. И тогда вы видели то, чего можно в принципе и вообще не видеть дольше чем нужно.
СВ: Мне тоже знакомо это ощущение, когда белый ровный свет освещает серую ровную поверхность.
ИБ: И постройки там соответствующие. Я говорю не о планировке домов, а исключительно об их цвете. Дома деревянные, а дерево это — словно выцветшее.
СВ: А люди там какого цвета?
ИБ: Как правило, русоволосые. То есть того же самого цвета. И одеваются они так же. В итоге цветовая гамма там абсолютно единая. Я всегда говорю, что если представить себе цвет времени, то он скорее всего будет серым. Это и есть главное зрительное впечатление и ощущение от Севера.
СВ: А как вы переносили холода?
ИБ: Когда зимой температура начинает падать — сначала до пятнадцати градусов по Цельсию, потом до двадцати, потом до двадцати пяти — ты еще замечаешь, что мороз крепчает, что становится все холоднее и холоднее. Но температура продолжает падать и дальше, когда ты уже перестаешь замечать ее изменения как качественные, перестаешь на них реагировать. То есть температуре как бы уже и незачем падать. Тем не менее она продолжает падать. Нечто схожее, но с обратным знаком, происходит на экваторе. Там — чудовищная жара, которая все увеличивается, хотя ты это уже больше не воспринимаешь. Но в этой эскалации жары есть хоть какой-то смысл. Поскольку благодаря жаре какие-то дополнительные формы жизни прорезаются на свет. В то время как при холоде этого как раз не происходит.
СВ: Скорее наоборот!
ИБ: И у тебя словно появляется предысторическая память — об обледенении, прочих подобных вещах. Но мне это как раз чрезвычайно нравилось, такой вот неприкладной характер природы.
СВ: Расскажите подробнее, что это за земли.
ИБ: Довольно специфические. Это были так называемые суворовские дачи: земля, которую Екатерина Великая подарила Суворову после каких-то его очередных побед. Но он там никогда не бывал. И так получилось, что на землях этих никогда не было помещиков. И единственный оброк, который крестьяне платили, была десятина монастырям.
СВ: То есть это были крепкие хозяйства?
ИБ: Да, довольно зажиточные — постольку, поскольку позволял климат. И что самое удивительное — климат действительно позволял. Потому что в Архангельске до семнадцатого года, как это явствует из многих свидетельств, вода буквально кипела от пароходов, вывозивших производившееся в этих краях зерно. В то время как сейчас она кипит потому, что зерно туда привозят из-за границы. Я не хочу сказать, что у меня тоска по дореволюционным временам, потому что я и не жил тогда, и вообще мне все равно. Но факт, что до революции крестьяне там, на Севере, горя особенного не хватили, да?
СВ: А после революции?
ИБ: Я об одной вещи могу сказать. С возникновением совхозов, с внедрением механизации, культурный слой почвы (а там он очень незначительный, поскольку все это сидит на камнях, на граните) был снят тракторами. Ведь в чем, собственно, прелесть патриархального способа обработки почвы? Не в том, что лошадка — это живое существо, с которым можно поговорить и за гриву подержаться. А в том, что плуг глубоко не берет, то есть не разрушает культурный слой почвы.
СВ: Как же крестьяне там управлялись?
ИБ: Я туда приехал как раз весной, это был март-апрель, и у них начиналась посевная. Снег сошел, но этого мало, потому что с этих полей надо еще выворотить огромнейшие валуны. То есть половина времени этой посевной у населения уходила на выворачивание валунов и камней с полей. Чтоб там хоть что-то росло. Про это говорить — смех и слезы. Потому что если меня на свете что-нибудь действительно выводит из себя или возмущает, так это то, что в России творится именно с землей, с крестьянами. Меня это буквально сводило с ума! Потому что нам, интеллигентам, что — нам книжку почитать, и обо всем забыл, да? А эти люди ведь на земле живут. У них ничего другого нет. И для них это — настоящее горе. Не только горе — у них и выхода никакого нет. В город их не пустят, да если и пустят, то что они там делать станут? И что же им остается? Вот они и пьют, спиваются, дерутся, режутся. То есть просто происходит разрушение личности. Потому что и земля разрушена. Просто отнята.
СВ: А эти люди верующие?
ИБ: Нет, на самом-то деле народ там совершенно не церковный. Церковь в этой деревне была разрушена еще в восемнадцатом году. Крестьяне мне рассказывали, что советская власть учинила у них с церковью. В мое время кое у кого по углам еще висели иконы, но это скорее было соблюдение старины и попытка сохранить какую-то культуру, нежели действительно вера в Бога. То есть по одному тому, как они себя вели и как грешили — ни о какой вере и речи быть не могло. Иногда чувствовался такой как бы вздох, что вот — жить тяжело и, в общем, хорошо бы помолиться. Но до ближайшей церкви им там канать было очень далеко. И потому речь об этом почти и не заходила. Иногда они собирались, чтобы потрепаться, но как правило все это в итоге выливалось в пьянство и драки. Несколько раз хватались за ножи. Но в основном это были драки — с крупным мордобитием, кровью. В общем, хрестоматийная сельская жизнь.
СВ: И как же вы там обжились?
ИБ: А замечательно! Это, конечно, грех говорить так, и, может быть, это даже и неверно, но мне гораздо легче было общаться с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в родном городе. Не говоря уж об общении с начальством. Во всяком случае, так мне это тогда представлялось.
СВ: У кого же вы там, в деревне поселились?
ИБ: Сначала — у Анисьи Пестеревой. Как же ее по отчеству? Боже правый, совершенно забываю. А потом — у Константина Борисовича Пестерева и его жены Афанасьи Михайловны. Они жили в двух избах: летом в летней, а когда зима наступала, они переселялись в зимнюю избу. И, поскольку мне не так уж много пространства и надо было, я снимал у них зимой летнюю избу, а летом — зимнюю.
СВ: И сколько вы им платили за это?
ИБ: Ну, гроши: рублей сто, то есть десятку новыми. Константин Борисович у меня все равно забирал эти деньги вперед — на бутылку, да? Замечательный человек был. Вообще вся эта деревенская публика — за исключением одного дегенерата-бригадира — была совершенно замечательная. А бригадир этот, кстати, не в этой деревне и жил.
СВ: А деревня была большая?
ИБ: Нет, там четырнадцать дворов всего и было. Но я вот что скажу. Когда я там вставал с рассветом и рано утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, великой земле русской происходит то же самое: народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение! Если с птичьего полета на эту картину взглянуть, то дух захватывает. Хрестоматийная Россия! Ну разумеется, работа эта тяжелая, никто работать не любит, но люди там, в деревне, колоссально добрые и умные. То есть не то чтобы умные, но такие хитрые. Вот что замечательно.
СВ: И как они к вам относились?
ИБ: Совершенно замечательно! Видите ли, у них там ни фельдшера не было, ничего. А у меня лекарства с собой кое-какие были. И я как мог их подлечивал — знаете, из старых своих медицинских амбиций. Давал им болеутоляющее, аспирин. Ничего этого у них там не было. Или за этим добром надо было ехать километров тридцать. Не всякий день поедешь. Потому что дороги, как полагается, чудовищные. У них ведь там и электричества не было, никаких там «лампочек Ильича».
СВ: При керосиновых лампах сидели?
ИБ: Керосин, свечи… Красиво очень… Особенно зимой, по ночам.
СВ: А крестьяне знали, за что вас сослали? Они знали, что вы пишете стихи?
ИБ: Знали. Сначала они думали, что я шпион. Потому что кто-то услышал по Би-Би-Си передачу — их можно было поймать на приемнике «Родина», который работал на батареях, знаете? И, значит, пустили слух, что я шпион. Но потом они поняли, что нет, совсем не шпион. Тогда они решили, что я за веру пострадал. Ну это была с их стороны ошибка, и я объяснил им, что это не совсем так. А потом они просто привыкли ко мне, довольно быстро привыкли. В гости приглашали. И когда я оттуда по освобождении уезжал, то прощались со мной, я должен сказать, довольно трогательно.
СВ: А чем вы питались?
ИБ: Ну там существовал магазин, сельпо, где продавались хлеб, водка и мыло, когда его привозили. Иногда появлялась мука, иногда — какие-то чудовищные рыбные консервы. Которые я один раз попробовал и — какой я ни был голодный — доесть никакие смог. Магазин этот, пока я там был, обновили. И вот я помню — абсолютно пустые прилавки и полки, новенькие такие. И только в одном углу — знаете, как в красном углу иконы? — сбились буханки хлеба и бутылки водки. И больше ничего нет!
СВ: А что еще ели? Мясо бывало?
ИБ: Знаете, это ведь был животноводческий совхоз, они там выкармливали телят. Но мяса этого они никогда не видели. Только если теленок сломает себе ногу, то его, чем с ним возиться, прибивают. Тогда составляется официальный акт, шкуру с теленка снимают, а мясо раздают населению. И еще, если кто кабана держит, то кабана можно заколоть. Так и живут.
СВ: А письма вам в ссылку приходили?
ИБ: Да, и даже довольно много. И сам я писем писал довольно много.
СВ: И они доходили по назначению?