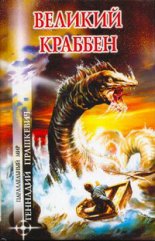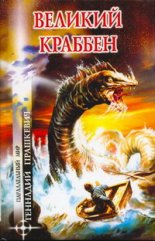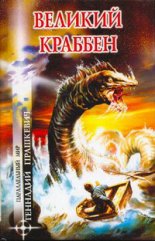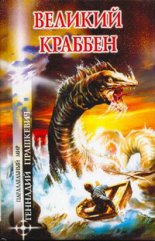Дорога на Тмутаракань Аксеничев Олег

Княжич и Любава замолчали.
– Иди, – нарушил молчание Владимир. – А то я начну просить тебя остаться.
– Свидимся, – вырвалось у Любавы.
Она тотчас пожалела о сказанном, больно уж равнодушно прозвучало слово. Но еще хуже было бы просить прощения за неловкость. Девушка сильнее, до кровавого прикуса сжала губы и, повернувшись, пошла быстрым шагом к своему дому.
Княжич глядел ей вслед, пока сумерки не скрыли тонкий девичий силуэт. Затем пошел в противоположную сторону, не домой, а так просто, куда глаза глядят.
В голову все время лезли умные и очень умные доводы в пользу того, что их расставание преждевременно, возможно, ошибочно. И все они разбивались об одно. Любава сама захотела расстаться. Сама, вот в чем дело.
Я же не лгал, думал княжич, утверждая, что никогда не перейду через твое «нет». Ты так решила, так для тебя лучше. Значит, надо покорно делать, что велят. Рабство? Бесхарактерность?! Любовь, будь она проклята?
Любовь… И проклинать ее не буду даже в мыслях.
Плохо быть сильным. Плохо убеждать себя, что ты все делаешь правильно и не нужно слов для расставания, что все и так понятно, что так будет лучше.
Будет ли?
– Нет, не будет, – сказал Владимир Ярославич вслух.
– О чем ты, господин? – сонно спросили сверху.
Княжич поднял голову, только сейчас сообразив, что стоит у фундамента одной из башен путивльского детинца. Как он попал сюда, Богу одному было ведомо да, возможно, стражникам, получившим нежданное развлечение на всю ночь. Расстался с Любавой он под вечер, теперь же красная полоса на горизонте говорила о скором рассвете. «Сторож, сколько ночи?» – припомнил княжич Святое Писание. «Еще ночь, но скоро утро» – так, кажется, отвечал библейский сторож.
– Скоро утро, говорю, – сказал княжич Владимир стражам на башне.
– Да уж, – сказали сверху. – Спать бы шел, господин, всю ночь как неприкаянный возле стен бродил… Мы уж беспокоиться стали, не случилось ли чего.
– Ничего не случилось, – эхом откликнулся княжич.
Ничего. Не случилось. Просто не стало любви. Какой пустяк для тех, кто не любил по-настоящему. Какая глупость для тех, кто любит.
Ничего не случилось!
И княжич миролюбиво добавил:
– И правда, пора возвращаться.
Помахав рукой стражам, он пошел к дому, где не спала всю ночь обеспокоенная прислуга. Отвечая на безмолвные расспросы челяди, княжич рассеянно заметил:
– Что может случиться с благородным человеком в княжеском городе?
Правда, что? Нежданное прощание с любовью? Но от этого так редко умирают, куда реже, чем от татей в лесных чащобах…
Недобрым был тот рассвет. Начинался день, когда войско Игоря Святославича скрестило мечи с саблями половецкими у берегов Сюурлия и безымянной речки, позднее прозванной Каяла, что означает – Скелеватая.
Одним только княжич Владимир мог заглушить постоянную тоску, облепившую прокисшей медовой патокой страдающую душу. Целыми днями он разбирал клад, когда-то щедро подаренный говорливым домовым Храпуней и его кокетливой подругой-кикиморой. Пергаменные страницы древних книг вели с княжичем разговор на добром десятке языков Востока и Запада, заставляли забывать обо всем, даже о личных невзгодах.
В выделанной коже книжных страниц, казалось, продолжалась жизнь. Давно сгинувшие мудрецы и маги, волхвы и колдуны говорили завитушками арабской вязи и штакетником латинского письма, подмигивали округлыми глазами ромейского греческого, щерились славянским уставом.
Книги из клада, найденного в ночь на Ивана Купалу под монастырем, были завораживающими и странными, пугающими и жестокими, мудрыми и беспощадными. Княжич, разбирая при свете восковых свечей написанное поблекшими за долгий срок чернилами, признавался сам себе, что ему не дано познать всей глубины знаний, заключенных меж деревянных крышек книжных переплетов. Признавался с явной радостью. Есть мудрость, оставленная богами в наказание роду человеческому за беспримерную гордыню, и высшим проявлением разума было бы отказаться от вредоносных знаний.
Царь Соломон, слышал ли ты княжича Владимира? Услышав, одобрил ли? Великий правитель и мудрец, ты перехитрил прекрасную ликом царицу Савскую, заставив ее поднять подол платья у края бассейна, искусно сделанного из стекла и слюды… Мудрец, стало ли тебе лучше, когда под царственной пурпурной каймой ты увидел волосатые козлиные ноги? Доказав беспримерную мудрость, не лишился ли ты большего – воспоминаний о несравненной красоте? Не возжелай большего – это не нами сказано!
Поэтому княжич пробегал взглядом заклятия и рецепты, магические чертежи и описания таинственных ритуалов, обещавшие, казалось, все на свете. Великое могущество требовало огромной цены, а Владимир не желал расплачиваться вечными адскими муками за десятилетия иллюзорного всевластия.
Интереснее было расшифровывать сознательно затемненные или просто попорченные тексты. Для настоящего книжника открытие истины сродни познанию девственницы для сластолюбца. Еще приятней было покорить ту, кто раньше подверглась грубому насилию, никому не желая сдаваться вновь.
Несколько дней назад княжич впервые развернул длинный свиток, небрежно сшитый из множества листов, варварски выдранных из сгинувших в небытии кодексов. Не сразу Владимир Ярославич понял, что перед ним был греческий перевод знаменитой арабской поэмы «Рай Мудрости», написанной, как говорит легенда, принцем Халидом ибн Язидом почти полтысячелетия назад в Александрии. Полного текста поэмы не видел никто, но слухи доносили, что арабский принц зарифмовал в ней секрет получения золота, вычитанный, в свою очередь, в одной из рукописей, хранившейся в тайниках Александрийской библиотеки.
Владимир смог сложить разрозненные листы в первоначальной последовательности. Все, кроме одного. Возможно, он был вообще из другой книги, очень уж отличался пергамен своим неважным качеством. Сравнивать почерк бесполезно; ромейские школы приучали своих выпускников писать одинаково и безлико.
Не подходило под алхимическое творение и содержание листка. Странные слова, где за согласным следовал согласный, и так по много раз, не могли, казалось, быть произнесены человеческим языком. Княжич пробовал проговорить хоть что-то из прочитанного про себя и не смог. Решил выговорить вслух. И остерегся.
Если слово – бог, то стоит ли поминать его всуе? Как знать, какого бога призываешь. Вдруг – недоброго?!
Княжич Владимир расправил заворачивающийся по краям лист пергамена, придавил его сверху толстым кодексом и отошел от стола. На сегодня труды следовало завершить.
Пусть место работы займет печаль, и пусть ничто не отвлечет княжича от болезненных и сладких одновременно мыслей об утраченной любви!
Полями пыльными пластался поход половецкий. Гзак, хан самозваный, вел войско на земли путивльские, осиротевшие без своего князя. Правило есть – не обижать сироту, но нет закона для изверга, преступившего через него. Нет совести у отнимающего, нет души у убийцы. Нет жалости к земле Русской у обезумевшего из-за упущенной добычи Гзака. Нет разума у позабывшего – отвергнувший все сам всеми отторгнут будет.
Осыпаются, оставаясь омерзительным облаком около отряда, отцветшие одуванчики. В прах растирают копыта половецких коней ломкие стебли. Степь – кладбище непогребенных останков растений. Кони убивали траву и цветы, неся своих всадников убивать людей. Разница лишь в одном – животное не сознает, что убивает.
Ледяным ливнем льется лавина легковооруженных людей. Половцы шли, оставив во временном лагере тяжелые доспехи. Не число воинов и качество оружия – внезапность решала все. Гзак рассудил, что важнее не то, у кого сабля длиннее, а кто ею раньше взмахнет. Одним ударом отвалив назад голову противника.
Езда едва-едва – елей сопернику! Собрался в поход – погоняй коней или жди беды. Враг, предупрежденный соглядатаями либо сторожей, соберет силы и отобьется, а то и устроит засаду незадачливому противнику. Гзак людей не щадил, останавливался лишь затем, чтобы дать отдых коням.
Поле, что за мерзость ты на себе носишь? Пес бездомный – и тот выкусывает настырных блох из шерсти.
Не пора ли вычистить Степь от нечисти?
Княгиня Ефросинья Ярославна смотрела с забрала путивльского детинца на заречную равнину.
– Пока дымов нет, можно продолжать укреплять стены, – сказала она.
– Сколько дружинников прикажешь отправить в сторожи? – спросил тысяцкий Рагуйла, опытный воин, оставленный Игорем Святославичем в помощь жене.
– Никого. На приграничных заставах хватит людей, чтобы подать сигнал опасности. Разжечь дымный костер на башне – большого войска не надобно. Другое нужно. Всех воинов, свободных от службы в детинце, немедленно отправить по деревням. Будем смердов в город собирать, под защиту стен. Поле за рекой не удержим, а гоняться за Гзаком, стараясь предугадать, где он нанесет удар, – только коней притомить. Собирать людей придется тебе, воевода Тудор, и тебе, тысяцкий. Нам же, княжич, предстоит размещать беглецов.
Вчера в Путивль прибыли три дюжины киевских дружинников под командой воеводы Тудора. С ними явился один из сыновей Святослава Киевского, Олег, доставивший грамоту от отца со словами сочувствия и ободрения. Княгиня Ярославна с поклоном поблагодарила за доброту и помощь, про себя же просчитала, как скоро киевский князь получил известия о поражении Игорева войска на реке Сюурлий. Получалось, что непосредственно в день битвы.
В родном для княгини Галиче повелось так, что если кто-то знал о заговоре раньше князя – тот и есть заговорщик, достойный смерти. Как назвать того, кто, находясь за много конных переходов от места битвы, знает ее исход лучше сражающихся? Может, провидец? А может… Но мысли свои княгиня Ярославна приберегла для мужа. Игорь Святославич вернется, тогда все и обговорим. Пока же – почти четыре десятка конных воинов от князя киевского – добрая помощь в грядущей сече!
– Приказывай, княгиня! – княжич Олег, видимо, не язвил, искренне стараясь помочь.
Из змеиных яиц не всегда вылупляются змееныши. Такая мысль на мгновение возникла у Ярославны и, устыдившись сама себя, сгинула. Отобьемся от половцев – тогда и оценим, кто чего стоит.
– Прикажу. В ближайшие дни – не раз прикажу, – пообещала княгиня.
По лестнице, змеей – опять змея! наваждение просто! – изогнувшейся внутри крепостной башни, Ярославна спустилась вниз. Там ее ожидал родной брат.
– Мир тебе, княгиня.
– Здрав будь, Владимир. Давно не виделись, хотя город Путивль не так уж и велик.
Ефросинья Ярославна не скрывала своего недовольства. Воевода и тысяцкий предпочли тихо протиснуться между княгиней и башенными воротами и отойти на расстояние, безопасное, с их точки зрения, от грома и молний княжеского гнева. Олег Святославич, подумав, поступил так же.
– Опять пил?
– Читал. Теперь же пришел узнать, чем могу быть полезен. Перед осадой каждый человек на счету.
– Ты не воин, брат, иначе знал бы, что половцы не любят осаждать города. Пожгут все вокруг, пограбят, что смогут… И двинутся назад, в привычную степь. Не осада будет, сеча. Извини, брат, но не забыл ли ты, как биться верхом?
Владимир Ярославич покраснел. По примеру отца, жестокого и властного Осмомысла, сестра считала его сухой ветвью в роду, с пренебрежением относясь ко всему, что было дорого брату. Даже убежище в Путивле она дала Владимиру не потому, что проснулись родственные чувства, а просто от желания доказать, что ее воля не слабее отцовской.
– Продолжай чтение, брат! Авось найдешь в своих книгах, как нам отогнать кочевников.
– Постараюсь, княгиня.
Владимир Ярославич поклонился, вскочил в седло и погнал коня в сторону ворот детинца, явно собираясь выехать из города.
Княгиня, привыкшая замечать мелочи, размышляла, можно ли считать случайностью то, что брат так и не назвал ее ни разу за разговор не только по имени, а просто – сестрой.
В последние дни Любава привыкла видеть отца только затемно. Кий днями не выходил из кузницы, поправляя затупившееся и погнутое оружие, в изобилии приносимое знакомыми и соседями. Путивль готовился к нападению половцев. Детинец был неприступен для степной конницы, но Гзак мог попробовать ворваться на улицы слабо укрепленного городского посада. Поэтому и вел для мечей и сабель нескончаемую песнь кузнечный молот: «Будь силь-ней, будь силь-ней», и насвистывали мехи пламени горна: «Раз-зи с-смелей!»
Вечером Любава накрывала ужин отцу прямо во дворе, на невысоких распилочных козлах, застланных расшитыми полотенцами. Кузнец, пропахший дымом, с влажными от пота и омовения волосами на голове и обнаженной груди, усаживался на деревянный чурбак и принимался за еду, одобрительно урча, как изголодавшийся пес. Любава сидела рядом, готовая исполнить любую просьбу отца.
После расставания с княжичем дочь Кия заметно присмирела, стала тиха и задумчива. И кузнец, с легкостью превращавший подкову в прямую железную полосу, не мог найти в себе сил, чтобы поговорить с дочерью по душам. Лучше могучих рук здесь пригодился бы длинный женский язык, способный легко перемолоть пустое в порожнее, отбросив вместе с бессмысленной болтовней тяжкий груз, давящий на исстрадавшуюся душу.
Новые заботы о хозяйстве, свалившиеся на плечи Любавы в последние дни, могли отвлечь девушку от грустных мыслей. Кузнец Кий, по обыкновению, помалкивал, предоставив времени залечить то, с чем не смогла справиться отцовская любовь.
– Почему такой страх в посаде, батюшка? – спросила тем вечером Любава. – Столько сабель да ножей поправлено, словно княгиня собирается выводить за стены города ополчение. Но ведь такого не будет, правда?
– Правда.
Кий понимал, что не просто любопытство толкнуло дочь задать такой вопрос. Знала Любава, что отец непременно напросится в ополчение. А стать круглой сиротой – что за судьба для молодой девушки?
– В другом дело, дочка, – продолжил кузнец. – Частокол вокруг посада подгнил и покосился. Как бы половцы не прорвались внутрь. Быть тогда большой беде. Ты понимать должна, что княгиня Ярославна будет держать только детинец, на нас у нее дружины нет.
– Как мыслишь, выдержим?
– С моим-то оружием?! Вестимо, выдержим! Диким половцам неведомо, что припасено в наших закромах. Вот взгляни-ка!
Кий отставил пустую тарелку, обтер бороду ладонью и в бессчетный уже раз за сегодня скрылся в своей кузнице. Скоро он вернулся обратно, держа в руках устройство, походившее больше всего на заступ с истончившимся лезвием.
– Мне рассказывали монахи, как это называется по-ромейски, да уж извини, не упомнил. По-нашему же будет – стреломет. Здесь вот – видишь? – я приспособил ворот, как тот, что в колодце, только с шестерней. Покрутишь ручку – вот так! – и крюк натянет тетиву сюда, к замку. Теперь нажми на эту скобу… Давай же!
Любава осторожно взяла тяжелый стреломет, заметно оттянувший ее руку книзу. Правая ладонь нащупала прохладу металлической скобы, и девушка легко сжала пальцы. Раздался хлесткий щелчок, настолько неожиданный, что Любава в испуге отпустила стреломет.
– Не бойся! – заулыбался Кий. – Видишь теперь сама, как просто с ним обращаться. А бьет он дальше, чем сможет метнуть стрелу самый лучший стрелок.
– Ужасное оружие! С таким люди вскоре просто перебьют друг друга…
– Не думаю. Пока один натягивает тетиву стреломета, другой из простого лука выпустит несколько стрел. Это – оружие обороняющихся. Не ужасное, доброе.
– Может ли быть оружие добрым?
– То, что спасает твою жизнь, – конечно!
Любава не нашлась, что ответить.
Черный дым.
Черный вестник.
На приграничных заставах спокойно ждали врага. Прошло время смятения, когда со стороны Степи примчался на усталом коне одинокий всадник и принес весть о разгроме войска русских князей. Ковуй Беловод, не пожелав завернуть в Путивль, чтобы переговорить с княгиней Ярославной, сменил коня на первой же заставе и умчался в родной Чернигов. Давно не было на Руси такого, чтобы князья доставались степнякам пленниками. Шептались, правда, что не все так просто. Игорь ведь побратался с Кончаком, и негоже было бы брату поднимать руку на брата. Хотя пусть вспомнится история Бориса и Глеба, страдальцев за веру, убийца их Святополк за то и прозван был Окаянным, что руку поднял на братьев…
Знали в приграничье, что не куманы Кончака вышли в поход. Радовались тому, потому что против великого хана не совладали бы. Знали, что ведет на Путивль диких половцев и остатки бродников самозваный хан Гзак, вождь хотя и боевитый, но мелкий, предсказуемый. И снова – хотя… Хотя разбил ведь он как-то князя Игоря Святославича, воина удачливого и опытного. Да и Буй-Тур Всеволод, брат его, не лыком шит, а кмети его из лона роженицы сразу на конский круп пересаживаются.
И когда с юга заметили поднимающийся столб пыли, то на сторожевых башнях воины высыпали из обмазанных глиной корзин тлевшие там угли на заранее приготовленные охапки хвороста. Пламя быстро охватило сухие ветви, и легко занявшийся костер глумливо выбросил навстречу небу скоморошьи огненные языки. Но танец пламени был недолог, свежесрезанные ветки тут же закрыли влажной лиственной преградой путь огню.
Умирая, огонь стал дымом.
Черным дымом.
Вестником появления врага, несущего смерть.
К дымам с сигнальных башен вскоре прибавился дым пожарищ. Запылали брошенные хозяевами и подожженные половцами деревни около Путивля. В одной из них не пожелавшие спасаться бегством смерды встретили незваных гостей залпами стрел, частым гребнем вычесавшими передовой ряд войска Гзака.
– В обход! – прокричал самозваный хан, чудом уклонившийся от русской стрелы. – Не время для мести! Впереди добыча побогаче!
– Путивль! – вырвалось из десятков глоток.
Путивль… Там, за рекой…
Домовой Храпуня как-то обратил внимание на то, что близкое проживание рядом с людьми привело к тому, что человеческие недостатки и хворобы исподволь перешли и к нему. Сейчас вот он маялся головной болью, неведомой нелюдям.
Храпуня гордился тем, что он – нелюдь. Люди – это так… примитивно. Определение накрепко засело в голове домового, хотя он уже забыл, что означает само слово, тягучее, словно сопля, доставаемая из носа.
Виновником головной боли у домового стал Кий, днями напролет возившийся в своей кузнице. Звон молота, гул мехов, раздувавших пламя в горне, вой воды в чане, куда попадали раскаленные стальные лезвия. И так все время, кроме ночи.
Ночью же, как все знают, домовые не спят.
Храпуня, измученный многодневной бессонницей, решил пока перебраться за город, на болота, в травяной шалаш подруги-кикиморы. Но та сама явилась нежданно-негаданно, когда зашло солнце.
– Не приютишь ли на время, золотой мой?
Голос кикиморы был как никогда просительным.
– Аль случилось чего?
Храпуня, чтобы не потерять самоуважения в глазах избранницы, заговорил весомо и с легким оттенком недовольства.
– Худые люди идут на город, теплый мой! Отсидеться бы мне… А?
– Наслышан.
На самом деле домовой только сейчас понял, отчего так много работал кузнец Кий в последние дни. Но Храпуня считал, что мужчина всеведущ, как бог, и признаваться в неведении не собирался.
– Что ж, – после раздумья, изображенного для порядку, сам-то он уж все решил сразу, сказал Храпуня, – место найдется. В сарае, при мне, значит. И к воде, любимой твоей, рукой подать. Вона где колодезь – птенец доплюнет!
– Заботливый ты мой! – восторженно прошептала кикимора.
И Храпуня растаял от предсказуемой, но все равно такой дорогой похвалы.
Кикимору, тем более болотную, обычное нападение кочевников на земли княжества напугать не могло. Среди способностей, для людей сверхъестественных, лесной и болотной нечисти дано было чувствовать приближение врага или друга. И кикимора поняла, что с юга на Путивль накатывается зло, во много раз превосходящее все, что люди могли испытать от беспокойных соседей, оставшихся от языческого прошлого.
Абдул Аль-Хазред сильно изменился за последние недели. Казалось, он еще больше исхудал и вытянулся, превратившись в подобие иссушенной солнцем падали, расклеванной стервятниками, которая регулярно попадалась на пути войска Гзака.
Однако доспехи сидели на нем не хуже, чем у прочих, а глаза под низко надвинутом на брови бурнусом отливали матовым тоном. Блеск глаз – свидетельство молодости и горячности. Аль-Хазред, как опытный воин, был спокоен.
Он шел убивать. Это так… буднично!
Смерть пришла за смертью. Магия, многократно усиленная волей Безымянного бога, помогла арабу узнать, где оказалась недостающая страница «Некрономикона», необходимая и желанная для грядущего воскресения Господина безумного Аль-Хазреда.
Много крови должно пролиться в будущих схватках. Это было ценой за могучие и страшные слова, написанные в утраченных строках «Некрономикона» на пергамене, выделанном из человеческой кожи. Написанные человеческой кровью.
Кровопролитие требует новой крови.
Так вот несовершенно устроен наш мир.
Случайно ли?
Княгиня Ярославна в окружении бояр и воевод стояла на забрале одной из стен путивльского детинца и молча глядела через проем бойницы на бесчисленные дымы, поднимавшиеся с противоположного берега реки Сейм.
– Деревни горят, – тихо сказал кто-то за спиной княгини, и в голосе этом Ярославна почувствовала укоризну.
– Ничего, – сказала Ярославна. – Главное – город отстоять. Спасем Путивль, тогда и отстроим все заново. Не справимся же – восстанавливать княжество некому будет.
– Через реку половцам не перебраться, – сказал один из киевлян, прибывших вместе с Олегом Святославичем. – Господь беды не позволит, отсидимся.
– Гзак не деревеньки зорить пришел, – это подал голос кто-то из местных. – Ему город нужен.
– Ему – город, – подхватила княгиня, – мне же – он сам. Ха-ан!
Не сказала, а словно выдохнула. И лицо окаменело на мгновение, обратившись в маску смерти. С таким лицом, видимо, отец княгини, Ярослав Черниговский, сидя на золотом престоле, подпертом железными дружинами, приказывал казнить бояр, осмелившихся сопротивляться княжьей воле.
– Напрямую через реку Гзак действительно вряд ли сунется, – продолжила княгиня. – Поэтому должно оставить на башнях дозоры, а всех прочих – убрать. Мало людей, каждый вой на счету… Мыслю, что по посаду удар ждать следует, так ли, воеводы да бояре?
– Обычно половцы на город не идут, ждут боя в поле…
– То обычно, ты верно заметил, боярин Знат! Твои же слова повторю: Гзаку город нужен. Приступу быть, где вот только?
– Считаю, с севера! Дозволь сказать, княгиня!
– Говори, воевода Тудор!
– Реку Гзак все равно обойдет, по правую ли руку от города, по левую – гадать не берусь. Теперь сама погляди, княгиня. Вот мы стоим лицом к реке. Справа – большой глубокий овраг, конница не пройдет. Так? Так. Дальше. Слева – ручей, небольшой вроде бы, но стены намыл себе крутые да сыпучие, опять коня не проведешь! Потому и говорю – обойдет Гзак город, с севера ударит!
– Согласны, воеводы да бояре? Тогда порешим так. Дружину конную у северных ворот держать будем, и вам там быть, как прикажу. Ясно?!
Тысяцкий Рагуйла хотел что-то сказать княгине на ухо, но она ладонью остановила старика:
– Знаю, что на языке у тебя, Рагуйла! Но прошу, повремени говорить. Верь – знаю, что творю!
Рагуйла поклонился, не первый раз за последние годы повторив про себя, что непростую жену взял за себя князь Игорь Святославич.
Гзак провел свое войско через брод восточнее Путивля. Путь показал один из немногих бродников, увязавшихся вслед диким половцам. Бродник был родом из этих мест, однажды он оказался уличенным в убийстве односельчанина и бежал в Степь, не желая накликать кровную месть на своих близких. Годы, проведенные рядом со Свеневидом, вымели из памяти этого человека любовь к родине и к родным, но оставили злобу и желание отомстить отвернувшимся от него людям, изгнавшим его от родного очага. Винить в своих несчастьях других – как это естественно для многих из нас!
– Обогнем город и ударим по посаду с северной стороны, – возбужденно говорил Гзак собравшимся вокруг него воинам. – Башня над воротами там наверняка деревянная, утыкаем стрелами с горящей паклей да и высадим створки, если на то будет соизволение духов!
– Уррагх! – кричали в ответ дикие половцы, ничего не понимавшие в осаде и взятии городов, но хорошо чувствовавшие, как близка вожделенная добыча.
– Уррагх! – вторил всем Абдул Аль-Хазред, протискиваясь ближе к хану.
Гзак, словно желая облегчить арабу задачу, коленями сжал бока коня, посылая его вперед.
– Дай слово сказать, великий хан!
– Говори, араб, да помни, как дорого мое время!
И Гзак щелкнул в воздухе зажатой в потной ладони плетью.
– С севера, – зачастил Аль-Хазред, – стены посада действительно слабее. Значит, там нас и будет ждать путивльская дружина…
– Сечи нет, а ты уже струсил? – громогласно поинтересовался Гзак под хохот воинов.
Араб окаменел лицом, но продолжал говорить, словно не расслышал слов Гзака:
– Прикажи у северных ворот только шуметь. Пусть русы решат, что они могут читать наши мысли. Основной же удар нанесем прямо здесь, через ручей!
– Что ты говоришь? По тем склонам не лошадям, горным козам прыгать! Из ума вышел, араб?!
– Погоди сердиться, великий хан! Оглядись лучше. Видишь, где мы стоим?.. Видишь, как невысока трава на этом лугу, а ведь косари сюда не заходили, рано еще косарям… Взгляни, как перебирает ногами твой прекрасный конь, сторонясь зловония и нечистоты коровьих лепешек. Скажи мне, хан, как здесь оказалось коровье стадо? Не с пристани ли его пригнали? От ворот северных, через рощи и овраги?
– Тропа, – догадался Гзак. – Здесь должна быть пастушья тропа!
– Истинно говоришь, великий хан!
Где пройдет корова, животное неповоротливое и тяжелое, там боевая конница тем более найдет себе дорогу.
Вскоре вернулась разведка, разыскавшая ясные следы пастушьей тропы, и Гзак приказал своему войску разделиться на две неравные части. Меньшая направилась к северным воротам Путивля дразнить укрывшуюся за ними княжескую дружину. Большая выжидала. Гзак смотрел на север, ожидая, когда к небу потянутся первые нити дыма от подожженных городских ворот. Осажденные постараются отразить удар, втянутся в бой и не смогут быстро перебросить силы против основной части войск Гзака. Либо, если место путивльской дружины определено ханом неправильно, северные ворота посада будут взяты половцами, и тогда уж точно путивльская дружина бросится защищать горожан.
Как ни смотри, удар самого Гзака станет нежданным и – духи, помогите! – безответным. А русская дружина, зажатая на узких улочках посада меж двух огней, будет вырезана. Жалкие ее остатки, стремясь спасти свои жизни, бросятся к детинцу, на плечах отступающего в панике войска туда же ворвется и Гзак.
Не начав еще боя, самозваный хан диких половцев уже праздновал в душе победу.
Абдул Аль-Хазред скромно держался в хвосте половецкого войска, не желая попадаться Гзаку на глаза.
Многие из высокорожденных и еще больше – из сделавших карьеру не любят, когда им подсказывают решения. Гзак хочет взять город – пусть. Хочет считать себя отцом нехитрой уловки, придуманной арабом, – пожалуйста!
Аль-Хазред хочет иного.
Недостающая страница «Некрономикона» значила для последовательного в своем безумии араба больше, чем весь Путивль купно с войском выскочки Гзака.
Когда у северных ворот посада появились первые половцы, жителей города это особо не взволновало. Незадолго до этого по улицам к воротной башне проехали дружинники в полном вооружении, а это вселило в горожан уверенность, что все обойдется.
Кузнец Кий вышел за ворота, проводил взглядом удаляющихся дружинников и вернулся во двор, к дочери.
– С Божьей помощью – отобьемся.
Он привык уже говорить так, зная, как болезненно Любава относится ко всему относящемуся к вопросам веры. Эта же фраза, с одной стороны, не резала слух христианина, с другой же – кто знает, про одного бога сказано или про многих.
– Будем молиться…
– Что ж… Пока они на стены не полезли – будем! В бою же добрый меч не хуже любой молитвы.
Любава только вздохнула, не желая спорить с отцом.
Княжич Владимир решил последовать совету сестры и вернуться к книгам.
Теперь он разбирал строки, старательно обойденные на прошлых занятиях. Строки, сочащиеся ядом зла и темной магии. Волшебства, несущего несчастья и гибель.
Владимир Ярославич понимал, как опасно выпускать на волю силы зла, таящиеся в колдовских книгах. Но он успокаивал себя тем, что порожденное заклинаниями зло направлено будет против не менее злых и жестоких людей. Пламя лесного пожара может остановить только встречный огонь, зло, столкнувшееся с не меньшим злом, должно самоуничтожиться.
Должно.
Хотя есть должники, не желающие платить по обязательствам.
Княжич часами вглядывался в рукописные строки, отгоняя нехорошую мысль о том, что занятия колдовством для него не больше чем средство успокоить разыгравшееся самолюбие. Доказать всем, и сестре первой, что он не так беспомощен, как говорят.
Успокоить гордыню, которая для христиан, если кто забыл, грех смертный.
В полете обмотанная вокруг древков пакля разгоралась сильнее, и стрелы впивались в частокол городского посада и сруб приворотной башни, полыхая от крепления наконечника до оперения. Но вымазанные глиной бревна не желали загораться, и первое нападение половцев удалось отбить без особых волнений. Не желая подставляться под ответные выстрелы, степняки кружили на почтительном расстоянии от города. Защитники Путивля только посмеивались, глядя на чрезмерно осторожного противника.
Княгиня Ярославна внимательно наблюдала со смотровой площадки одной из башен городского детинца за развитием боя.
– Дозволь ударить, княгиня, – горячились бояре, столпившиеся рядом с ней под низким башенным навесом. – Их, поганых, мало, сомнем одним ударом.
– В том-то и дело, что мало, – цедила Ярославна сквозь вытянутые ниткой губы. – С таким войском Гзак не осмелился бы на вторжение.
– Справимся, – гудели бояре. – А если что – так вон еще полдружины внутри детинца упрятано!
– Я говорю – ждать, господа бояре!
Брови княгини немного поднялись наверх, и над переносицей наметилась небольшая вертикальная складочка. Так в далеком Новгороде один мазок белил, нанесенный кистью иконописца, делал умиротворенный лик Христа яростным и непрощающим Спасом Грозные Очи.
Бояре отшатнулись на шаг, склонившись перед волей своей госпожи.
– Вижу дымы! – воскликнул один из половцев.
– И я вижу, – откликнулся Гзак. – Скоро придет и наше время!
Половцы взвыли от радости.
– Что невесел, сын? – Голос Гзака был далек от отеческой заботы. – Соскучился по своему богу? Будь спокоен, все доски, на которых он нарисован, станут твоими после взятия города. Все равно это добро никому, кроме тебя, в моем войске не нужно.
– Мы настроили против себя всех – Кончака, русов… У тебя больше нет друзей, отец!
– Друзья… Вот мой единственный друг! – Гзак рванул из ножен саблю. – С этим другом у меня будет все – богатства, женщины, почтение… В Степи больше друзей нет!
Увидев, что хан обнажил оружие, половцы решили, что им дан сигнал к атаке, и устремились к частоколу городского посада. Гзак, не ожидавший этого, хотел было остановить своих людей, но передумал. Не все ли равно, когда начинать!
– Вот что, сын! – решил он договорить. – Твои отношения с богом меня не касаются. Сейчас же ты перестанешь вести себя, как рабыня на невольничьем рынке, и пойдешь в первые ряды нападающих. Я – воин, будь же достоин отца!
Роман Гзич молча склонился перед отцом и повернул коня прочь, стараясь нагнать несущийся к Путивлю конный вал. Гзак же подозвал четверых бродников, державшихся после гибели Свеневида вблизи хана, и приказал:
– Приглядите за ним! Мало ли что…
Бродники кивнули.
С восточной стороны посад, как и везде, ограждал частокол из заостренных сверху бревен высотой до макушки всадника и толщиной в полобхвата. Лет сорок назад, когда последний раз обновляли ограду, бревна стояли прямо, и заточенные на конус зубцы надежно преграждали дорогу возможным злоумышленникам, собиравшимся проникнуть в посад. Теперь же зарытые в землю комли подгнили, бревна покосились и расшатались, как зубы у старика.
Не лучше выглядела и приворотная башня, ветхая и ненадежная. Разболтанные дверные петли нещадно скрипели каждый раз, когда открывались ворота, словно жалуясь на старость и непосильный труд.
Трех стражников, плотной группой собравшихся на площадке башни, половцы, первыми перебравшиеся через коровий брод, сбили стрелами. Еще один залп отогнал выбежавших из караульной воев, заставив их искать убежища за углами выстроенных у частокола домов. Один из дружинников побежал по улицам посада, криком оповещая жителей о приходе врага.
Из дворов выскакивали вооруженные чем попало мужчины, для которых ожидание боя оказалось худшим испытанием, чем перспектива погибнуть от руки более опытного и лучше защищенного противника.
Половцы же не теряли времени даром. Пока несколько всадников осыпали стрелами хорошо различимые с высоты седла улицы посада, не давая приблизиться защитникам города, другие прочными волосяными арканами зацепили бревна частокола, потянув их на себя. Гнилое дерево подалось, и целая секция частокола рухнула, подняв при падении тучу пыли.
И тотчас в образовавшийся провал рванулась половецкая конница. Запели песнь смерти выхваченные из ножен сабли, чьи клинки обагрились первый за сегодня раз. Посадские, зачастую не защищенные доспехами, отмечали дорогу половецкой конницы своей кровью, щедро пролитой на деревянный настил узких городских улиц.
– Уррагх! – сорванным от постоянного крика голосом сипел Роман Гзич, ворвавшийся в Путивль одним из первых.
Не христианином, ценящим чужую жизнь, пришел он в город, но воином. Прощающий врагов Христос остался там, за проломленным частоколом, за солтаном Романом мчался тот, кто принес людям не мир, но меч.