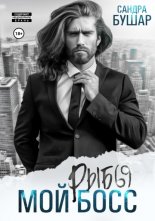Поднятая целина Шолохов Михаил

– А то как же, конешно есть.
Нагульнов заглянул в список: против фамилии Банника в графе «предполагаемая площадь ярового посева в 1930 году» стояла цифра «6».
– Ты собирался в нонешнем году шесть га пшеницы сеять?
– Так точно.
– Значит, сорок два пуда семян имеешь?
– Все полностью имею, подсеянный и очищенный хлебец, как золотцо!
– Ну, это ты – герой! – облегченно вздохнув, похвалил Нагульнов. – Вези его завтра в общественный амбар. Могешь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. Привезешь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки сюргучевые печати, выдаст тебе расписку, а весною получишь свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, поели. А в амбаре-то он надежней сохранится.
– Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь! – Банник развязно улыбнулся, пригладил белесые усы. – Этот твой номер не пляшет! Хлеба я вам не дам.
– Это почему же, дозволь спросить?
– Потому, что у меня он сохранней будет. А вам отдай его, а к весне и порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже ученые стали, на кривой не объедешь!
Нагульнов сдвинул разлатые брови, чуть побледнел.
– Как же ты могешь сомневаться в Советской власти? Не веришь, значит?!
– Ну да, не верю! Наслухались мы брехнев от вашего брата!
– Это кто же брехал? И в чем? – Нагульнов побледнел заметней, медленно привстал.
Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, показывая ядреные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал:
– Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли? Антанабили покупать, чтоб партийные со своими стрижеными бабами катались? Зна-а-аем, на что нашу пашеничку гатите! Дожилися до равенства!
– Да ты одурел, чертяка! Ты чего это балабонишь?
– Небось одуреешь, коли тебя за глотку возьмут! Сто шешнадцать пудиков по хлебозаготовке вывез! Да зараз последний, семенной, хотите… чтоб детей моих… оголодить…
– Цыц! Брешешь, гад! – Нагульнов грохнул кулаком по столу.
Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с чернилами. Густая фиолетовая струя, блистая, проползла по бумаге, упала на полу дубленого полушубка Банника. Банник смахнул чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, на углах губ вскипели белые заеди, с задавленным бешенством он выхрипел:
– Ты на меня не цыкай! Ты на жену свою Лушку стучи кулаком, а я тебе не жена! Ноне не двадцатый год, понял? А хлеба не дам… Кка-тись ты!..
Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился:
– Ты это… чьи речи?.. Ты это чего, контра, мне тут?.. Над социализмом смеялся, гад!.. А зараз… – Он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая тылом ладони клейкий пот с лица, сказал: – Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра же ты у меня пойдешь куда следовает. Там допытаются, откуда ты таких речей наслухался!
– Арестовать ты меня могешь, а расписки не напишу и хлеб не дам!
– Пиши, говорю!..
– Трошки повремени…
– Я тебя добром прошу…
Банник пошел к выходу, но, видно, злоба так люто возгорелась в нем, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул:
– Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб! Лучше они нехай потрескают, чем вам, чужеедам!..
– Свиньям? Семенной?!
Нагульнов в два прыжка очутился возле двери, – выхватив из кармана наган, ударил Банника колодкой в висок. Банник качнулся, прислонился к стене, – обтирая спиной побелку, стал валиться на пол. Упал. Из виска, из ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь. Нагульнов, уже не владея собой, ударил лежачего несколько раз ногою, отошел. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул раза два, а потом, цепляясь за стену, начал подниматься. И едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он молча вытирал ее рукавом, с обеленной спины его сыпалась меловая пыль. Нагульнов пил прямо из графина противную, степлившуюся воду, ляская о края зубами. Искоса глянув на поднявшегося Банника, он подошел к нему, взял, как клещами, за локоть, толкнул к столу, сунул в руку карандаш:
– Пиши!
– Я напишу, но это будет известно прокурору… С-под нагана я что хошь напишу… Бить при Советской власти не дозволено… Она – партия – тебе тоже за это не уважит! – хрипло бормотал Банник, обессиленно садясь на табурет.
Нагульнов стал напротив, взвел курок нагана.
– Ага, контра, и Советскую власть, и партию вспомянул! Тебя не народный суд будет судить, а я вот зараз, и своим судом. Ежели не напишешь – застрелю как вредного гада, а потом пойду за тебя в тюрьму хоть на десять лет! Я тебе не дам над Советской властью надругиваться! Пиши: «Расписка». Написал? Пиши: «Я, бывший активный белогвардеец, мамонтовец, с оружием в руках приступавший к Красной армии, беру обратно свои слова…» Написал?.. «…свои слова, невозможно оскорбительные для ВКП(б)». ВКП с заглавной буквы, есть? «…и Советской власти, прошу прощения перед ними и обязываюсь впредь, хотя я и есть скрытая контра…»
– Не буду писать! Ты чего меня сильничаешь?
– Нет, будешь! А ты думал – как? Что я, белыми израненный, исказненный, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах смывался над Советской властью, а я бы молчал! Пиши, душа с тебя вон!..