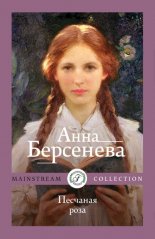Кремулятор Филипенко Саша

– Сотрудничаю со следствием…
– Хорошо, тогда мы сегодня – благо позволяет время – начнем издалека…
– Из самого далекого далека?
– Из самого! Давай, начинай подробно показывать мне, где и в каком качестве ты служил в период с 1915 года…
– Опять?! Но я ведь уже рассказывал об этом в Москве!
– Но не мне ведь, верно?
– Да, но…
– Показывай давай, но не быстро – сам видишь, я сегодня один…
– А где, кстати, наша дорогая машинистка?
– Приболела…
– Понятно…
– Понятно ему – я говорю, показывай давай!
– Прям с 1915 года, опять?
– Да…
– Ага… Хорошо… Показываю… Значит, в 1915-м я находился на фронте, командовал ротой 33-го стрелкового Сибирского полка…
– Сибирского полка…
Пока он пишет, признаюсь тебе, милая, что военным я быть никогда не хотел. Думаю, слова эти теперь немало удивят тебя, но это правда. Ты не поверишь, но едва ли на свете была вещь, которая страшила меня больше службы в армии. Время стирает все, я теперь предельно иной человек, и все же, если только воспоминания не обманывают меня, то там, далеко, в детстве, я был мальчиком тихим, скромным и всецело увлеченным природой. Не знаю, так ли это, но ведь ты лучше помнишь меня…
Ты помнишь, милая, как, пропадая в лесу целыми днями, я мог подолгу изучать лягушек, насекомых и птиц? Кажется, всякий раз я делал это осторожно, чтобы ни в коем случае никому не навредить. Я знаю, после всего, что я рассказываю, теперь даже тебе, наверное, в это сложно поверить, но в детстве я был человеком совсем иным – я рос ребенком любящим, открытым и трепетным.
Помнится, однажды во время охоты отец заметил, что я глажу подбитого им зайца. Вместо того чтобы обнять меня, папенька приказал добить зверя. Я выкрикнул что-то грубое, совершенно мне несвойственное, и убежал. Поведение мое отец счел малодушным. Не грязные слова, но слезы мои его оскорбили. Ему вдруг стало очень жаль себя…
С того дня он принялся воспитывать во мне мужчину. Едва ли не каждый день отец устраивал мне «проверки на смелость», которые я то и дело проваливал. Для чего нужно было с риском для жизни прыгать через глубокие овраги, забираться на высокие деревья и заниматься с гантелями, я решительно не понимал. Не знаю, помнишь ли ты то время, милая, но несколько раз в неделю он ставил меня боксировать с сельскими парнями, которые, понятное дело, были гораздо старше и крепче меня. Раз за разом эти здоровенные детины натурально избивали меня. Едва я падал на землю, папенька принимался называть меня слабаком и даже бабой. Его строгость и нарочитая мускулистость меня не закаляли, но, напротив, только отпугивали. Так мы и ходили по кругу, пока однажды после шести классов Николаевского реального училища, как ты хорошо помнишь, он не принял решения отправить меня в юнкерское училище.
«Жизнь не будет баловать тебя, Петь. Ты не должен щадить себя! Ни себя, ни окружающих. Если только однажды пожалеешь себя – все, считай, ты щенок, а не человек! Если же я узнаю, что учишься ты хуже других или, что еще хуже, опозорил ты нашу фамилию трусостью – богом клянусь, Петр Ильич, на порог этого дома я тебя не пущу, но прилюдно, здесь вот перед всем миром до смерти высеку!»
Так я был отдан в Одесское пехотное юнкерское училище, где еще долгое время, слыша краткое «Петь», пугался, улавливая в этом слове «плеть», что нередко появлялась в руках отца.
С первых дней в училище я решил, что стану военным не менее известным, чем герой Порт-Артура Марк Тапсашар. Ежечасно перебарывая собственный страх, в единственном желании оправдать надежды отца и покорить тебя, я то и дело ввязывался в кулачные бои со сверстниками, делая это для того только, чтобы продемонстрировать отсутствующее мужество. Я атаковал прежде всего самого себя, выбивая из собственного сердца доброту, открытость и нежность, которые, должен признаться, в этом веке мне действительно не пригодились. Выходит, я должен поблагодарить отца…
– Продолжай!
– В середине января 1915-го я получил тяжелое ранение, и меня эвакуировали в лазарет в Ломжу.
– Что это за Ломжа?
– Хорошее местечко. Пара заводов и фабрик, два рынка и театр. Публичная библиотека, мужская и женская гимназии, три костела, жаль только, что всей этой красоты я так и не увидел, гражданин начальник, потому что лежал в госпитале…
– Ты не тараторь, а продолжай показывать о войне!
– Так а что показывать-то?
– Как все было, показывай!
– А как все было?
– Нестеренко!
«Показывай, как все было!» А как все было? Понятно же как… Тонкая карточка в библиотеке воспоминаний – легко порезаться. Говорить о войне мне, конечно, не хочется. Всю свою жизнь я стараюсь ее забыть, а он…
Война эта была нужна папеньке и людям вроде него, но не мне. Жертвоприношение на алтарь отцовских глупостей. Получив ранение, я был так горд собой! Наивный, я ожидал лишь того дня, когда смогу приехать домой и, указав на заштопанную шею, предъявлю отцу собственную храбрость, но когда это в действительности произошло, я услышал лишь несколько холодных, пронизанных несправедливыми упреками вопросов:
«Разве война закончилась? Если ты смог приехать сюда – значит, чувствуешь себя хорошо! Решил пересидеть, пока другие твои товарищи сражаются?! Боишься возвращаться на фронт? Никогда не думал, что воспитаю труса!»
Неужто и правда ожидает теперь товарищ Перепелица, что расскажу ему обо всем с самого начала? Разве и вправду думает он, что начну описывать, как на войну эту мечтал попасть, как бредил вернуться в отпуск с Георгиевским крестом? Всерьез ли он сейчас надеется, что стану описывать вокзал, заполненный странными людьми, которые преступно подбадривали нас? Какого он года? 13-го? 15-го?
Когда началась война, ему, гаденышу, наверное, не было и пяти. Что он может помнить о той войне, что знать? Торжество смерти, праздник мертвеца – вот что это была за война! Век только начинался, а все идеалы уже были разрушены. Что ему рассказывать, если он никогда не сможет понять, что над целым континентом висел трупный запах…
Все еще молча разглядывая Перепелицу, я вспоминаю теперь, милая, как поезд буквально сбежал с вокзала, на котором все ярче и яростнее раздувался духовой оркестр. Люди заходились в смертельном экстазе, однако стоило составу покинуть город, как тотчас наступила страшная тишина. Безумное счастье вмиг выветрилось. Беззвучие вагона потрясло меня. Казалось, я не слышу даже стука колес. Все вокруг молчали. Никто больше не шутил, не смеялся и не пел гимнов. Тишина была такая, что ее можно было потрогать руками. Лишь единожды, в день, когда в 1920 году мы покидали Крым, после последней перед исходом молитвы (уверен, ты ее помнишь), я услышал подобное безмолвие. Скорбь, которую не нарушал ни плач ребенка, ни лай собаки, ни карканье воронья. Так неужели и правда думает этот Перепелица, что сейчас я стану рассказывать, как смотрел в тот день на юных однополчан и осознавал вдруг, что никаких оркестров в моей жизни больше не будет?
– Нестеренко, ты что, уснул? Последний раз тебе говорю, показывай мне о войне!
– Так а что тут показывать-то? Будто вы и сами не знаете, до чего же скотская она была…
– Без обобщений! Рассказывай мне о своем участии!
– О моем? А что тут скажешь… такое же, как и у всех, у меня было участие…
Уже в первые дни бойня эта меня натурально ошарашила. Думаю, что в действительности это было мое первое настоящее потрясение, гражданин начальник. Ни к чему подобному я, конечно, совершенно был не готов. Я думал, что война эта будет такая же красивая, как на картинках, как в книгах, как нам рассказывали в училище, но едва боевые действия начались – фронт тотчас превратился в проходной двор. Текучка кадров оказалась колоссальной! Приехал – погиб, приехал – погиб, погиб, погиб, погиб…
Война – первый великий музей, который я посещаю в своей жизни. Музей анатомии. Обширнейшая, богатейшая коллекция, что обновляется каждый день. Миллионы экспонатов! Разрубленные вдоль и поперек тела, вскрытые и разорванные легкие, торчащие кости и разбросанные кишки. Руки, головы, ступни и черепа. Меня особенно впечатляют зрачки, по которым ползают мухи…
– В те дни, гражданин начальник, мне казалось, что солдатам всех держав проще было бы ложиться в братские могилы уже в своих собственных городах. Вот проснулся ты утром, вышел в огород, могилу выкопал и слег. Да краше бы даже с братом. Поступай мы так – это избавило бы всех нас от бесконечных переходов, ночей в мокрых окопах и компаний бесчисленных крыс. Знаете, гражданин начальник, Николай Федоров как-то написал, что бессмертие возможно только в том случае, если воскресить мертвых. Как это сделать, мы тогда, конечно, не понимали, но трупов для будущего великого воскрешения заготавливали с лихвой…
– Кто такой Николай Федоров?
– А, забудьте, гражданин начальник, это уж точно к нашему делу не имеет никакого отношения…
– Не тебе, Нестеренко, решать, что имеет отношение к твоему делу, а что нет!
– Да уж, конечно, не мне, я понимаю. В общем, я могу с уверенностью сказать только, что война эта разрушила мой привычный мир, все мое нехитрое понимание вещей. Вмиг буквально мир мой разлетелся на куски! Бах! Бах! Бах!
– Нестеренко, потише, ты не в театре!
– Да-да, простите…
– И не нужно мне тут делать таких длинных пауз!
– Ну вы же просто сами сказали мне, что записываете…
– Ты не волнуйся, все, что необходимо, я запишу!
– Тоже верно. В общем, подытоживая, можно сказать, что уже в первые дни закрылись все мои фабрики скорби и обанкротились мануфактуры горя…
– Нестеренко, я же тебя предупреждал: ты не Маяковский – не нужно мне здесь поэзии!
– У вас там клякса…
– Нестеренко!
– Да не поэзия это никакая, а чистая проза – проза жизни, точнее и не описать! Со мной случилась вдруг такая колоссальнейшая минимализация чувств, понимаете, гражданин начальник? Я вдруг осознал, что уже в первые дни, попусту совершенно, вхолостую буквально растратил и грусть, и печаль, и сострадание…
– К чему ты ведешь?
– Я веду к тому, гражданин начальник, что был немного не таким человеком, как сейчас…
– Нестеренко!
– Раз уж вы меня спросили – я веду к тому, что там, на войне, уже в первые дни что-то во мне навсегда изменилось, что-то вдруг закончилось, и в связи с этим, когда все мои склады сопереживаний опустели, я перестал оплакивать однополчан и начал смеяться…
– В смысле?
– В прямом! Я помню, что уже в один из первых боев, скованный ужасом, потеряв рассудок от страха, я стоял и ржал во все горло. Нет, правда, я ржал как жеребец! Не человек, но памятник безумию! В ушах звенело, а я не слышал ни приказов, ни свиста пуль, ни даже разрывов снарядов! Я стоял только на месте и смеялся во весь кадык!
– Почему?
– Да потому что все это было ужасающе смешно! Безумие, форменное безумие! Уходя на фронт, я обещал отцу и Вере, что буду бесстрашным, а тут такое бессмысленное веселье…
– Что еще за Вера?
– Да неважно теперь…
– Может, мне повторить вопрос?
– Да правда неважно! Девчонка, которая меня провожала. Мы с ней жили в одном селе, всегда держались друг друга. С самого детства рука об руку ходили. Я ей мужем обещал быть, а она мне женой. Очень, кажется, тогда любили друг друга. Много лет письма друг другу писали, она в Одессу ко мне приезжала, я возвращался в село. Я ей обещал стать генералом, а она мне – самой известной в России актрисой. Мы всегда почему-то были уверены, что очень важная у нас будет семья, что я, весь в орденах, буду приходить в театр, чтобы наблюдать за ее блистательной игрой. Вера так хотела стать актрисой… Я так хотел ей помочь… Я знал, что из меня ничего особенно не выйдет, ведь быть солдатом, если честно, я никогда не хотел, а она… Она так хотела на сцену, так стремилась к этому всю жизнь, что мне очень хотелось ее поддержать!
– Нестеренко…
– Затем, когда прощались, считай, взрослые уже, пальцы мои вот эти целовала, каждый ноготок, подушечку каждую, щеки, веки, как из пулемета строчила по мне любовью, гражданин начальник, да все обещала, что будет ждать…
– И что же? Не дождалась?
– Да длинная история…
Нового вопроса о тебе следователь почему-то не задает. Перепелица вдруг сам берет паузу и замолкает. Дознаватель скалится и внимательно смотрит на меня. Хотя, подобно Ноеву ковчегу, саратовский «титаник» набит самыми диковинными тварями, думаю, он признается себе, что среди прочих перед ним сидит редкий экспонат. Да, пускай я не такой исключительный, как, например, мой сокамерник Вавилов, и да, возможно, не столь запутанный, как похититель генерала Кутепова Яков Серебрянский (дело которого Перепелица тоже вел), и все же со мной товарищу следователю придется повозиться. Впрочем, Перепелица прекрасно понимает, что и как ему нужно делать:
Допрос – процессуальное средство получения и проверки доказательств. Действенное средство воспитательного воздействия на допрашиваемого. По своему характеру, допрос – действие многоплановое и сложное. Оно имеет процессуальный, криминалистический, организационный, психологический и этический аспекты. Сложность допроса заключается в кажущейся его простоте. Квалифицированное производство допроса требует не только знания закона и творческого его применения, но и житейского опыта, умения интерпретировать и варьировать различные меры воздействия на личность с учетом индивидуально-возрастных ее особенностей.
Допрос – это искусство, требующее высокого мастерства и способностей.
Всесоюзный институт по изучению причини разработке мер предупреждения преступностиПрокуратуры Союза ССР
– А ты веришь в бога, Нестеренко?
– Арапа толкаете?
– В бога ты веруешь, спрашиваю?!
– Я?
– Нестеренко, здесь больше никого нет!
– Так, значит, и бога нет, коли никого нет.
– Нестеренко!
– Ну и вопросики у вас сегодня, гражданин начальник! Уж не заболели ли вы? Или, может, я чего не знаю? Немцы уже в Саратове? Возводят кирхи? Вот, наверное, к любому вашему вопросу я был готов, да уж только не к этому. Кому потом буду рассказывать, что в ноябре 41-го следователь Перепелица заговорил со мной о боге, так уж точно никто и ни за что в такое не поверит! Скажут – не бывает подобного в природе, Петя!
– Тебе никому не придется об этом рассказывать – не беспокойся!
Тоже верно. Коли расстреляют, то и не придется, только я ведь не умру! В этом смысле на мой счет следователь Перепелица ошибается. Сидит, лыбится, думает об утре, когда подобьет и отправит расстрельный списочек в любимую Москву. Там его кто-нибудь важный подмахнет, конвертик вернется – и поведут меня подземным этажом в специально оборудованную камеру, где все так заделано, что ни человек, ни правда, ни даже звук оттуда сбежать не могут. Не потому ли сидит теперь такой довольный, что уже знает, знает наверняка, гнида, что пулю пустят в меня?