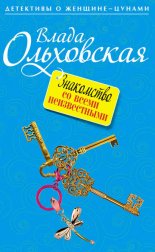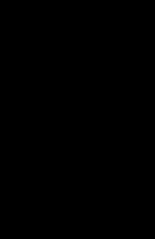Циники. Бритый человек (сборник) Мариенгоф Анатолий
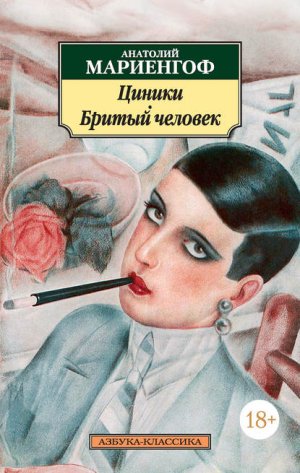
© А. Мариенгоф, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *
Циники
Почему может быть признан виновным историк, верно следующий мельчайшим подробностям рассказа, находящегося в его распоряжении? Его ли вина, если действующие лица, соблазненные страстями, которых он не разделяет, к несчастью для него, совершают действия глубоко безнравственные.
Стендаль
Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна. Это все очень верно, но не сами ли вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя «безобразить». Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство.
Лесков
1918
1
– Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высуня язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки.
Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы – женской руки с обрубленной кистью.
Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Сосредоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель.
– Знаете, Ольга…
Я коснулся ее пальцев.
– …после нашего «социалистического» переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора.
Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы.
– А как вы думаете, Владимир…
Она взглянула в зеркало.
– …может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ?
Она взяла со столика золотой герленовский карандашик:
– Как же тогда жить?
2
После четырехдневной забастовки собрание рабочих тульского оружейно-патронного завода постановило:
«…по первому призывному гудку выйти на работу, т. к. забастовка могла быть объявленной только в силу временногопомешательства рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи».
3
Чехословаки взяли Самару.
4
В Петербурге хоронили Володарского. За гробом под проливным дождем шло больше двухсот тысяч человек.
5
ВЧК сделала тщательный обыск в кофейной французского гражданина Лефенберга по Столешникову переулку, дом 8, и в кофейной словака Цумбурга тоже по Столешникову переулку, дом 6. Обнаружены пирожные и около 30 фунтов меда.
6
Вооруженный тряпкой времен Гомера, я стою на легонькой передвижной лесенке и в совершеннейшем упоении глотаю книжную пыль.
Внизу Ольга щиплет перчатку цвета крысиных лапок.
– Нет, Ольга, этого вы не можете от меня требовать!
Она продолжает отдирать с левой руки свою вторую кожу.
– Итак, вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю перетирать мои книги? Да?..
– Именно.
– Ни за что в жизни! Она и без того получает слишком большое жалованье.
– Марфуша!
От волнения я теряю равновесие. Мне приходится, чтобы не упасть, выпустить из рук тряпку времен Гомера и уцепиться за шкаф. Тряпка несколько мгновений парит в воздухе, потом плавно опускается на Ольгину шляпу из жемчужных перышек чайки.
О, ужас, античная реликвия черной чадрой закрывает ей лицо!
Ольга давится пылью, кашляет, чихает.
Со своего «неба» я бормочу какие-то извинения. Все погибло. С земли до меня доносится:
– Марфуша!
Входит девушка, вместительная и широкая, как медный таз, в котором мама варила варенье.
– Будьте добры, Марфуша, возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит три часа времени, а у вас это займет не больше двадцати минут.
У меня сжимается сердце.
– Спускайтесь, Владимир. Мы пойдем гулять.
Спускаюсь.
– Ваша физиономия татуирована грязью.
Моя физиономия действительно «татуирована грязью».
– Вам необходимо вымыться. Работает ли в вашем доме водопровод? Иначе я понапрасну отсчитала шестьдесят четыре ступеньки.
– Час тому назад водопровод действовал. Но ведь вы знаете, Ольга, что в революции самое приятное – ее неожиданности.
7
Мы идем по Страстному бульвару. Клены вроде старинных модниц в больших соломенных шляпах с пунцовыми, оранжевыми и желтыми лентами.
Ольга берет меня под руку.
– Моипредки соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаши получили письмецо с предписанием «сторожить квартиру». Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет.
По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух.
У Ольги лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды. А рот – туз червей.
– Хочу мороженого.
Я отвечаю, что Московский Совет издал декрет о полном воспрещении «продажи и производства»:
…яства, к которому вы неравнодушны.
Ольга разводит плечи:
– Странная какая-то революция.
И говорит с грустью:
– Я думала, они первым долгом поставят гильотину на Лобном месте.
С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы.
– А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое.
Через город перекинулась радуга. Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской оперетки. О какой-то чепухе болтают воробьи.
8
В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в Райвскую пустынь. Казанская ЦК направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев. А монахи взяли да и сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной.
Причем жгли, говорят, по древним русским обычаям: сначала перевязывали поперек бечевкой и бросали в реку, когда поверхность воды переставала пузыриться, тащили наружу и принимались «сушить на кострах».
История в Ольгином духе.
9
– Я пришел к тебе, Ольга, проститься.
– Проститься? Гога, не пугай меня.
И Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом.
– Куда же ты отбываешь?
– На Дон.
– В армию генерала Алексеева.
Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением:
– Гога, да ты…
И вдруг – ни село, ни пало – задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом.
Гога – милый и красивый мальчик. Ему девятнадцать лет. У него всегда обиженные розовые губы, голова в золоте топленых сливок от степных коров и большие зеленые несчастливые глаза.
– Пойми, Ольга, я люблю свою родину.
Ольга перестает дрыгать ногами, поворачивает к нему лицо и говорит серьезно:
– Это все оттого, Гога, что ты не кончил гимназию.
Гогины обиженные губы обижаются еще больше.
– Только подлецы, Ольга, во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай.
– Прощай, цыпленок.
Он протягивает мне руку с нежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их:
– До свидания, Гога.
Он качает головой, расплескивая золото топленых сливок:
– Нет, прощайте.
И выпячивает розовые, как у девочки, обиженные губы. Мы целуемся.
– До свидания, мой милый друг.
– Для чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию.
Бедный ангел! Его непременно подстрелят, как куропатку.
– Прощайте, Гога.
10
На Кузнецком Мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены.
С крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах.
– При Петре Великом, Ольга, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо. Как суп, варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого Моста?
Рабочий в шапчонке, похожей на плевок, весело осклабился:
– А вот, граждане, к примеру сказать, в Альшванговом магазине буржуйских роскошей будем махру выдавать по карточкам.
И, глянув прищуренными глазами на Ольгины губы, добавил:
– Трудящемуся населению.
Предвечернее солнце растекается по панелям. Там, где тротуар образовал ямки и выбоины, стоят большие, колеблемые ветром солнечные лужи.
– Подождите меня, Владимир.
– Слушаюсь.
– В тридцать седьмой квартире живет знакомый ювелир. Надо забросить ему камушек. А то совсем осталась без гроша.
– У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять «прижизненного Пушкина».
Ольга легкими шагами взбегает по ступенькам.
Я жду.
Старенький действительный статский советник, «одетый в пенсне», торгует в подъезде харьковскими ирисками.
Мне делается грустно. Я думаю об улочке, на которой еще теснятся книжные лавчонки.
Когда-то ее назвали Моховой. Она тянулась по тихому безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой илистой земле бессуразно пышно рос мох.
Вышла Ольга.
– Теперь можем кутить.
Она покупает у действительного статского советника ириски.
Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах.
11
Мой старший брат Сергей – большевик. Он живет в «Метрополе»; управляет водным транспортом (будучи археологом); ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся, точно от водянки, шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара.
У Сергея веселые синие глаза и по-ребячьи оттопыренные уши. Того гляди, он по-птичьи взмахнет ими, и голова с синими глазами полетит.
Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбовав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи.
Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на больную щеку. Всякий разволчанка съедала заплату.
– Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку.
– Для чего тебе библиотека?
– Чтобы стирать с нее пыль.
– Ходи в Румянцевку и стирай там.
– Ладно… не надо.
Сергей садится к столу и пишет записку.
Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров; о судьбе чернобородого семнадцатилетнего мальчика, который, чтобы «спасти честь России», бросил бомбу в немецкое посольство; о смерти Мирбаха; о желании эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию с Германией.
Еще не все улеглось. Еще останавливают на окраинах автомобили и держат, согласно ленинскому приказу, «до тройной проверки»; еще опущены шлагбаумы на шоссе и вооруженные отряды рабочих жгут возле них по ночам костры.
Чтобы раздразнить Сергея, я говорю про эсеров:
– А знаешь, мне искренно нравятся эти «скифы» с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных обтрепанных салопов.
Ольга про эсеров неплохо сказала: «они похожи на нашего Гогу – будто тоже не кончили гимназию».
Сергей трется сухой переносицей о край письменного стола. Он вроде лохматого большого пса, о котором можно подумать, что состоит в дружбе даже с черными кошками.
– Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. Впрочем, в политике это одно и то же.
Мягкими серыми хлопьями падает темнота на Театральную площадь.
– Ихний главнокомандующий – Муравьев – третьего дня сбежал в Симбирск и оттуда соизволил ни больше ни меньше как «объявить войну Германии». Глупо, а расстреливать надо.
Садик, скамейки, тоненькие деревца и редкие человеческие фигурки внизу завалены осенними сумерками. Будто несколько часов кряду падал теплый серый снег.
Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими – тверезыми, равнодушными, прохладными, как зеленоватая, сентябрьская, подернутая ржавчиной вода.
Мне непереносимо хочется взбесить его, разозлить, вывести из себя.
– Эсеры, Муравьев, немцы, война, революция – все это чепуха…
Сергей таращит пушистые ресницы:
– А что же не чепуха?
– Моя любовь.
Внизу на Театральной редкие фонари раскуривают свои папироски.
– Предположим, что ваша социалистическая пролетарская революция кончается, а я любим…
Среди облаков вспыхивает толстая немецкая сигара.
– …трагический конец!.. а я?… я купаюсь в своем счастье, плаваю по брюхо, фыркаю в розовой водичке и пускаю пузырики всеми местами.
Сергей вытаскивает из портфеля бумаги:
– Ну, брат, с тобой водиться – все равно что в крапиву с… садиться.
И подтягивается:
– Иди домой. Мне работать надо.
12
Большевики, как умеют, успокаивают двухмиллионное население Белокаменной.
В газетах даже появились новые отделы:
«Борьба с голодом».
«Прибытие продовольственных грузов в Москву».
На нынешний день два радостных сообщения.
Первое:
«Из Рязани отправлено в Москву 48 вагонов жмыхов».
Второе:
«Сегодня прибыло 52 пуда муки пшеничной и 1 пуд муки ржаной».
13
Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку.
Я плутаю в догадках:
«Что случилось?»
Наконец, чтобы рассеять катастрофически сгущающийся мрак, робко предлагаю:
– Хотите, я немножко почитаю вам вслух?
Молчание.
– У меня с собой «Сатирикон» Петрония.
После весьма внушительной паузы:
– Не желаю. Его герои – жалкие, ревнивые скоты.
Голос звучит как из чистилища:
– …они не признают, чтобы у их возлюбленных кто-нибудь другой «за пазухой вытирал руки».
Ольга вытаскивает из подушки нос. С него слезла пудра. Крылья ноздрей порозовели и слегка припухли.
– Вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония! У него мальчишки «разыгрывают свои зады в кости».
– Ольга!..
– Что «Ольга»?
– Я только хочу сказать, что римляне называли Петрония «судьей изящного искусства».
– Вот как!
– Elegantiae…
– Так-так-так!
– …arbiter.
– Баста! Все поняла: вы шокированы тем, что у меня болит живот!
– Живот?..
– Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом со мной. Вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из «Сатирикона», где Петроний рекомендует «не стесняться, если кто-либо имеет надобность… потому, что никто из нас не родился запечатанным… что нет большей муки, чем удерживаться… что этого одного не может запретить сам Юпитер…». Так я вас поняла?
Я хватаюсь за голову.
– Имейте в виду, что вы ошиблись, – у меня запор!
Я потупляю глаза.
– Скажите, пожалуйста, вы в меня влюблены?
Краска заливает мои щеки. (Ужасная несправедливость: мужчины краснеют до шестидесяти лет, женщины – до шестнадцати.)
– Нежно влюблены? Возвышенно влюблены? В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас прошу?
– Слышу.
– Двигайтесь же!
Я передвигаю себя, как тяжелый беккеровский рояль.
– Ищите в уголке на верхней полке!
Я обжигаю пальцы о холодное стекло кружки.
– Эта самая… с желтой кишкой и черным наконечником… налейте воду из графина… возьмите с туалетного столика вазелин… намажьте наконечник… повесьте на гвоздь… благодарю вас… а теперь можете уходить домой… до свидания.
14
Битый третий час бегаю по городу. Обливаясь потом и злостью, вспоминаю, что в XVI веке Москва была «немного поболее Лондона». Милая моя Пенза. Она никогда не была и, надеюсь, не будет «немного поболее Лондона». Мечтаю печальный остаток своих дней дожить в Пензе.
Наконец, когда уже не чувствую под собой ног, где-то у Дорогомиловской заставы достаю несколько белых и желтых роз.
Прекрасные цветы! Одни похожи на белых голубей с оторванными головками, на мыльный гребень волны Евксинского Понта, на сверкающего, как снег, сванетского барашка. Другие – на того кудрявого еврейского младенца, которого – впоследствии – неуживчивый и беспокойный характер довел до Голгофы.
Садовник завертывает розы в старую, измятую газету. Я кричу в ужасе:
– Безумец, что вы делаете? Разве вы не видите, вка-ку-ю газету вы завертываете мои цветы!
Садовник испуганно кладет розы на скамейку.
Я продолжаю кричать:
– Да ведь это же «Речь»! Орган конституционно-демократической партии, члены которой объявлены вне закона. Любой бульварный побродяга может безнаказанно вонзить перочинный нож в горло конституционного демократа.
У меня дрожат колени. Я сын своих предков. В моих жилах течет чистая кровь тех самых славян, о трусливости которых так полно и охотно писали древние историки.
– Можно подумать, сумасшедший человек, что вы только сегодняшним вечером упали за Дорогомиловскую заставу с весьма отдаленной планеты. Неужели же вы не знаете, что ваши розы, белые, как перламутровое брюшко жемчужной раковины, и золотые, как цыплята, вылупившиеся из яйца, ваши чистые, ваши невинные, ваши девственные розы – это… это…
Я говорю шепотом:
– …это…
Одними губами: