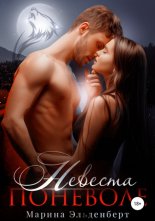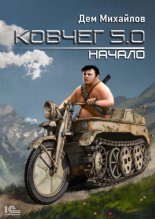Огненный поток Гош Амитав
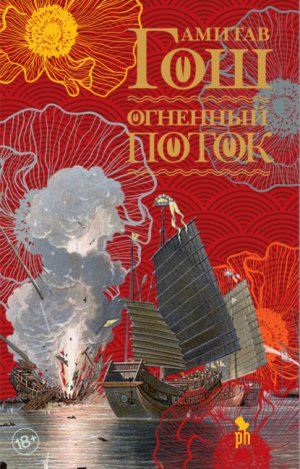
– Свидетельствуют мои собственные глаза, мистер Рейд. Вернее, мой бинокль. В тот день я наблюдала приступ вашего нездорового возбуждения, заставивший вас скинуть одежду и броситься в реку. Не понимаю, с чего вы решили, что облегчите свое состояние скрытно, коль совершали сей акт у всех на глазах.
Ошеломленный Захарий попытался возразить:
– Но я не… вы ошибаетесь, мадам… Заверяю вас, я не делал того, о чем вы говорите.
– А чем же вы занимались?
– Осмелюсь доложить, я просто драил штырь.
– Ха-ха! – Миссис Бернэм саркастически усмехнулась. – Вот, значит, как вы это называете? Еще скажите, что “свежевали хорька”. Или, может, вы “душили гуся”?
– Нет, вы не поняли, это был крепежный штырь.
– И вы его, конечно, смазывали, да? – Мадам рассмеялась. – Не считайте меня несмышленой дурехой, мистер Рейд, это, уж поверьте, не про меня. Я много старше вас, и одурачить меня непросто. Если угодно, мне известно значение таких выражений, как “понежить удава” и “терзать пушку”. Знаете, мне даже знакомы варианты вроде “доить бычка” и “чистить дуло”. Но это неважно, ибо смысл у них один. Негоже, мистер Рейд, скрываться от истинных причин вашего печального состояния. Вы больны, и первый шаг к излечению – признать себя жертвой недуга. – Она сочувственно похлопала Захария по руке и продолжила уже мягче: – Вам потребна помощь, и я ее окажу. Я понимаю, вы оказались на чужбине, один, без друзей, но знайте: пока я жива, вы всегда найдете во мне опору. Я не побоюсь утратить небольшую долю собственной благопристойности, дабы спасти вас от греха и порока. Моя жертва – ничто по сравнению с подвигом миссионеров, ежедневно рискующих оказаться в котле дикарей. Долгие годы мой муж отдавал все силы спасению заблудших девиц от жизни в грехе. Будет только правильно, если то же самое я сделаю с вами. Я договорюсь о вашем приватном осмотре специалистом, дабы получить его рекомендации по курсу лечения.
Коляска подъехала к особняку Бернэмов и остановилась там, где от дороги ответвлялась тропка, уводившая к пришвартованному плавучему дворцу.
Захарий соскочил на землю, пробурчал пожелание доброй ночи и поспешно зашагал прочь, но его нагнал оклик миссис Бернэм, высунувшейся в окошко:
– И попомните, мистер Рейд: руки – для молитвы! Будьте сильным. Вместе мы одолеем заполонивший вас мрак, уж в том не сомневайтесь!
Глава 4
Первое путешествие Кесри вниз по Гангу вышло долгим, ибо на пути к военному городку в Барракпоре трехмачтовый пулвар останавливался у каждой пристани. Однако поездку отметили события, еще не изведанные в короткой жизни Кесри и оттого надолго засевшие в память.
Именно тогда он познакомился с Хукам Сингхом, будущим своим зятем и мужем Дити. Они были почти ровесники, но племянник Бхиро Сингха уже пару лет отслужил в полку и сейчас командовал новобранцами, которых вместе с Кесри набралось шесть человек.
Хукам Сингх, рослый здоровяк, любил задирать тех, кто слабее. Но Кесри, не уступавший ему ни сложением, ни силой, не был с ним так почтителен, как другие рекруты. Хукам Сингху, уже привыкшему командовать молодыми, это, разумеется, не нравилось. Он быстро понял, что парня не запугать, и сменил тактику: оскорблял, ехидничал, высмеивал смуглость Кесри и постоянно напоминал, что тот покинул дом без гроша в кармане и едет на одолженные деньги. Причем не всегда в лицо – Кесри прознал, что втихомолку подвергаются сомнению его происхождение и родословная, а также распускаются слухи, будто родные просто выгнали его из дома.
Первое время Кесри, закусив губу, не отвечал на провокации. Но Хукам Сингх пошел дальше: однажды бросил на палубу грязные ланготу и жилетку и велел Кесри их как следует постирать.
Тому ничего не осталось, как встать в позу – он дернул плечом и отвернулся, чем ужасно разозлил оппонента.
– Не слышал, что ли? Давай принимайся!
– А то – что?
– Доложу хавильдару, моему дяде.
– Валяй.
– Ну смотри…
Хукам Сингх побежал разыскивать дядю, и вскоре новобранцам приказали построиться на баке, где обычно хавильдар проводил свои дни, наслаждаясь свежим ветерком. Сейчас он возлежал на чарпае и покуривал кальян, глядя на медленно проплывавшие берега. Хавильдар поманил к себе Кесри и велел сесть перед ним на корточки, после чего надолго замолчал, сосредоточившись на кальяне. Вскоре у Кесри заломило затекшие ноги.
– Э хам ка суна тани? – наконец промолвил Бхиро Сингх. – Что это мне доносят? Дескать, ты слишком много о себе понимаешь.
Кесри промолчал, но от него и не ждали ответа.
– Конечно, мне следовало учесть, – продолжил хавильдар, – что парень, вопреки воле отца убежавший с чужаками, не что иное, как пиздюк и засранец.
Неожиданно он вскинул руку и ударил Кесри по лицу. Хавильдар был гораздо массивнее и мощнее, и Кесри, в общем-то, еще малец, от оплеухи опрокинулся навзничь. В голове звенело, в нос шибануло запахом крови. Кесри провел ладонью по лицу и увидел кровавый след. Бхиро Сингх ударил его рукой, в которой был зажат мундштук кальяна, разодравший ему щеку. Прежний опыт борцовских схваток к такому не подготовил.
Вновь раздался голос хавильдара:
– Пора тебе усвоить главное правило солдатской службы – подчинение приказу.
Кесри так и лежал на палубе. Приподняв голову, он увидел высившегося над ним Бхиро Сингха. Хавильдар занес ногу и наградил его пинком, от которого он покатился по доскам палубы. Поддернув дхоти, Бхиро Сингх шел следом, угощая новыми пинками и стараясь отращенным ногтем большого пальца угодить точно между ягодиц, прикрытых тонкой тканью ланготы.
Потом Кесри отер глаза и медленно встал на четвереньки. Испуганные новобранцы сбились в кучу, переводя взгляды с него на хавильдара, который в одной руке сжимал окровавленный мундштук, а другой, нырнувшей под дхоти, почесывал в паху.
Кесри понял, что экзекуция – своего рода представление, устроенное для всех рекрутов, которые должны осознать: причинить боль и унизить – хавильдару одно удовольствие.
Бхиро Сингх бросил мундштук на палубу:
– Иди-ка отмой с него свою юшку. И запомни: это была лишь первая доза лекарства. Не поможет – усилим лечение.
Врачевание оставило синяки на теле Кесри, однако он одержал маленькую победу, замеченную всеми рекрутами, – приказа на стирку чужого исподнего не последовало, и Хукам Сингх не осмелился напомнить дяде свою исходную жалобу. Кесри сделал вывод, что хавильдар не особо чтит племянника, а тот боится родича, но отчаянно пытается ему подражать – вот на этой-то вредоносной почве и произрастали его кичливость и злоба.
После того случая отношение молодого начальника к Кесри слегка изменилось, теперь он воздерживался от ядовитых шпилек и, похоже, понял, что рекрут не примирится с положением слуги. Иногда он даже как будто признавал, что Кесри, пожалуй, годен к солдатской службе более остальных новобранцев.
Близился конец путешествия, и рекрутам не терпелось узнать, что за жизнь их ожидает. Особенно их интересовал вопрос варди, военной формы. К безмерному огорчению новобранцев, сопровождающие сипаи ехали в цивильном, никто из них ни разу не облачился в военный наряд.
Наконец Хукам Сингх уступил настойчивым просьбам, согласившись показать свою форму, но категорически отказался ради чьей-то прихоти выступать в роли обряженной куклы. Если юнцы так желают показа, пусть кто-нибудь из них станет портняжным манекеном.
Вопреки первоначальному порыву, добровольцев не нашлось. Нужной статью обладал только Кесри, но ввиду натянутых отношений с начальником он тоже не вышел из строя.
В результате Хукам Сингх сам его вызвал и приказал снять дхоти и джаму[32]. Кесри разоблачился, и начальник, кивнув на его ланготу, прикрывавшую чресла, сказал, что ее, как и дхоти, и нательную рубаху унга, можно носить только вне службы, но никак не с формой. Англичане требовали, чтобы солдаты надевали подштанники до колен, известные как джанги. Если на осмотре ты окажешься в ланготе, огребешь неприятности.
– Почему? – удивились рекруты.
– Кто его знает, такая вот блажь.
Затем Хукам Сингх принес свой ранец, к верху которого была приторочена шаровидная медная фляга. По уставу, сказал он, сия посудина должна вмещать ровно один сир[33] жидкости и быть укомплектована веревкой, дабы при необходимости черпать воду из колодца. Солдат не расстается с флягой никогда, даже в бою, а потеряет – мало не покажется. Офицеров хлебом не корми, только дай на параде полюбоваться рядами фляг, сверкающих под солнцем. На осмотре снаряжения первым делом проверяют фляги, и если они плохо вычищены, щедро сыплются штрафные наряды.
В следующую пару минут рекруты завороженно следили за диковинными предметами, появлявшимися из ранца: железной сковородой для приготовления лепешек, шесть на три фута циновкой для ночлега, белой глиной для чистки кожаных ремней и сапог, покрывалом для утепления ночью. К снаряжению с полной выкладкой весом в половину маунда, то бишь почти пятьдесят фунтов, привыкнешь не сразу, сказал Хукам Сингх.
Затем появилась аккуратно сложенная форма.
Рейтузы – их надевали поверх джанги.
Эта деталь одежды озадачила рекрутов. Она смахивала на штаны, только без завязок. Кесри не представлял, как можно влезть в нечто, столь узкое в поясе.
Хукам Сингх показал застежку на боку, но и тогда Кесри с трудом втиснулся в это странное облачение. Еще никогда он не надевал ничего столь облегающего и, оглядев себя, не узнал собственных ног, которые будто стали длиннее и мускулистее.
Рекруты смотрели во все глаза, потом один спросил:
– А как быть, если надо помочиться? Все с себя снимать?
– Нет. – Хукам Сингх показал, как откинуть передний клапан, застегивающийся на две пуговицы.
Однако приспособление это не выглядело полезным – Кесри безуспешно попытался согнуть ноги в коленях.
– И все равно я не смогу сесть на корточки.
– В рейтузах это не получится, – сказал Хукам Сингх.
– Надо отливать стоя, что ли? – вытаращились рекруты.
– Поначалу это трудно. Ничего, привыкнете.
Из ранца появилась следующая деталь экипировки – манишка с завязками, похожими на те, которыми крепились дхоти. Следом ярко полыхнула алая тужурка.
– Это курти, – пояснил Хукам Сингх, помогая Кесри попасть в рукава. – У англичан точно такой же красный мундир, который они прозвали “обдергайкой”.
Когда полы тужурки стянули кожаной шнуровкой, Кесри почувствовал, как стало трудно дышать. Опустив взгляд, на груди он увидел три поперечные нашивки и два продольных ряда сияющих пуговиц.
– Они золотые? – спросил Кесри.
– Нет, медные, но все равно дорогие. Потеряешь пуговицу, из жалованья вычтут восемь ана.
Восемь ана! Выходит, пуговицы дороже любой одежки из гардероба Кесри. Однако цена их не казалось чрезмерной – будь они даже из чистого золота, вряд ли сияли бы ярче и красивее.
Горловина тужурки застегивалась еще одной шнуровкой, но, прежде чем ее затянуть, Хукам Сингх надел на Кесри шейный платок, яркостью не уступавший жесткому стоячему воротнику с золотистым галуном.
– Платок тоже казенный, офицеры требуют, чтоб мы его носили. Потеряешь – лишишься двухнедельного жалованья.
Застегнутый воротник ощущался ярмом. А с кушаком камар-бандх, затянутым на поясе, Кесри и вовсе почувствовал себя курицей, обвязанной для готовки. Он с трудом поворачивал голову, а воротник, подпиравший подбородок, мешал говорить. Да как же воевать-то в этакой упаковке?
Вскинув голову, Хукам Сингх продемонстрировал стойку по команде “смирно”.
– В форме ты должен выглядеть браво: взгляд в небо, грудь колесом.
Приосанившись, Кесри покосился на свои плечи, украшенные желтыми крылышками, и вдруг почувствовал себя небывалым орлом-молодцом.
Вот только на голове его красовалась всегдашняя бандана, укрывавшая скрученные жгутом волосы. Хукам Сингх ее сдернул, и волосы рассыпались по плечам.
– Придется остричься. Офицеры не позволят прятать космы под кивером.
Из отдельного мешка он достал обтянутую черной блестящей тканью продолговатую шапку высотою в два фута.
Под ее весом подбородок ушел в воротник, и Кесри чуть не задохнулся. Казалось, голова придавлена грудой камней.
Хукам Сингх рассмеялся, видя растерянность новобранца. Он снял с него кивер и показал медный каркас под тканевой обшивкой:
– Носить тяжело, но в бою скажешь спасибо. Он защитит твою голову.
По очереди примерив кивер, рекруты не проронили ни слова: тяжеленная штуковина наглядно уведомила, насколько их новая жизнь будет отлична от прежней.
Близилась годовщина смерти учительницы английского, и Ширин все больше нервничала из-за условленной встречи с Задигом Карабедьяном. Оглядываясь назад, она не могла понять, почему так легко согласилась свидеться с ним, не имея ни малейшего представления о его целях.
Прежде ей бы и в голову не пришло встречаться с незнакомым, по сути, человеком, ничего о ней не знающим. Если родные, в том числе дочери, проведают о тайном свидании, не избежать долгих неприятных разговоров. Однако она помнила, как тепло отзывался муж о своем старинном друге, и его появление казалось весточкой, посланной Бахрамом из могилы.
Церковь Богоматери Славы отстояла от дома Мистри недалеко, но пеший визит туда, хоть и в сопровождении слуг, вызвал бы пересуды, и потому Ширин попросила у братьев коляску. В день встречи она себя похвалила за это, ибо с утра небо набрякло тяжелыми тучами.
Дождь полил, едва коляска подъехала к церковным воротам. К счастью, грумы были к тому готовы, и под зонтиком один проводил Ширин до дверей храма. Оставив слугу дожидаться в крытой галерее, она купила свечи и вошла в церковь. Внутри было сумрачно: в непогоду высокие окна закрывали ставнями, и свет исходил лишь от редких мигающих ламп.
Лицо Ширин было скрыто ажурной шалью, которую она всякий раз надевала, выходя из дома. Сквозь дырочки накидки Ширин разглядела высокую фигуру на скамье в центре храма. Придерживая зубами вуаль, она медленно двинулась по проходу и, поравнявшись с тем человеком, на секунду остановилась, удостоверяясь, что перед ней Задиг-бей. Чтобы и он ее узнал, Ширин отвесила легкий поклон и показала на дальний угол за колонной. Задиг кивнул, и она прошла к алтарю.
У нее дрожали руки, но она, приказав себе успокоиться, зажгла и поставила свечи. Затем медленно двинулась туда, где в тени угадывались контуры рослой фигуры. Усевшись на почтительном расстоянии от нее, сквозь накидку Ширин прошептала:
– Здравствуйте, господин Карабедьян.
– Доброго утра, биби-джи.
Барабанивший по крыше дождь был очень кстати – мешал подслушать их разговор.
– Говорите, Задиг-бей, времени мало, – все так же шепотом сказала Ширин. – На улице меня ждет коляска. Если нас с вами застанут, разразится скандал. Зачем вы хотели меня видеть?
– Да-да… сейчас… – как-то неуверенно откликнулся Задиг, но потом и вовсе смолк. Пришлось снова его подтолкнуть:
– Ну? В чем дело?
– Простите, биби-джи, – промямлил он. – Трудно говорить об очень личном, особенно когда…
– Что?
– Когда не знаешь, с кем говоришь.
– То есть? – удивилась Ширин. – Я вас не понимаю.
– Я видел ваш портрет в кантонской квартире Бахрам-бхая, но вряд ли узнал бы вас, если б встретил на улице. Есть вещи, о которых нелегко говорить с тем, кому никогда не смотрел в глаза.
Ширин почувствовала, как кровь бросилась в лицо. Завозившись с накидкой, она живо вспомнила иное время, когда открыла свое лицо незнакомцу. Это было в день ее свадьбы: она сидела во главе стола и была охвачена таким смущением, что не могла поднять головы, как будто придавленной безмерным грузом. Как ни старалась, не было сил взглянуть на мужчину, с которым предстояло провести всю жизнь. В конце концов за дело взялась мать и запрокинула ей голову. Много лет спустя то же самое Ширин проделала со своими дочерьми. И сейчас она вновь ощутила себя девушкой, впервые открывающей лицо перед мужчиной.
В этом чувстве было что-то непристойное, и она поспешила его изгнать. Ширин подняла накидку и увидела, как удивленно округлились глаза Задига. Потом она отвернулась, а собеседник ее изумленно воскликнул:
– Йа салам!
– В чем дело, Задиг-бей?
– Простите, пожалуйста, я не ожидал…
– Чего?
– Что вы так молодо выглядите…
Ширин напряглась.
– И что?
Задиг кашлянул в кулак.
– Портрет, что я видел у Бахрам-бхая, не передает вашей красоты.
Ширин взглянула испуганно и опустила накидку.
– Не надо, Задиг-бей.
– Виноват. Мааф киджие, прошу прощенья.
– Ничего. Однако поспешите объяснить, почему вы просили о встрече с глазу на глаз.
– Да-да, конечно. – Словно в нерешительности, Задиг сложил руки на коленях и откашлялся. – Не знаю, правильно ли я поступаю… такое поведать нелегко…
– Не тяните!
– Помните, давеча вы сказали, что Бахрам-бхай не оставил сына, который занял бы его место?
– Да, помню.
– Я подумал, вам следует кое-что узнать, и потому попросил о встрече.
– Говорите.
Задиг звучно сглотнул, от чего скакнул кадык на его тощей морщинистой шее.
– Видите ли, биби-джи, дело в том, у Бахрам-бхая есть сын.
Слова эти не вызвали отклика – Ширин подумала, что ослышалась из-за громко барабанившего дождя.
– Простите, я не разобрала, что вы сказали.
Задиг поерзал на скамье.
– Это правда, биби-джи. Бахрам-бхай породил мальчика.
Ширин помотала головой и, путаясь в словах, затараторила:
– Да нет, вы не в курсе… это просто невозможно, уж поверьте… мы были у лекаря, который в том разбирается… он прославленный знахарь… и сказал, что только после длительного лечения муж сможет зачать сына… – Она осеклась и смолкла.
– Простите, биби-джи, но я бы промолчал, если бы не знал наверняка, – очень мягко сказал Задиг. – Сын Бахрам-бхая уже юноша. За эти годы он многое пережил. И это одна из причин, почему я решил вас известить.
– Это неправда! Этого не может быть!
Ширин просунула руки под накидку и зажала уши. Казалось, осквернен не только ее слух, но вся она замарана своим согласием встретиться с человеком, который, не колеблясь, произносит непристойности в Господнем доме. Ширин испугалась, что от соседства с ним ее стошнит. Она с трудом поднялась и, совладав с голосом, проговорила:
– Я сожалею о нашей встрече. Вы лжец, грязный, позорный лжец. Вам должно быть стыдно за вашу клевету на того, кто считал вас другом.
Задиг ничего не ответил – понурившись, он замер на скамье. Ширин шагнула к проходу, и тогда ее нагнал его шепот:
– Не верите мне, спросите Вико. Он все знает. И расскажет вам.
– Нам больше не о чем говорить, – отрезала Ширин. Она вдруг подумала, что этот человек может увязаться за ней, их увидят грумы, и тогда родным станет известно о тайной встрече. – Если в вас осталась хоть капля чести, вы не тронетесь с места, пока я не уеду.
– Хорошо, биби-джи.
Ширин облегченно вздохнула и центральным нефом поспешила к выходу.
30 сентября 1839
Хонам
Уже приняв предложение Чжун Лоу-сы, я задумался о бытовых вопросах: где жить и чем питаться? Чрезвычайно нудная служба у мистера Кулиджа хотя бы обеспечивала кровом и столом. А что теперь?
Я решил переговорить с Аша-диди, хозяйкой единственной в Кантоне индийской харчевни. Эта женщина, которую здесь называют А-Цзе, может справиться с любой проблемой. Выходец из калькуттской китайской общины, в Кантоне она имеет многочисленные знакомства, ибо отсюда родом ее семья. Муж ее Бабурао (я пытался взять в обычай называть супругов их китайскими именами, но безуспешно, поскольку со мной они говорят на бенгали) тоже располагает обширными связями среди лодочного люда. Уж они-то, подумал я, знают, где можно снять комнату. И я не ошибся: стоило обмолвиться о моем затруднении, как Аша-диди сказала, что свободная комната имеется в доме-лодке, где обитают они с Бабурао, а также их дети и внуки. Лодка причалена на другом берегу реки возле острова Хонам. Аша-диди предупредила, что жилье, использовавшееся как чулан, потребует уборки. Ничего страшного, ответил я.
Но оказалось, что комната служила кладовкой и птичником одновременно. Я был абсолютно не готов к бурану из перьев и куриного помета, взметнувшемуся, едва открыли дверь. Когда пурга эта улеглась, я разглядел кур, унасестившихся на веслах, штабелях досок и реек, на румпелях, коромыслах и свернутых в бухты канатах. “Как же тут жить? – подумал я. – Нет даже кровати”.
Увидев мое лицо, Аша-диди рассмеялась.
– Бхой пейо на, не тревожьтесь, – сказала она. Всякий раз меня охватывает удивление, когда эта худенькая, подвижная женщина, в повадках и одежде неотличимая от прочих кантонских лодочниц, обращается ко мне на бенгали, да еще с калькуттским выговором. Хотя чему тут удивляться, если в Калькутте она жила через несколько улиц от меня.
Но кое в чем Аша-диди истинная китаянка – зря не тратит времени и слов: показав мне комнату, тотчас отдала распоряжения по ее уборке и меблировке. Птичница, спутав курам лапы, унесла их прочь, словно связки квохчущих кокосов. Затем с полдюжины сыновей, внуков и невесток хозяйки отдраили пол от перьев и помета. Следом появилась мебель: стулья, табуретки и даже чарпая, проделавшая долгий путь из Калькутты в Кантон.
Покончив с обстановкой, Аша-диди прошла к двери в конце комнаты, которая вела, как оказалось, в небольшую пристройку.
– Тут маленькая баранда. Идите, гляньте.
На “веранду”, заваленную подгнившим брусом и канатами, я вышел опасливо, готовый к неприятному сюрпризу в виде гусей или уток. Но меня накрыло, точно приливной волной, восторгом от возникшей панорамы города.
День стоял ясный, и видно было до самого холма Ву, высившегося над Гуанчжоу, я смог разглядеть даже огромное сооружение на его вершине – Чжэнхай Лоу, башню Умиротворение моря. На переднем плане противоположного берега я увидел иноземный анклав, водное пространство перед которым было запружено судами всевозможных форм и размеров: над лодками лавочников и извозчиков высились торговые джонки из Шаньтоу, туда-сюда шныряли обтекаемые кораклы (вот в таком я ежедневно пересекаю реку, оплачивая проезд мелкой монеткой).
О чем еще мечтать – выйди на веранду и любуйся нескончаемой суетой!
Когда на город опускается вечер, река озаряется огнями. Сияя фонарями, мимо моей веранды проплывают знаменитые “цветочные лодки”, оставляя искристый след из мелодий и смеха. На некоторых лодках павильоны без боковых стенок, и ты видишь женщин, услаждающих клиентов музыкой и пением. Наблюдая за ними, я понял смысл фразы “В Кантон юноши приезжают себе на погибель”.
Расположение моего жилища просто превосходно: лодка причалена к острову Хонам, где несравнимо тише, нежели на густо застроенном северном берегу с раскинувшимся на нем Гуанчжоу. Контраст поразительный: там невиданная теснота и скученность зданий, а здесь леса да поля, деревушки, монастыри и большие поместья. Вокруг тишина и покой, но до печатни Комптона добраться легко.
Сама лодка-дом – неизменный источник развлечений. Порой ко мне заглядывают сыновья Аша-диди, и разговор наш частенько идет о Калькутте. Когда семья вернулась в Китай, они были совсем маленькие, но все же сохранили кое-какие воспоминания о городе. Интересно, что все знают хоть несколько слов на бенгали и хиндустани и любят пан-масалу. Малыши, внуки Бабурао и Аша-диди, тоже расспрашивают о Калькутте и Бенгалии. Крепость их связи с Индией удивительна, и причина, я думаю, в том, что прадед и прабабка малышей похоронены на китайском кладбище на берегу Хугли. Наверное, так и возникают узы, хотя это трудно понять человеку вроде меня, прах предков которого всегда развеивали над Гангом.
Старшая дочь, которую все зовут А-Маа, дольше других детей Аша-диди прожила в Калькутте. Она года на два старше меня и никогда не была замужем. Очень худа и не по возрасту морщиниста. Подобно всем айбуро, незамужним тетушкам, она присматривает за детьми и берет на себя хлопоты по ведению хозяйства. Ни секунды не сидит на месте, однако всегда окутана этакой легкой грустью. Из всего семейства она одна как будто была недовольна моим появлением. Со мной не разговаривает и даже не смотрит на меня, но прячет лицо, как поступают бенгальские женщины при чужом человеке. Мне это кажется странным, поскольку представительницы здешней лодочной общины не соблюдают пурду, не бинтуют ноги и не придерживаются ограничений, распространенных среди китаянок. И потом, А-Маа не выказывает стыдливости перед другими посторонними.
У меня такое ощущение, что моя персона разбередила в ней какую-то старую рану. Однако ей не удается, по примеру вековух, видеть во мне пустое место. Иногда принесет и молча сунет какое-нибудь блюдо с кухни Аша-диди. Я догадывался, что чем-то ее растревожил, но только не понимал чем.
И вот два дня назад она сбивчиво заговорила со мной на бенгали, словно выковыривая камушки из тины своей памяти. Ее “калькуттское имя”, сказала она, Митху. И затем поведала свою историю: девушкой влюбилась в соседского парня-индуса, но обе семьи были против их союза. Ее родители прочили ей в мужья кого-то из местной китайской общины, но она, упрямица, отказала кандидату.
Шли годы, и потом уже стало поздно думать о замужестве.
В ночь перед прибытием на место новобранцы долго не могли уснуть. Теперь все они, подростки-одногодки, раньше никогда не покидавшие родительский кров, крепко сдружились.
Некоторые ребята из глухих деревенек повидали в жизни еще меньше Кесри. Самый неотесанный, нескладный паренек по имени Ситул в компании рекрутов считался шутом.
В ту ночь говорили о том, что их ждет и каково служить под началом английских офицеров. Больше других это беспокоило Ситула. Надысь, сказал он, один его родич наведался в город, где много англов, и, вернувшись, поделился таким секретом, что вслух не произнесть.
– Да что за секрет-то?
– Слово, что никому не скажете?
Получив клятву, Ситул поведал об открытии родича: женщины белых саибов – феи, у каждой имеется пара крыльев.
Слушатели недоверчиво фыркнули, и тогда рассказчик привел доказательство, которое его родич видел собственными глазами. Саиб с дамой ехали в экипаже; мало того, что дама была во всем белом под цвет волшебных крыльев, так еще у всех на глазах саиб обнимал ее за плечи, чтоб не улетела. Никаких сомнений, это была пари, фея.
Над деревенской доверчивостью Ситула посмеялись, но вообще-то все побаивались предстоящей встречи с белыми саибами, о которых в деревнях чего только не говорили.
Однако по прибытии в Барракпор это опасение поблекло перед необычностью всего остального. Судно еще даже не причалило, когда взору открылось невиданное здание – дворец с окнами на реку, с павлинами на крыше и огромным палисадником, полным удивительно ярких цветов.
Оторопь новобранцев позабавила Хукам Сингха. По выходным, сказал он, здесь отдыхает английский генерал-губернатор, но это просто домишко по сравнению с его чертогом в Калькутте.
Высадившись на берег, рекруты терялись, куда смотреть, ибо все было внове. Минуя высокий забор, они услышали звуки, от которых стыла кровь, – рев тигров, рык львов и леопардов. В деревнях такое слышалось лишь в отдалении, а здесь готовые напасть хищники были совсем рядом. Рекруты не кинулись наутек только потому, что не знали, в какую сторону бежать.
Хукам Сингх обозвал их набитыми дураками, посмеявшись над их испугом перед домашним зверинцем, где все твари сидят в клетках.
Следующей новинкой, от которой захватило дух, стал военный городок. Куда ни глянь, повсюду будки, шатры, невысокие дощатые постройки, а посредине большой плац, на котором марширует уйма солдат. И везде белые саибы в форме удивительных оттенков – муштруют сипаев или просто слоняются без дела. Однако самая-то невидаль, заставлявшая изумленно разинуть рот, – отсутствие у саибов бороды и усов, у всех лица гладкие, безволосые, точно у мальчиков или женщин.
Наконец добрались до пустой палатки, где новобранцам приказали ждать.
И вот тогда Ситул куда-то сгинул. Рекруты, оживленно обсуждавшие увиденное, сперва даже не заметили его исчезновения, но потом их внимание привлекли визг и вопли, доносившиеся снаружи. Выскочив из палатки, они увидели своего товарища, которого караульный волоком водворял на место.
Оказалось, у Ситула прихватило живот и он надумал облегчиться. Не знакомый с местностью, он, по деревенской привычке, цапнул флягу с водой и стал высматривать укромный уголок. Углядев подходящий проем в зарослях кустов, он, зорко озираясь, нет ли прохожих, вздернул дхоти, присел на корточки и, тужась, пустил ветры.
К несчастью, эти заросли были живой изгородью, окаймлявшей сад полковника. Что еще хуже, своим действом Ситул нарушил пикник полковых дам.
Вину за инцидент возложили на Хукам Сингха, не удосужившегося показать рекрутам нужник. Позже он от души взыщет с Ситула за его промах, а сейчас, исполняя приказ караульного, всю группу повел прямиком в пакхану, от вида которой новобранцы засомневались, что когда-нибудь захотят справить нужду.
Над длинными канавами высились помосты с дырами, где на корточках сидели рядком солдаты, точно вороны на веревке. Одуряющая вонь и ритмичные шлепки, доносившиеся из канав, неустанно напоминали о том, что грозит седоку, потерявшему равновесие.
Дома новобранцы нередко испражнялись на свежем воздухе, подставив лица ветерку, и, бывало, на такие посиделки отправлялись вдвоем или втроем, чтобы в случае чего защитить друг друга, но всегда находили какой-нибудь кустик, обеспечивающий уединение.
Рекруты поежились, представив себя в этакой шеренге, но через день-другой обвыклись и быстро усвоили неписаные правила: в утреннем аншлаге определенные места зарезервированы за старшими чинами, а молодежь допускается последней.
На третий день карантина новобранцев навестил сам Бхиро Сингх. Ребята впервые увидели хавильдара в военной форме; кивер делал его выше ростом, эполеты – плечистее, и вообще теперь он казался вдвое крупнее.
Бхиро Сингх отвел их к строению, похожему на контору, и, велев ожидать на веранде, скрылся внутри. Вскоре он вышел и взбеленился, увидев, что новобранцы уселись в теньке. Хавильдар устроил им взбучку, посулив порку, если подобное повторится, – сипай никогда не сядет, не получив на то приказа.
Перепуганные парни вскочили на ноги и замерли по стойке смирно.
Через минуту появился английский офицер с длинной палкой в руке. Ребята еще больше струхнули, решив, что грядет наказание за их провинность. Но палка оказалась мерной рейкой – офицер прошел вдоль строя, удостоверяясь, что все рекруты ростом выше метки.
Кесри не мог оторвать взгляда от гладкого безбородого лица англичанина. Сам-то он холил свои усы, едва они начали пробиваться, и ему казалось невероятным, что кто-то добровольно откажется от такого достояния. Когда настала его очередь пройти измерение, он, вглядевшись, понял, что английская безволосость – отнюдь не природный изъян, но осознанный выбор: щетина на щеках офицера отчетливо свидетельствовала о регулярном бритье.
Покончив с измерением, англичанин сел за стол и, взяв перо, стал писать. Как и другие новобранцы, Кесри был грамотен – умел читать и писал на нагари[34], только медленно и неуверенно. Офицерское же перо так летало, что глаз не успевал за ним следить.
Потом англичанин передал бумагу Бхиро Сингху, и тот повел новобранцев к другому зданию. Кесри, оказавшегося во главе строя, вызвали первым – хавильдар знаком приказал ему следовать за ним, а другим оставаться на месте. Они вошли в комнату, где едко пахло лекарствами. Едва Кесри перешагнул порог, как хавильдар отступил в коридор и затворил дверь, оставив своего подопечного наедине с лекарем-англичанином и двумя женщинами во всем белом.
Лекарь заговорил на хиндустани, приказав новобранцу раздеться – снять не только джаму, но и дхоти с ланготой.
Поначалу Кесри решил, что ослышался. Он не мог и представить, что кому-то взбредет в голову просить его раздеться догола перед посторонними, двое из которых – женщины! Однако лекарь повторил приказ громче и требовательнее, а одна женщина еще и прикрикнула: мол, пошевеливайся.
Кесри вдруг вспомнил остережение отца: кто свяжется с этакой армией, потеряет дхарму. Теперь он осознал истинность этих слов, и его затопило раскаянием, что ослушался родителя.
Мысль об отце промелькнула молнией, а меж тем лекарь шагнул вперед, как будто намереваясь сорвать одежду с неслуха. Решение созрело мгновенно. Кесри метнулся к выходу, распахнул дверь и, проскочив мимо хавильдара с рекрутами, устремился к лагерному базару.
Если затеряюсь в толпе, думал он, удастся сбежать. А там будь что будет! Если что – вернусь домой.
Так быстро он еще не бегал. За спиной слышался голос Бхиро Сингха, но куда там хавильдару его догнать!
Кесри почти достиг цели, когда перед ним возник Хукам Сингх с двумя сипаями. Беглец заметил их слишком поздно, его схватили и пригвоздили к земле. В ушах гудела кровь, однако он расслышал тяжелую поступь хавильдара.
– Харамзада! Бахенчод! – Бхиро Сингх, отдуваясь, сыпал бранью. – Вздумал смыться, ублюдок? Не я ли тебя, мерзавца, ссудил деньгами, да еще целый месяц кормил? А ты, пиздюк, решил, что меня можно обокрасть и дать деру?
Одна ручища хавильдара схватила Кесри за шкирку и вздернула на ноги, а другая сорвала с него дхоти и ланготу.
Собралась толпа. Бхиро Сингх крепко держал извивавшуюся голую жертву, поворачивая ее то задом, то передом к зевакам.
– Вот, гляньте, чего этот недоносок удумал скрыть! – Он швырнул Кесри на землю, ударил ногой и харкнул на него. – Ты же ничем не лучше сбежавшей дворняги. И не мечтай, что сможешь меня облапошить, как своего отца. Помощь не придет, и податься тебе некуда. Запомни накрепко: здесь твоя тюрьма, а я твой стражник.
Перед Кесри, прикрывшимся сорванной одеждой, забрезжила горькая истина этих слов: помощи ждать неоткуда, он стал изгоем и узником. Лишь теперь он осознал, что, сбежав из дома, распрощался не только с семьей и родиной, но и с собою прежним, у кого были четкие понятия о достоинстве, самоуважении и морали.
Важность этого открытия ничуть не померкла, когда он узнал, что и других новобранцев унтер-офицеры унижают так же, а то и хуже. Кесри сделал вывод: всякий солдат воюет на два фронта – против внешних и внутренних врагов. С первыми сражается ружьем, саблей и мускульной силой, а со вторыми – хитростью, терпением и обманом.
Последующие месяцы муштры прошли как в тумане, из которого проглядывали вехи побоев, угроз и недосыпа. Много раз представлялась возможность сбежать, но Кесри хорошо усвоил, что идти ему некуда и просить о помощи некого. Наконец настал день, когда на плацу были зачитаны первые четыре пункта воинского устава касательно дезертирства, и перед полковым знаменем новобранцы приняли присягу. Отныне жизнь их стала чуточку легче, ибо теперь они считались полноценными солдатами, хотя впереди их ждал еще месяц испытательного срока без жалованья и довольствия.
Именно в то время безденежья, когда новоиспеченные сипаи перебивались на две аны в день, в память о перенесенном унижении Кесри получил еще один урок, уже гораздо слаще, – он узнал, что в руинах поражения можно отыскать нежданную награду.
Однажды он проходил мимо лагерных “красных бараков” и его окликнул женский голос:
– Эй! Эй ты!
Голос исходил из ветхого строения, известного как лал котха, “красный дом”. Кесри подошел ближе, и верхнее приоткрытое окно распахнулось чуть шире, явив размалеванную девицу. Она улыбнулась и поманила – мол, заходи.
Узкой лестницей Кесри взошел наверх и увидел, что девушка ждет его на площадке.
– Как тебя зовут?
– Кесри Сингх. А тебя?
– Гулаби. Это ты тогда пытался сбежать от хавильдара Бхиро Сингха?