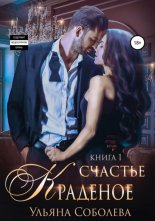1794 Натт-о-Даг Никлас
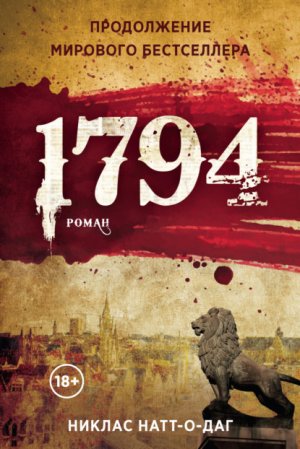
Мысль оказалась настолько самоочевидной, что мы оба удивились: как не пришло в голову раньше? На следующий же день приехала телега с Ярриком на козлах. Мы быстро погрузили мой сундучок, я сунул в потную руку Алекса Дэвиса деньги и без малейшего сожаления покинул Густавию.
Трудно отыскать что-то особо привлекательное в Куль-де-Сак, но новое место показалось мне куда милее города. Особенно хороши были тихие ночи, пропитанные щедрым ароматом франжипани. Очень скоро я оценил и принятый хозяином распорядок дня. Огромные преимущества. В середине дня, когда жара становилась невыносимой, мы старались спать, а по ночам беседовали, наслаждаясь легким бризом с океана. И все же, все же… как ни старался Сетон, все равно я не мог видеть в нем равного: он представлял пока еще непонятный мир взрослых. А мне очень не хватало ровесника, и, само собой, мысли все чаще возвращались к Линнее Шарлотте. К Нее, как я ее мысленно называл. Тоскуя, я писал ей длинные письма, изо всех сил стараясь найти подходящие слова для выражения чувств.
Моя неуемная влюбленность и послужила причиной одного из немногих эпизодов, поколебавших мир и покой в Куль-де-Сак. Кто знает, вполне может быть: Яррик сделал попытку сойтись поближе и начал расспрашивать – как всегда, на своем чудовищном гортанном французском. От него не могло укрыться, как я часами брожу по двору, вздыхаю, возвожу глаза к небу или подолгу, не шевелясь, смотрю на васильковую гладь океана.
– C’est l’amour?
Читать на французском мне куда легче, чем говорить. Запинаясь и подбирая слова, я постарался описать предмет моей любви, и вдруг с неукротимым, как позыв на рвоту, отвращением заметил, что он поправляет брюки, оттопырившиеся в паху наподобие палатки.
Яррик, словно извиняясь, улыбнулся, показав испорченные зубы, а для меня мир погас. Я потерял зрение. Мир погас, его заслонила кроваво-красная пелена. Точно так, как после разговора с отцом или на корабле, когда я застал Юхана Акселя за чтением моих писем.
Очнулся я в плотных объятиях Яррика. На лице его вспухали алые следы моих ногтей, а правый глаз почти закрылся.
А из меня словно выпустили воздух. Я обмяк и даже не вырывался, хотя он держал меня довольно долго – желал, видимо, удостовериться, что я окончательно пришел в себя. Потом, явно борясь с собой, посадил на пол и быстро отошел – боялся, что я снова на него наброшусь. Только сейчас я заметил Сетона, который наблюдал за этой сценой с веранды с примерзшей трубкой в зубах. Он помахал Яррику – тебе лучше уйти – и жестом подозвал меня.
– Что это было, Эрик?
Я потупился и невероятным усилием удержал слезы стыда и раскаяния.
– Такое бывало и раньше, да? – спросил Тихо Сетон, и в голосе его прозвучала тревога. – И потом вы ничего не помните?
Я кивнул и начал объяснять, как и что. И чем дальше он меня исповедовал, тем проще было рассказывать. Это было огромным облегчением – высказаться. Я и сам понимал: любовь к Линнее затрагивает какие-то темные струны в моей душе. Хотя объяснить, почему так происходит, мне не по силам.
Я говорил и говорил. Сетон слушал, не перебивая и не задавая вопросов, и когда я закончил, долго сидел в задумчивости, молча попыхивая трубкой.
– Все очень просто… – Он перешел на «ты»: – Ты не цельный человек, и странно было бы ожидать, что будешь вести себя как таковой. Ты не цельный человек, ты отдал сердце любимой женщине.
– И что мне делать?
Он выбил трубку, отложил в сторону и внимательно посмотрел на меня, сложив руки в замок.
– Если ты мне доверишься, я сделаю все, чтобы найти решение. А пока… поскольку ты потерял и отца, и брата, я хочу быть для тебя и тем и другим. Наполовину отцом, наполовину братом. А взамен попрошу только об одном: терпение и еще раз терпение.
И если я не мог подыскать слова, которые бы в достаточной степени соответствовали степени моей благодарности, то только потому, что впервые за все время на этом Богом забытом острове почувствовал себя счастливым.
В ближайшие дни я заметил растущее беспокойство моего благодетеля. Он часто подолгу стоял и смотрел то на дорогу, то вглядывался в океанский простор – даже неопытному наблюдателю ясно: ожидает каких-то известий. Он наверняка не хотел затруднять меня своими заботами, но в конце концов все же поделился.
– Шильдт… Он должен был писать мне регулярно, но… Я прошу прощения, что не поделился раньше. Его предыдущее письмо было достаточно конфиденциальным, но, я думаю, тебе стоит его прочитать.
Я не без испуга принял листок. Письмо еще короче, чем обычно, и его содержание можно было передать двумя словами: предупреждение об опасности.
– Именно эти слова… мы договорились: он напишет именно так, если появится реальная опасность оказаться в руках врага. Мы не знаем, что произошло, может быть, все не так плохо, но мы не можем брать на себя такой риск. Нам надо исчезнуть. У них есть приемы, они могут заставить заговорить кого угодно. Оставаться в Куль-де-Сак небезопасно.
Он быстро снабдил меня инструкциями, и уже через полчаса я скакал на коне Яррика в Густавию. Мне надо было оставить у Дэвиса письмо Юхану Акселю – если кузен все же объявится на Бартелеми и увидит, что Куль-де-Сак пуст, первым делом осведомится у Дэвиса, не оставил ли я ему каких-либо известий. Дорога была слишком длинной, чтобы успеть за световой день доехать туда и обратно, поэтому я заночевал у Дэвиса и вернулся только на следующий день к полудню. Выехав на вершину холма, я оцепенел от ужаса: над усадьбой поднимался густой столб дыма.
Я что есть сил пришпорил коня, опасаясь худшего.
Но, оказывается, горели пустые бараки. Я въехал во двор и увидел Яррика с мокрым веником в руке. Он хлестал им по тлеющей траве, а в другой руке у него была кувалда, и как только выдавалась свободная секунда, он разбивал в пыль прилетающие то и дело головешки. В воздухе летали миллионы мучнистых мотыльков пепла. Сетон стоял поодаль со скрещенными на груди руками.
– Черт с ними… – Он постарался перекричать рев пожара. – Наверняка будущий владелец будет недоволен. Что ж, переживу. По крайней мере там никогда не будут держать в плену тех, кто рожден свободным. Пакуй свой сундук.
– И куда мы двинемся?
Он жестом подозвал меня, взял под руку и отвел подальше, где было не так дымно.
– Я много думал над твоим рассказом, Эрик. У меня есть предложение. Ты еще не совершеннолетний, но твой опекун может решать за тебя с тем же правом, что и почивший отец. Скажем, благословить твой брак.
От этих слов сердце перевернулось у меня в груди, но я тут же приуныл.
– У меня нет никакого опекуна.
– Если окажешь мне такую честь…
Я бросился Сетону на грудь.
– Тогда в Швецию! – воскликнул он весело. – К Линнее Шарлотте!
У меня голова шла кругом от счастья, я словно забыл, какой жестокий и холодный мир нас окружает. От счастья и от стыда. Я ничем не заслужил такую щедрость.
– Почему… почему вы делаете это для меня? Вы же многим жертвуете…
Мне показалось, он неправильно понял мой вопрос. Наверное, посчитал, что я его в чем-то подозреваю. В каких-то корыстных замыслах. Лицо его сделалось печальным, мне даже почудилось виноватое выражение. Он даже покраснел.
– Мне бы очень хотелось, чтобы предложение мое было совершенно бескорыстно, – сказал Сетон смущенно. – Признаюсь, мое стремление тебе помочь отчасти продиктовано стремлением помочь самому себе. Я состою в одном известном ордене… короче, не могу сказать, что расстался с моими братьями по ложе в мире и согласии. Мало того, пришлось покинуть страну. Но ты для ордена – большое приобретение. И если я вернусь с тобой и представлю, как будущего члена нашей ложи, думаю, сердца их смягчатся.
Я собрался было ответить в том же возвышенном духе, но случайно заглянул через его плечо и ахнул. Прекрасные франжипани срезаны, все кустики до одного лежали на земле, уже увядшие и побуревшие от жары. На их месте осталась довольно глубокая канава – видно, очень старались не оставить ни одного корешка, способного возродиться к новой жизни.
Сетон проследил мой взгляд и покачал головой.
– Неужели ты думал, что я оставлю своих любимцев? Чтобы они радовали какого-нибудь мерзавца рабовладельца, который купит Куль-де-Сак?
18
Бартелеми даже не замечал наших приготовлений. Колония процветала, и на Куль-де-Сак покупатель нашелся очень быстро. Мысль, что Юхан Аксель в плену, не давала мне покоя, но Сетон старался меня успокоить.
– Твой кузен очень умен, Эрик. Куда умнее нас двоих, вместе взятых. Оставь еще одну записку Дэвису. Нет… не просто записку. Приглашение на свадьбу! Повезет – будет твоим шафером на свадьбе.
Все было готово. В пасмурное, что большая редкость для Бартелеми… в то пасмурное утро мы стояли на берегу у трапа. Матросы на шхуне уже начали выбирать якоря. Казалось, уже ничто не связывает меня с островом… удивительно. Никого, ни единого человека, с кем мне захотелось бы сердечно попрощаться.
Я уже собрался взойти по трапу, как увидел Сэмюэля Фальберга.
– Значит, юный Эрик нас покидает.
– Да… вам-то я точно желаю удачи.
Фальберг и в самом деле был мне чем-то симпатичен. Как я про него забыл?
– Кстати… вы же натуралист, доктор Фальберг. – Я сунул руку в карман и, смущаясь, показал ему мои находки. – Может быть, вам известно, что это за камушки?
Он не сделал даже попытки взять их и рассмотреть.
– Да… – кивнул он, криво усмехнувшись. – Известно. Но я вовсе не уверен, что вы и в самом деле хотите узнать их происхождение. Вы же наверняка руссоист и разделяете его представление о bon sauvage[16].
Я не стал возражать, потому что не понял, о чем он говорит, но все же попросил объясниться.
Фальберг пожал плечами: что ж, как угодно.
– Я провел много лет на Бартелеми. Тоже, как и вы, увлекался поиском необычных артефактов. То, что вы мне показываете, – находка весьма частая, особенно на прибрежной полосе в Каренаген. Я показал эти… предметы старикам на одном из соседних островов, и они нимало не удивились. – Фальберг сделал паузу и печально вздохнул. – Много… очень много лет назад на острове жило племя, которое называло себя аруаки. В один прекрасный день к острову прибыло на своих каноэ другое племя. После долгого плавания они были чрезвычайно голодны. Согнали аруаков, мужчин и юношей, на берег и… и утолили голод. Кромсали их тела, разводили в ямах костры, жарили и ели. Жарили и ели… пока не наелись. Девочек и девушек оставили на обратную дорогу. Их жарили в запас. Так что камушки, что вы собрали, – косточки несчастных аруаков. Позвонки, фаланги пальцев. А зазубрины… что ж зазубрины… следы зубов пришельцев. Обгрызали на совесть.
Я не знал, что сказать. Растерялся. Так и стоял с невинными камушками в протянутой ладони, пораженный их внезапно открывшейся мрачной тайной.
– Это еще что… – грустно произнес Фальберг. – Это bon sauvage, что с них взять… Вы же ни разу не были на сахарных плантациях, Эрик. Антильские острова – огромная человеческая бойня. И создали ее мы. Прибыль велика, а рабы так дешевы, что проще дать им умереть с голоду и купить новых. Прибывает новая партия, и им со всей сердечностью вручают лопаты, чтобы закопать товарищей по несчастью. Мужчины, женщины, дети… Полуразложившиеся тела, мягкий перегной. Весьма удобно, когда настанет черед хоронить следующую партию. И прекрасное удобрение для сахарного тростника.
Фальберг отвернулся, закрыл лицо руками и некоторое время молчал.
– А может, дикарь никогда и не был благородным? – без всякого выражения хрипло спросил он. – Мир стареет, но лучше не становится. Может, все наши успехи, то, что мы называем цивилизацией, – всего лишь способ довести злодейства предков до нового, невиданного уровня? Здесь, на островах, мы выращиваем тростник на плодородной почве, щедро удобренной человеческой плотью. А потом сыплем сахар в еду, еда становится слаще. Спаси нас Бог, Эрик… что вряд ли, конечно. Мы не заслужили спасения. Не милосерднее ли поплыть в Африку и сожрать несчастных негров на месте?
19
Плавание на Бартелеми показалось мне очень долгим из-за тоски по Линнее Шарлотте. Но нетерпеливое ожидание предстоящей встречи превратило обратный путь в истинную пытку. Пакетбот был точно такой же, как и тот, на котором мы плыли на остров. Или же настолько похож, что мне, даже тщательно обшаривая закоулки памяти, трудно припомнить какие-то детали, отличающие один корабль от другого. Сетон научил меня играть в карты. Мы часами лениво шлепали засаленными картами и беседовали. Его постоянный интерес к новому, его искренняя забота о моем счастье льстили мне и помогали скрасить невыносимо долго тянущиеся часы, дни и месяцы. Яррик был почти незаметен. Весьма странно. И трудно объяснимо, если учесть его внушительное телосложение и скромные размеры почтовой шхуны.
Кроме нас, пассажиров на шхуне не было, моряки держались особняком и старались не вступать с нами в разговоры. Сетон разрешил мне пользоваться его библиотекой. Я выбрал «Тысячу и одну ночь» в переводе Галланда и проводил довольно много времени с толстым французским фолиантом на коленях, подзаголовок которого не без труда перевел как «Злосчастье добродетели». Вполне возможно, автор имел в виду что-то другое.
Переход через Атлантику изрядно потрепал наш корабль, и пришлось задержаться в Саутгемптоне для ремонта парусов и починки такелажа. Моряки часами, изо дня в день сидели на палубе, плели канаты и штопали грязные выгоревшие полотнища. Будучи бессилен что-либо предпринять, я написал письмо Линнее Шарлотте. Конечно, замечательно было бы самому возвестить о своем прибытии, но время шло, а конца работ не видно. Поэтому я решил послать письмо заранее с неким купцом, отправлявшимся в Гётеборг. Я долго мучился, слова никак не складывались, и Сетон долго наблюдал, как у меня под столом растет ворох скомканных бумажек.
В конце концов я сдался и написал дрожащей рукой всего несколько слов: «Нея, я люблю тебя больше, чем когда-либо. Если ты согласна стать моей, прошу отца твоего о благословлении». Отдельное письмо отправил ее отцу с формальным предложением руки и сердца и просьбой о благословении.
Ответ и от отца, и от Линнеи пришел в почтовом мешке с гётеборгской таможни. Она выразила свое безусловное согласие куда более красиво и изысканно, чем я. Ответ Эскиля Коллинга был более сдержанным, но, если читать между строк, сразу понятно: он очень рад.
На этот раз странную улыбку Сетона невозможно было отнести на счет иных чувств: это была именно улыбка. Он был заметно растроган.
– Что ж, Эрик, готовим пышную свадьбу.
Из Гётеборга Сетон написал множество писем, предназначенных для более надежной сухопутной доставки, но уже через неделю наш пакетбот снялся с якоря, прошел Каттегат и взял курс на Стокгольм.
После бесконечного перехода через Атлантику и нескольких суток в карете я с волнением увидел на горизонте дом моего детства. Впервые за много поколений усадьбой никто не управлял. Никогда не думал, что мне придется стоять в отцовской библиотеке и смотреть на ворох бумаг, в которые отец за месяцы беспробудного пьянства даже не заглядывал. Долги надо оплатить, а что-то, наоборот, взыскать с должников. Если бы не Сетон, я утонул бы в этой чудовищной неразберихе. Он выказал самые отменные качества, которыми должен обладать ответственный опекун: сел за письменный стол, просмотрел счета, пометил приоритетные, разложил все в папки под тут же созданными рубриками, потянулся и сообщил, что ему нужно вернуться в Стокгольм. Во-первых, заказать все необходимое, без чего свадьба не заслуживает называться свадьбой, а во-вторых, передать в королевскую канцелярию просьбу дать разрешение на брак, невзирая на юный возраст брачующихся. Я в нерешительности топтался на месте. Куда делась решимость и радость, не покидавшая меня все время нашего долгого путешествия… Теперь, когда осталось сделать последний шаг, меня начали грызть сомнения.
Юный возраст брачующихся…
Сетон ловко взлетел в седло и несколько раз подергал поводья – проверить, насколько послушен любимый конь покойного брата.
– Предоставь мне все хлопоты, Эрик. Беги же к ней! Ты так ждал этой минуты!
Он дернул поводья. Конь приподнялся на дыбы и рванул с места так, что через несколько секунд скрылся из глаз.
И все же сначала я пошел в нашу церковь – попрощаться с отцом, который уже почти год лежал под серой каменной плитой. Провел пальцем по высеченным на камне буквам, помолился за спасение и счастливое воскресение его души и попросил прощения за все разочарования, которые доставил ему за годы, что мы провели под одной крышей. И последняя просьба: дать разрешение на мой брак, которому он при жизни старался всеми силами воспрепятствовать.
Стояло теплое, яркое лето, в церкви было довольно жарко. Я стоял на коленях на каменном полу, и меня почему-то бил озноб. Печаль по отцу – да, разумеется; но как отделаться от горьких воспоминаний? Внезапно пришло сознание – один. Совершенно один. Раньше я почему-то об этом не думал. И тут же возразил сам себе: нет, не один. А Линнея Шарлотта? Она будет моей! Можно ли желать большего?
С бьющимся сердцем шагнул я на знакомую тропу. Все время поглядывал на знакомые, даже будто и не выросшие липы и клены, чья тень принесла мне когда-то столько счастливых минут.
20
Мне не надо было вспоминать дорогу – ноги несли сами. И принесли не на хутор Коллинга, а на лужайку у лесного озера, где мы так часто встречались. Приходили ранним утром и смотрели, как скопа, растопырив острые, как трезубцы гладиаторов когти, ныряет за рыбой. А по вечерам дожидались прихода лося. Огромный зверь держался поодаль, но куда спрячешь такие роскошные рога? Когда лось удалялся, мы бежали смотреть и хохотали: ни одного нарцисса. Ни единого! Подумать только: он приходил на эту поляну есть нарциссы! Оказывается, у лосей нарциссы – любимое лакомство. Иногда мы приходили сюда и ночью, полюбоваться на загадочный звездный мир.
Траву давно никто не косил, лужайка заросла так, что я не заметил Нею, пока не подошел совсем близко. Мелькнуло в летнем разноцветье белое платье. Она сидела, положив руки на колени и понурив голову. Услышав мои шаги, вскочила – и вот мы стоим лицом к лицу, молча, не зная, что сказать. Кажется, не только я, но и она впервые осознала: прошел целый год.
И за этот год она очень изменилась. Немного похудела, выросла, особенно заметны стали высокие, четко обрисованные скулы. Я оставил девочку, а передо мной стояла юная женщина. Но волосы те же, медно-рыжие, как я их и запомнил, и веснушек не меньше, чем звезд на небе. А произошедшие перемены нимало не повлияли на ее красоту. Наоборот: оставленный мною клад вырос и стал еще ценнее.
Я не мог сдержать радостную улыбку, но тут же оцепенел, и льдинка в животе за несколько секунд выросла в целую глыбу: а я? После всего пережитого… что произошло со мной? Что она видит во мне? В зеленых глазах мелькнула искорка разочарования… или показалось? Ничего удивительного: уродливый мир Бартелеми наверняка оставил след и на мне – разумеется. Никто, побывав в подобном аду, не может остаться прежним.
Она подошла поближе. Совсем близко, я кожей чувствовал ее дыхание. Подошла и после секундного замешательства подняла руку и погладила меня по щеке. И ее, и меня била дрожь.
– Это ты, Эрик? Это и в самом деле ты? – севшим до шепота голосом спросила она.
У меня потекли слезы. Я не мог сказать ни слова, только положил руку на теплую ладонь на моей щеке. Она тоже заплакала, и я задал вопрос, который не мог не задать, хотя горло сжимали ледяные пальцы страха.
– Нея… ты по-прежнему хочешь меня?
Она прижалась лбом к моему, откинув прядь рыжих волос, и весь мой мир окрасился в изумрудный цвет ее глаз.
– Да. Тысячу раз да.
Мы опустились на землю и сели, прижавшись друг к другу, будто мерзли, будто летнее расшалившееся солнце потеряло способность греть. И говорили, говорили… вспоминали минувший год. Год разлуки. Тени удлинились, небо покрылось закатным румянцем, и мы рука об руку пошли через лес. В кронах деревьев, особенно кленов, уже притаилась ночь и время от времени показывала нам черный дымный язык. Ее родители приветствовали меня очень почтительно, как и подобает приветствовать владельца и единственного хозяина древней дворянской усадьбы Тре Русур. Но когда потемнели уже и верхушки деревьев, когда в преддверии ночи насторожилась вся природа, когда я пожелал моей возлюбленной доброй ночи и собрался уходить, мать ее вышла со мной на крыльцо.
– Без вас… без вас она словно перестала жить. Поначалу лежала в постели дни напролет, уткнется носом в стену и лежит, не встает. Она нынче вечером сказала больше, чем я слышала от нее за весь год. Спасибо, Эрик, вы вернули нам дочь.
Поцеловала меня в щеку и поспешила в дом, заметно тронутая своими же словами.
21
Состоялось оглашение. Возражений не последовало, и без всяких формальностей назначили день свадьбы. Сетон был неутомим, все время в дороге, по два-три раза в неделю ездил в Стокгольм. Только самое лучшее, постоянно повторял он. Все должно быть самым лучшим, просто хорошее не годится. Нельзя сказать, чтобы я был чересчур усерден в благодарностях, поскольку почти все время проводил с Неей. Любопытно другое. По приезде мне показалось, что в усадьбе все изменилось за время моих странствий; я только постепенно сообразил: усадьба осталась прежней. Изменились мы. Теперь нас связал доселе неизвестный феномен: слово, данное Господу. Как невиданной силы магнит, он, этот феномен, притягивал новые и отталкивал привычные представления. Это было и сладко, и тревожно. Были и другие чувства, их не принято называть, но я подметил нечто похожее и у Неи. Я и сам знал, что не должен давать волю запретным порывам, но опасения мои подтвердил Сетон. Он отвел меня в сторонку.
– Нехорошо жениху и невесте постоянно уединяться в лесу. Ты же не хочешь вести невесту к венцу под шипенье сплетников.
И еще несколько раз напоминал:
– Нехорошо. Гуляйте там, где вас все могут видеть. И воспоминание о первой брачной ночи останется у вас на всю жизнь.
Я, признаюсь, смутился, даже почувствовал, что краснею, но совет нельзя не признать разумным. К тому же я очень скоро заметил, что на людях нам спокойнее и легче. Мы все время были на виду – но при этом старались держаться чуть поодаль, чтобы никто не слышал, о чем мы говорим. А говорили мы о будущем. Я прекрасно знал, что думает Нея: она боялась, что унаследованное мною имение повиснет гирей на ногах и в конце концов нас утопит. Я и сам так считал, пока не нашел замечательное решение.
– Нея, как ты думаешь: твой отец… сможет ли твой отец взять на себя управление имением? Тогда мы будем свободны, как птицы. Сможет делать все, что хотим. Посмотрим Стокгольм, а может, подадимся дальше на юг, в Сконе.
– Только если ты этого пожелаешь, Эрик. Я вовсе не хочу, чтобы ты ради моих капризов промотал наследство. Хочешь остаться – останемся. Попрошу сестер научить меня сплетничать и рукодельничать, буду смирной и послушной… насколько получится.
Я рассмеялся. Она говорила совершенно искренне, но я-то прекрасно знал ее характер, и был уверен: Нея – это Нея. И всегда будет Неей.
– Ну нет… я предпочитаю дикарок. Давай так и сделаем: предоставим Тре Русур заботам твоего отца. – Тут я помешкал, подыскивая нужные слова. – Нея… мне ни что не мило в поместье, кроме тебя.
Она прижала мою руку к губам и долго не отпускала.
Я со все возрастающим нетерпением ждал дня, который должен был стать самым счастливым днем моей жизни. Меня разбудили очень рано. Солнце вставало медленно и неохотно, словно хотело продлить дни моей холостяцкой жизни. Согрели на плите воду, оттерли невидимую грязь, выкупали в ванне со специально заказанными ароматическими таблетками и приступили к туалету – приближался час венчания. Платье совершенно новое, я ни разу его не надевал. Камзол насквозь пропах щедро рассыпанной в сундуке лавандой.
Сетон долго осматривал меня с видом знатока. Он и в самом деле был знатоком.
– Многие гости на свадьбе принадлежат к тому ордену, о котором я тебе говорил, Эрик. Светские люди. И хотя я знаю, что истинно светские люди оценивают человека не по одежде, а по талантам и заслугам, но представь: внешний вид тоже важен. Все должны понимать: перед ними истинный аристократ. И не забудь уделить им внимание. Я понимаю, ты будешь поглощен только невестой, но очень прошу: не забудь уделить им внимание. – Он произнес последние слова так, что я мысленно увидел жирную черту, которой он их подчеркнул. – В церкви меня не будет, еще полно дел. Но весь остальной день я в твоем распоряжении.
Я поблагодарил его от всей души, прекрасно понимая, что любых слов недостаточно, чтоб отдать должное его поистине отцовской заботе.
У подъезда уже ждала украшенная венками карета, на козлах сидел не кто иной, как Яррик, в богатой лиловой ливрее и с необычной гримасой на лице, которую при желании вполне можно принять за улыбку. Нас подвели к пастору, и Эскиль Коллинг сам вложил руку своей дочери в мою. Пока мы шли по проходу, белый шлейф Линнеи Шарлотты скользнул по надгробной плите отца, и мне почудился в этом маленьком непредусмотренном событии знак примирения и прощения.
Мы стояли, взявшись за руки. Я, мало что понимая, повторял за пастором слова брачного обряда. В церковь набилось очень много прекрасно одетой ликующей публики, то и дело слышались негромкие одобрительные восклицания, кто-то даже похлопал в ладоши, но мы ничего не замечали – ни я, ни Линнея.
Мы обменялись кольцами. Люди на руках вынесли нас на зеленый церковный холм, и все направились в Тре Русур, где предстояло пиршество. Нам сунули в руки бокалы, и я выпил вина, хотя и так был уже совершенно пьян от счастья. Первый поцелуй, которым мы обменялись как уже законные муж и жена, был скромным и кратким, предназначенными для посторонних взглядов, но во взгляде Линнеи я прочитал желание – точно такое же, какое уже много дней обуревало меня самого. Скоро. Очень скоро.
Праздник набирал силу. Мы с Линнеей Шарлоттой сидели во главе почетного стола. Одно блюдо сменяло другое, но я не замечал вкуса. В моей душе не осталось места ни для одного из пяти известных чувств; я был переполнен счастьем. Говорились красивые, продуманные речи, но я не слышал ни слова: понимал только, что многих из говорящих вижу впервые в жизни, или смутно припоминал – да, этого человека мне представили нынче утром. Но господа эти были прекрасно одеты, остроумны и красноречивы; я никогда в жизни не видел более изысканного общества и был очень тронут их очевидным ко мне расположением. Пришлось пожать бесчисленное количество рук, а спина уже побаливала от дружеских похлопываний. По-моему, мне ни разу не дали увидеть дно бокала: не успевал я его осушить – тут же подливали: уже готовился новый тост. Голова волшебно кружилась, опьянение казалось обязательным условием охватившей меня эйфории. Сидевший рядом Сетон с очевидным вниманием следил, чтобы я не напился до положения риз; как только ему казалось, что я выпил лишнего, он тут же совал мне ароматические пастилки.
Наконец стол отодвинули, освобождая место для танцев; привезенные из города музыканты настроили свои скрипки – и начался настоящий шторм полек, кадрилей и менуэтов. Я все время смотрел на лицо Линнеи Шарлотты, на все более расплывающемся фоне я видел только ее лицо и старался не замечать уколы ревности: все хотели обязательно потанцевать с невестой. Конечно, кому не захочется пройтись в менуэте с такой невестой!
Мне почему-то стало очень смешно, я помню, что несколько раз засмеялся без всякого повода. Несмотря на освежающие пилюли, наступающий вечер опустошил мою память – ничего удивительного. После такого напряжения и такого количества вина.
22
Я проснулся, как от толчка, и меня окатила едкая волна стыда. Я даже боялся открыть глаза. Какой позор! Наша первая ночь! Но тут же льстивый голосок самоуспокоения подсказал: не беда. У нас еще много ночей впереди. Нея простит. Первая ночь – всего лишь первая из многих. Но почему такой жесткий матрас?
Я с трудом разлепил веки и обнаружил, что лежу на полу. С трудом, преодолевая сопротивление затекших мышц и боль во всем теле, сел.
Сначала мне показалось, что вся спальня усыпана лепестками темно-бордовых роз – очередное пожелание счастья. Я нехотя потянулся за одним из них, но лепестка не обнаружил, а на пальцах остались липкие следы того же самого, глубокого красного цвета. Я тут же обнаружил, что не только пальцы, но и все мое голое тело в таких же пятнах. Вскочил на ноги и сорвал покрывало. Ее кожа была белее простыни, а лицо… лица не было. От высоких скул, от волшебных веснушек осталась только бесформенная окровавленная маска, на которой застыло выражения последнего ужаса. Из открытого в немом отчаянном крике беззубого рта вывалился синий опухший язык. Закатившиеся глаза без зрачков. Еще несколько часов назад она была полна жизни, а сейчас более всего напоминала выброшенную тряпичную куклу. Кровь повсюду – на обоях, на полу, даже на потолке. На животе и бедрах – желто-белая пленка, как будто живот обработали лаком, а лак успел не только высохнуть, но и покрыться кракелюрами, как на старинных полотнах.
Я отчаянно закричал, начал трясти ее, не отрывая глаз от изуродованного лица, будто надеялся вдохнуть жизнь, вернуть похищенное смертью тепло.
Очнулся я в железных объятиях Яррика. За его спиной стоял Тихо Сетон с таким выражением, будто он не верит своим глазам.
– Эрик, Эрик, – прошептал он с отчаянием. – Эрик… что ты натворил?
23
Я не переставал кричать. И сейчас я кричу, хотя губы мои плотно сжаты. Никто не слышит моего крика, но я-то слышу. Хриплый и отчаянный, он звучит у меня в голове непрерывно. С той ночи я кричу, не переводя дыхания.
Сетон делал все, что требовалось, а я… я словно потерял собственную волю. Они с Ярриком поставили меня на ноги, увели из спальни, которую я своими руками превратил в могильную яму, положили в ванну и долго отмывали. Оказалось, что в ночном побоище пострадал и я. Разогнуться я мог только сжав зубы, к тому же сильно болел и кровоточил задний проход – это я понял, только когда вода в ванной стала розовой от крови. Со временем боль поутихла, но не прошла; я пишу эти строки и чувствую ее глухой безжалостный пульс. Каждый поход в туалет – восхождение на Голгофу. Наверное, она защищалась, но силы были неравны… о Господи… я больше не могу. Я не выдержу…
Весь тот день я просидел в ванной. Оказалось, что и мое тело покрыто странной желтоватой высохшей слизью, которую долго отскребали – не помню, кто. Время от времени приносили горячую воду, раз за разом намыливали голову, смывали и снова намыливали. Яррик оказался незаменим: с невероятной для его телосложения гибкостью и, я бы даже сказал, нежностью он состриг мне ногти – черные, но не от грязи; о, если бы они были черными от грязи!
Ногти были черными от свернувшейся крови.
К вечеру вернулся Сетон. Они с Ярриком завернули меня в одеяло и отнесли в комнату, которая когда-то служила спальней отца. Помню, пришла в голову какая-то совершенно ерундовая мысль, и я с ужасом мысленно воскликнул: «О чем ты думаешь?» И не смог ответить. Я не думал ни о чем.
Сетон не отходил от моей постели. Сидел с книгой в руках, время от времени поправлял одеяло. Прошло немало часов, прежде чем я пришел в себя настолько, чтобы спросить:
– Что произошло? Скажите мне, скажите… это был кошмарный сон?
Он отложил книгу и взял меня за руку.
– Успокойся. Тебе нельзя волноваться. Мы позаботились обо всем. Гостей, оставшихся на ночь, отправили домой – все они мало что соображали с похмелья. Спальню отскоблили, белье сожгли.
Я с ужасом приготовился задать еще один вопрос, но он меня опередил.
– Она в погребе. Мы завернули ее в простыню и отнесли в погреб. На то короткое время, что ей осталось провести на земле, Линнея Шарлотта в безопасности. Луи запер дверь на цепь и замок. Никто ее не видел. Гости уверены, что она еще спит. К тому же они обессилены ночными излишествами и вовсе не настаивают, чтобы им дали возможность попрощаться с хозяевами.
Я разрыдался. Все, на что я был способен, – раз за разом повторять один и тот же вопрос: «Что произошло?» Голос мой звучал, как писк новорожденного.
– Я порасспрашивал… осторожно, разумеется, как мог. Кто-то видел начало ссоры. Линнея Шарлотта попробовала поведать тебе о некоем молодом человеке, к которому она испытывала нежные чувства в твое отсутствие. И ты пришел в ярость. Такое ведь было и раньше, да? Я знал, конечно, про твои вспышки ярости, но даже предполагать не мог, что… – Он в недоумении повел плечами и сделал паузу. – Эрик… ты не совсем здоров. Не стоит возлагать на себя вину за то, что случилось. Виновен не ты, виновна твоя болезнь. Умопомешательство необычного свойства, над которым ты не властен. Но не волнуйся, я знаю людей, которые могут помочь. Я уже послал письмо. Завтра мы уезжаем.
– Куда?
– В Стокгольм. Данвикен. Если где-то тебе и могут помочь, только там.
– Дом умалишенных?
– Нет-нет, не пугайся. Не дом умалишенных, а госпиталь. Своего рода дом призрения с лечением. В дом умалишенных направляют, только когда нет никакой надежды.
Записи мои подходят к концу. Больше мне нечего сказать. Ни один курс лечения не помог. Временное облегчение – самое большее, чего удается достигнуть. Если, конечно, называть тебаику облегчением. Я все время думаю о словах Сетона перед отъездом из Тре Русур. Что это было? Тебе могут помочь… Наивная надежда… нет, помочь мне не может никто. Это выше человеческих сил. Кошмары все чаще и страшнее. Я стал мочиться по ночам. Белье, конечно, меняют, но запасных матрасов в госпитале не предусмотрено, и влажная солома гниет, отравляя и без того спертый воздух.
Сегодня приходил Сетон. Подмышкой у него был деревянный ларец. Он устроил его у своих ног и сел.
– Я знаю, что у тебя были гости, Эрик. Всего несколько дней назад. И знаю, что эти гости задавали тебе вопросы. Много вопросов.
Я кивнул. Голова была ясная – тебаику мне не давали с начала недели.
– Время нас поторапливает, – озабоченно произнес Тихо Сетон. – Похоже, эти господа вознамерились вытащить тебя отсюда и лишить меня всякой возможности о тебе позаботиться.
– Если они служители Фемиды… что ж, разве я не заслужил любого, самого строгого наказания?
Сетон тряхнул головой. Во взгляде мелькнуло совершенно нехарактерное для него выражение, которого я никогда ранее не видел.
– Не говори так. Никогда так не говори. Ты не заслужил никакого наказания, потому что вины твоей в произошедшем нет. Не ты, а твоя болезнь убила Линнею. А если ты попадешь в лапы полиции, они не станут принимать во внимание это немаловажное обстоятельство. Не ты, а твоя болезнь. Им важно выполнить свои квоты. А болезнь… запомни, Эрик, во всем виновна твоя болезнь, и не ты, а она понесет заслуженное наказание, когда мы тебя вылечим.
Он прокашлялся, поднял ларец и поставил на колени.
– Все твои врачи потеряли надежду. Но не я. Я искал неустанно, в нашей стране и за ее границами, и, как мне кажется, нашел. Некий господин, подданный Франца Второго[17]. Медикус с редкостными заслугами и с огромным опытом, который включает и такие случаи, как твой.
Он сделал паузу, словно сомневаясь. Погладил богатую инкрустацию ларца.
– Но ты должен понимать… предстоящее лечение несколько… как бы это выразиться… драматично. Но я уверен: это единственная наша надежда. Важно одно: добиться облегчения.
Я безнадежно покачал головой – наверное, еще какой-нибудь образцово горчайший и столь же образцово бесполезный декокт.
Сетон придвинулся поближе и с загадочной миной откинул крючок. Ларец изнутри был обит темно-синим бархатом, а на нем в идеальном порядке лежал набор блестящих инструментов, каждый закрепленный сутажным шнурком в специально под него сформированном углублении.
– Вот этим сверлышком сверлят дырку на темени, чуть выше линии волосяного покрова.
Он осторожно вынул инструмент из своего гнезда и протянул мне. Я поднял сверло к свету – идеально отполированная сталь, без единого дефекта или пятнышка.