Дэнс, Дэнс, Дэнс Мураками Харуки
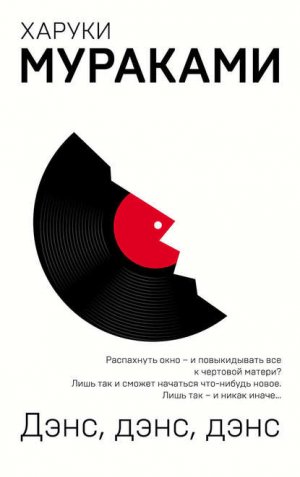
— Небольшой перерыв, — сказал я вслух. Совсем тихонько — но Юки, похоже, услышала. Лениво перевернувшись на бок, она сняла темные очки, прищурилась и подозрительно посмотрела на меня.
— О чем ты там думаешь? — спросила она осипшим спросонья голосом.
— Да так… О том, о сем. Ничего серьезного, — ответил я.
— Делай, что хочешь — только перестань у меня под боком разговаривать сам с собой. Захотелось под нос побубнить — сиди один в номере и там бубни!
— Извини. Больше не буду.
Юки снова посмотрела на меня. Как ни в чем не бывало — мирным, спокойным взглядом.
— А то прямо как псих ненормальный…
— Ну, — согласился я.
— Прямо как одинокий старик, — добавила она. И перекатилась обратно на живот.
В аэропорту мы взяли такси, поехали в гостиницу, оставили в номере вещи, переоделись в шорты и майки, первым делом отправились в торговый пассаж тут же рядом и купили слоновьих размеров магнитофон. Так захотела Юки.
— Как можно здоровее, и чтобы орал погромче, — распорядилась она.
На дорожные чеки Хираку Макимуры мы купили самое огромное, что нашли в магазине — кассетную магнитолу “Санъё”. И к ней — запас батареек и несколько кассет.
— Нужно еще что-нибудь? — спросил я Юки. — Одежда, купальник и все такое?
Она покачала головой.
— Ничего не нужно, — сказала она.
Каждый наш выход на пляж сопровождался обязательным выносом магнитолы. Нести которую, разумеется, должен был я. Как туземец из фильма “Тарзан”, я тащил эту громадину на плече, словно тушу убитой антилопы (“Не ходи туда, Бвана. Там живут злые духи”), а впереди вышагивала Юки. Диск-жокей все ставил по радио песню за песней. Вот так получилось, что суперхиты этой весны я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Завывалки Майкла Джексона расползались по миру, как эпидемия. Парочка посредственностей, Холл и Оутс, пробивались в звезды с поистине героическим упорством. “Дюран Дюрану” явно не хватало воображения, а Джо Джексону — умения раздуть божью искру, которая у него еле теплилась. У “Претендерз”, как ни крути, просто не было будущего. “Супертрэмп” и “Карз” вызывали всегда одну и ту же нейтрально-вежливую улыбку… И так далее, и тому подобное — поп-певцы и поп-песни в совершенно невозможном количестве.
Как и обещал Хираку Макимура, жилье нам досталось что надо. Конечно, мебель, общий дизайн и картины на стенах оказались весьма далеки от того, что принято называть роскошью, однако в комнатах было на удивление приятно (кому придет в голову требовать роскоши на Гавайях?), а до пляжа буквально рукой подать. Номера на десятом этаже — тихие, со сказочным видом из окна. Загорай себе прямо на балконе и разглядывай море. Просторная, удобная, чистая кухня, в которой собрано всё — от микроволновки до посудомоечного агрегата. Номер Юки был рядом — поменьше моего, но тоже с отдельной кухонькой. Постояльцы, что попадались нам в лифтах и вестибюле, все как один одевались богато и со вкусом.
Купленную магнитолу мы притащили в гостиницу, после чего я уже сам сходил в супермаркет. Набрал там пива, калифорнийского вина, фруктов, побольше разных соков. А также всего, что нужно для приготовления элементарного сэндвича. И уже после этого мы отправились с Юки на пляж, улеглись рядом на циновках — и до самого вечера разглядывали море и небо. Мы почти не разговаривали. Лишь иногда переворачивались с боку на бок — и, отдавшись потоку Времени, не делали вообще ничего. Безжалостное солнце заливало лучами землю и поджаривало песок. Ветер с моря — мягкий, нежный, чуть влажный — изредка поигрывал листьями пальм, как бы невзначай вспоминая о них. То и дело я погружался в забытье, потом вдруг просыпался от топота чьих-то слишком резвых ног или громкого голоса и всякий раз думал: где я? На Гавайях, отвечал я себе — но верилось в это не сразу. Пот вперемешку с маслом от загара стекал по щекам и капал с ушей на песок. Самые разные звуки то приливали, то откатывались, точно волны. Иногда я различал среди них биение своего сердца. Будто мое сердце — одно из самых судьбоносных явлений природы на планете Земля.
Я ослабил болты, что скрепляли мозг, и расслабился. Технический перерыв…
Лицо Юки изменилось. Метаморфоза случилась, как только она вышла из самолета в аэропорту Гонолулу, и теплый свеже-сладкий гавайский воздух обласкал ее кожу. Сойдя с трапа, она остановилась, крепко зажмурилась, словно боясь ослепнуть, глубоко вздохнула — и, распахнув глаза, посмотрела на меня. Всё ее напряжение — тонкая, невидимая пленка, покрывавшая лицо до сих пор, — растворилось бесследно. В ней не осталось ни страха, ни раздражения. Все ее жесты — убирала ли она волосы со лба, выбрасывала ли закатанную в фантик жвачку, пожимала ли плечиками без смысла и повода — все эти ее намеренно-нечаянные движения вдруг утратили прежнюю угловатость и выглядели совершенно естественно. Я даже посочувствовал ей: бедняжка, какой, должно быть, тяжелой жизнью жила она до сих пор! Да не просто тяжелой — заведомо неправильной.
Теперь же, когда она загорала, раскинув руки и ноги, на пляже — волосы кокетливо подобраны, темные очки, бикини, — определить возраст Юки на глаз я бы не смог. Ее тело было совсем детским, но в нем уже проступало нечто новое — особая грация существа, постоянно стремящегося к совершенству, — отчего она выглядела гораздо взрослей своих лет. Эти тонкие руки и стройные ноги нельзя было назвать обалденными— но они уже наливались особой метафизической силой. Той, что способна растянуть окружающее пространство в четыре разные стороны, стоит этой девчонке лишь невзначай потянуться всем телом. Ибо прямо сейчас это тело переживало самую динамичную фазу своего роста — бурное, стремительное взросление.
Мы натерли друг другу спины маслом для загара. Сначала она мне. Я впервые в жизни услышал, что у меня, оказывается, большая спина. Сама Юки ужасно боялась щекотки и, когда я натирал ее, вся извертелась. Волосы она подобрала, обнажив бледные уши и худенькую шею. Я невольно улыбнулся. Издалека ее тело на песке казалось настолько взрослым, что даже у меня дух захватывало; и лишь позвонки на шее — такие детские, будто появились здесь по ошибке, — выказывали ее настоящий возраст. “Совсем ребенок”, — подумал я лишний раз. Как это ни странно звучит, шея женщины отмечает прожитые ею годы, как годовые кольца фиксируют возраст дерева. Хотя спроси меня, что и как тут меняется — я, наверное, толком объяснить не смогу. Тем не менее, это так: у девчонок-тинейджеров — шеи девчонок-тинейджеров, а у зрелых женщин — шеи зрелых женщин.
— Первое время нужно загорать понемногу, — объясняла мне Юки назидательным тоном. — Сначала в тени, потом немного на солнце, и после опять в тени. Иначе обгоришь обязательно. Весь пойдешь волдырями, а от них следы останутся. И будешь ходить, как облезлая кошка.
— В тени… На солнце… Опять в тени… — прилежно заучивал я, втирая ей масло в спину.
Вот почему весь наш первый день на Гавайях мы провалялись в тени развесистой пальмы под болтовню ди-джея на средних частотах. Я то лез в воду купаться, то потягивал в баре под тентами круто охлажденную “пинья-коладу”. Юки купаться не торопилась. “Сначала — полный релакс!” — объявила она. И весь остаток дня лишь посасывала ананасовый сок, да раз в полчаса лениво кусала один и тот же хот-дог с горчицей и маринованными огурчиками. Вот уже огромный солнечный шар сполз в море, залив горизонт цветом кетчупа; вот уже прогулочные суда, возвращаясь из предзакатных круизов, зажгли на мачтах огни — а она все лежала ничком на своей циновке, даже не думая уходить. Будто хотела впитать в себя всё сегодняшнее солнце до последнего лучика.
— Ну что, пойдем? — позвал я ее наконец. — Солнышко село — брюхо опустело. Давай прогуляемся и съедим где-нибудь по хор-рошей говяжьей котлете. Чтобы мясо сочнейшее, да с кетчупом от души, да с луком слегка обжаренным… В общем, всё самое настоящее.
Она кивнула, но не поднялась, а только присела на корточки, не отводя глаз от моря. Словно жалея об остатках дня, которым не успела насладиться сегодня. Я скатал циновки и взвалил на плечо магнитолу.
— Не волнуйся, — сказал я ей. — У нас еще есть завтра. Не думай ни о чем. А кончится завтра — наступит послезавтра.
Она посмотрела на меня и весело улыбнулась. Я протянул ей руку, она ухватилась покрепче и встала на ноги.
29
На следующее утро Юки объявила, что мы едем встречаться с мамой. Ничего, кроме домашнего телефона матери, она не знала, поэтому я набрал номер, наскоро представился и спросил, куда ехать. Ее мать снимала коттедж недалеко от Макахи. Полчаса на машине от Гонолулу, пояснила она. Думаю, часам к двум мы до вас доберемся, сказал я. Затем отправился в ближайший прокат и взял “мицубиси-лансер”. Ничего не скажешь, ехали мы роскошно. Врубили радио на полную, открыли все окна — и неслись по хайвэйю, выжимая сто двадцать в час. Солнце заливало все вокруг, теплый ветер окатывал нас запахами цветов и моря.
“Неужели мать живет там одна?” — вдруг подумал я. И спросил у Юки.
— Вот еще! — ответила Юки, чуть скривив губы. — Такие, как она, долго за границей в одиночку не могут. Спорю на что угодно — у нее там бойфренд. Причем наверняка — молодой и красивый. Как у папы. Помнишь, какой у папы педик-бойфренд? Гладкий, чистенький — весь аж лоснится. За день, небось, три раза моется и два переодевается…
— Педик?!
— А ты не знал?
— Нет…
— Ну ты даешь. Да у него все на лбу написано! — сказала Юки. — Папа такой же или нет — я не знаю, но этот — точно педик. Железно. На двести процентов.
По радио заиграли “Рокси Мьюзик”, и она прибавила громкости.
— А мама у нас всю жизнь поэтов любила. Чтоб стихи писал, или хотя бы пытался писать, но чтобы обязательно молодой. Чтоб она снимала свои фотографии, а он бы у нее за спиной стихи декламировал. Сдвиг у нее на этом. Такой вот прибабах. Какие угодно стихи — лишь бы читал кто-нибудь. И тогда она привязывается к нему насмерть… Так что лучше бы папа стихи писал. Но такие, как папа, стихи не пишут…
Ну и семейка, снова подумал я. Точно, Космические Робинзоны. Писатель быстрого реагирования, гениальная фотохудожница, девчонка-медиум, ученик-педераст и любовник-поэт… Черт бы меня побрал. А мне какая роль уготована в этом психеделическом гиперсемействе? Стареющий комик-паж при дочери-шизофреничке? Я вспомнил, как приветливо улыбался мне Пятница, словно приглашал — дескать, добро пожаловать в нашу теплую компанию… Эй, ребята, мы так не договаривались. Да я здесь вообще случайно! У меня отпуск, понятно? Кончится отпуск — я вернусь разгребать сугробы дальше, и мне станет некогда играть в ваши игры. Все это — временно. Коротенький миф, волей случая вплетенный в сюжет реальной истории. Этот миф очень скоро закончится: вы займетесь своими делами, а я — своими. Все-таки я люблю мир попроще. Мир, в котором легко понять, кто есть кто.
Помня инструкции Амэ, перед Макахой я свернул с хайвэя вправо, и мы проехали еще немного в сторону гор. По обочинам замелькали хижины угрожающе хлипкого вида: так и чувствовалось — первый же сильный тайфун посрывает эти крыши ко всем чертям. Вскоре, впрочем, они изчезли, и перед нами появились ворота в зону частных коттеджей. Привратник-индиец, дежуривший в будке, осведомился, куда мы едем. Я сказал ему номер коттеджа Амэ. Он отвернулся к телефону, позвонил куда-то — и, обернувшись, кивнул, пропуская нас с Юки:
— Все в порядке, проезжайте.
Мы въехали на участок — и вокруг, докуда хватало глаз, потянулись ухоженные лужайки. Сразу несколько садовников, разъезжая на каких-то тележках для гольфа, молча подстригали газоны и кроны деревьев. Мелкие птицы с желтыми клювами прыгали в траве, напоминая колонию экзотических насекомых. Я притормозил рядом с одним садовником, показал ему адрес матери Юки и спросил, где это находится. “Там!” — бросил он и ткнул пальцем в сторону. Я проследил за направлением его пальца и увидел вдалеке очередную лужайку с бассейном и небольшой аллеей. Асфальтовая дорожка огибала бассейн и скрывалась в гуще деревьев. Я поблагодарил садовника, мы спустились с одного холма, поднялись на другой — и прибыли к модерновому коттеджу тропической постройки, в котором жила мать Юки. У входа раскинулась небольшая веранда, а перед окнами позвякивали на ветру металлические колокольчики. Дом утопал в листве деревьев, с которых свисали диковинные плоды.
Мы с Юки вышли из машины, поднялись по ступенькам, и я позвонил в дверь. Полусонный звон колокольчиков на еле живом ветерке удивительно гармонично вплетался в концерт Вивальди, доносившийся из распахнутых окон. Прошло секунд пятнадцать, прежде чем дверь беззвучно открылась — и перед нами появился мужчина. Загорелый невысокий американец, у которого не доставало левой руки от самого плеча. Крепко сложенный, с бородкой и усами, которые придавали ему весьма задумчивый вид. Одет в выцветшую «гавайку» с короткими рукавами и спортивные шорты, на ногах — соломенные шлепанцы. Приблизительно мой ровесник. Лицом не красавец, но симпатичный. Для поэта — пожалуй, слишком похож на мачо. Впрочем, на свете наверняка хватает и поэтов-мачо. Ничего в этом странного нет. Мир — штука большая. Кого только в нем не встретишь.
Мужчина поглядел на меня, потом на Юки, потом опять на меня, затем чуть склонил голову вбок — и широко улыбнулся:
— Hello, — произнес он негромко. И, перейдя на японский, добавил: — Коннитива.
И пожал нам руки — сперва Юки, потом мне. Не очень сильно.
— Проходите, пожалуйста, — сказал он на отличном японском.
Он провел нас в просторную гостиную, усадил на огромный диван, достал из холодильника две банки гавайского пива «Примо» и банку колы, водрузил на поднос со стаканами и принес нам. Мы принялись за пиво, а Юки к своей коле даже не притронулась. Он подошел к проигрывателю, убавил громкость Вивальди и снова сел. Не знаю, почему, но комната вдруг напомнила мне обстановку в рассказах Сомерсета Моэма. Огромные окна, вентилятор под потолком, на стенах — побрякушки со всей Полинезии…
— Она сейчас пленку проявляет, закончит минут через десять, — сказал мужчина. — Вы уж подождите немного. Меня зовут Дик. Дик Норт. Мы тут вместе живем, она и я.
— Очень рад, — ответил я. Юки молчала, уставившись на далекий пейзаж за окном. Туда, где меж деревьев ярко синело море. У самого горизонта в небе зависло одинокое облако, похожее на череп гигантского питекантропа. Оно никуда не двигалось — и, похоже, двигаться не собиралось. Видно, слишком уж твердолобый оказался питекантроп. Время вылизало его череп добела и до угрюмой отчетливости отшлифовало надбровные дуги. И теперь на фоне этого черепа порхали туда-сюда стайки желтоклювых. Концерт Вивальди закончился, Дик Норт вернул на место иглу, одной рукой снял пластинку, сунул в конверт и поставил на полку.
— Отличный у вас японский, — сказал я, поскольку разговаривать все равно было не о чем.
Дик Норт кивнул, слегка поднял одну бровь, закрыл на секунду глаза и опять улыбнулся.
— Я очень долго жил в Японии, — сказал он наконец. На вопросы он отвечал не сразу. — Десять лет. Впервые приехал во время войны… Вьетнамской войны. Мне там очень понравилось, и когда война закончилась, я поступил в японский университет. Очень хороший университет. И теперь пишу стихи…
Бинго, подумал я. Не очень молодой, не ахти какой красавец — но пишет стихи; тут Юки попала в точку.
— …А также перевожу на английский хайку и танка, — добавил он. — Очень непростая работа, уверяю вас.
— Представляю, — кивнул я.
Он опять широко улыбнулся и спросил, не хочу ли я еще пива. Можно, ответил я. Он принес еще две банки. С поразительной легкостью откупорив единственной рукой свою, он наполнил стакан и сделал большой глоток. Затем поставил стакан на стол и, покачав головой, уперся строгим взглядом в плакат Уорхола на стене перед нами.
— Странная штука, — произнес он задумчиво. — На свете не бывает одноруких поэтов. Почему?.. Однорукие художники есть. Однорукие пианисты — и те иногда встречаются. Когда-то, помню, даже бейсболист однорукий был. Почему же история не знает одноруких поэтов? Ведь чтобы стихи писать, совсем не важно — одна у тебя рука или три…
В общем, конечно, так, согласился я мысленно. Где-где, а в стихосложении количество рук — вопрос совершенно не принципиальный.
— Вот вы можете вспомнить хоть одного однорукого поэта? — спросил у меня Дик Норт.
Я покачал головой. Хотя, если честно, в стихах я не смыслю почти ничего, и даже двуруких поэтов вспомнил бы не больше десятка.
— Одноруких сёрферов я знаю несколько, — продолжал он. — С парусом ногой управляются. Я и сам немного умею…
Юки вдруг встала и принялась рассеянно шататься по комнате. Остановившись у полки с пластинками, она почитала названия, но, видно, не нашла ничего интересного — и тут же скорчила рожицу из серии “ужасно дурацкая чушь”. После того, как музыка смолкла, комнату затопила сонная тишина. За окном то и дело взревывала газонокосилка. Кто-то громко кого-то звал. Позвякивали на ветру колокольчики. Пели птицы. Но тишина поглощала всё. Какие бы звуки ни рождались — она сглатывала их подчистую. Словно тысячи невидимых молчунов, вооружившись бесшумными пылесосами, собирали по всей округе звуки, как грязь или пыль. Где б ни возник хоть малейший шум — они тут же набрасывались на него и всасывали всё до последнего отголоска.
— Тихо тут у вас… — заметил я.
Дик Норт кивнул, потом многозначительно посмотрел на свою единственную ладонь — и снова кивнул.
— Да. Очень тихо. И это — самое важное. Для таких людей, как мы с Амэ, тишина для работы просто необходима. Мы оба не переносим, когда вокруг… hustle-bustle? Ну, всякий шум-гам. Когда слишком оживленно, все само из рук валится. Как вам здесь? Согласитесь, Гонолулу — очень шумный город…
Я вовсе не находил, что Гонолулу очень уж шумный город, но затягивать разговор не хотелось, и я сделал вид, что согласен. Юки, судя по физиономии, разглядывала очередную “дурацкую чушь” за окном.
— Кауаи — вот там действительно хорошо. Тихо, людей почти нет. На самом деле, я бы хотел жить на Кауаи. Но только не здесь, на Оаху. Туристический центр, что с него взять: слишком много машин, преступность высокая… Здесь я — только из-за работы Амэ. По два-три раза в неделю приходится в Гонолулу выбираться. За материалами. Ей для съемки постоянно материалы нужны. Ну и, конечно, отсюда, с Оаху, связь легче поддерживать, встречаться с людьми. Она сейчас много разного народу снимает — тех, кто обычной жизнью живет. Рыбаков, садоводов, крестьян, поваров, дорожных рабочих, торговцев рыбой, кого угодно… Она замечательный фотохудожник. Ее работы — талант в чистом виде.
Хотя мне никогда не доводилось пристально разглядывать работы Амэ, на всякий случай я опять согласился. Юки подозрительно засопела.
Он спросил, какой работой я занимаюсь.
Заказной писатель, ответил я.
Моя работа, похоже, его заинтересовала. Видно, решил, что мы — братья по духу, связанные общей профессией. И поинтересовался, что именно я пишу.
Что угодно, сказал я. Что закажут — то и пишу. Примерно как разгребать сугробы в пургу.
— Разгребать сугробы… — повторил он и, состроив серьезную мину, надолго задумался. Будто не очень хорошо понял то, что услышал. Я уже колебался, не рассказать ли ему подробнее о том, как разгребают сугробы, но тут в комнату вошла Амэ, и наш разговор закончился.
Одета Амэ была очень просто: полотняная рубаха с короткими рукавами, потертые белые шорты. На лице никакой косметики, волосы — в таком беспорядке, будто она только что проснулась. И тем не менее, она смотрелась дьявольски привлекательно. Аристократическая надменность, которую я подметил еще в ресторане отеля на Хоккайдо, по-прежнему проступала в каждом ее движении. Едва она вошла в комнату, все мгновенно почувствовали, насколько ее жизнь отличается от прозябания остальных. Ей не нужно было ничего объяснять или показывать: разница была понятна с первого взгляда.
Ни слова не говоря, она подошла к Юки, запустила пальцы ей в волосы, долго трепала их, пока совсем не разлохматила, а потом прижалась носом к ее виску. Юки не выказала большого интереса, хотя особо и не сопротивлялась. Лишь когда все закончилось, тряхнула головой пару раз, восстанавливая прическу. И уперлась бесстрастным взглядом в цветочную вазу на стеллаже. И все же бесстрастность ее была совсем иной, нежели унылое безразличие, с которым она озиралась в доме отца. Сейчас, несмотря ни на что, в ней сквозило нечто искреннее и живое. Определенно, мать и дочь вели между собой некий бессловесный диалог, не понятный никому, кроме них самих.
Амэ и Юки. Дождь и снег. И в самом деле, странно, подумал я снова. Ну, в самом деле, что это за имена? Прав Хираку Макимура, прогноз погоды какой-то. Родись у них еще один ребенок — интересно, как бы его назвали?
Амэ и Юки не сказали друг другу ни слова. Ни “здравствуй”, ни “как поживаешь”. Просто — мать взъерошила волосы дочери, ткнулась ей носом в висок и всё. Затем подошла ко мне, уселась рядом на диван, достала из кармана пачку “сэлема”, вытянула сигарету и прикурила от картонной спички. Поэт принес откуда-то пепельницу и элегантно, почти неслышно поставил на стол. Будто вставил красивую метафору в нужную строчку стихотворения. Амэ бросила туда спичку, выдула струйку дыма и шмыгнула носом.
— Простите. Никак от работы оторваться не могла, — сказала она. — Характер у меня такой: не могу останавливаться на середине. Потом захочешь продолжить — ничего не получается…
Поэт принес Амэ стакан, одной рукой ловко откупорил банку и налил ей пива. Несколько секунд она наблюдала, как оседает пена, после чего залпом выпила полстакана.
— Ну, и сколько вы собираетесь пробыть на Гавайях? — спросила она меня.
— Трудно сказать, — ответил я. — Я пока ничего не планировал. Но, наверное, с неделю. Я ведь сейчас в отпуске. Скоро в Японию возвращаться — и опять за работу…
— Побыли бы подольше. Здесь ведь так хорошо!
— Да, конечно… Здесь хорошо, — пробормотал я в ответ. Черт знает что. Похоже, она меня совершенно не слушала.
— Вы уже ели? — спросила она.
— В дороге сэндвич перехватил, — ответил я.
— А у нас что сегодня с обедом? — спросила она поэта.
— Насколько я помню, ровно час назад мы ели спагетти, — медленно и очень мягко ответил тот. — Час назад было двенадцать пятнадцать. Нормальные люди называют это обедом… Как правило.
— В самом деле? — рассеянно спросила Амэ.
— В самом деле, — кивнул поэт. И, повернувшись ко мне, улыбнулся. — Она за работой совсем от реальности отключается. Когда ела в последний раз, где что делала — всё забывает начисто. Память в чистый лист бумаги превращается. Нечеловеческая самоотдача…
Про себя я подумал, что это, пожалуй, уже не самоотдача, а пример прогрессирующей шизофрении — но, разумеется, вслух ничего не сказал. Просто сидел на диване, молчал и вежливо улыбался.
Довольно долго Амэ отсутствующим взглядом буравила стакан с пивом, потом словно о чем-то вспомнила, взяла стакан и отхлебнула глоток.
— Знаешь, может, мы и обедали, только опять есть хочется. Я ведь сегодня даже не завтракала! — сказала она.
— Послушай. Я понимаю, что все время ворчу, но… Если вспомнить реальные факты, сегодня в семь тридцать утра ты съела огромный тост, грейпфрут и йогурт, — терпеливо объяснил ей Дик Норт. — А потом сказала: “Объедение!” И еще сказала: “Вкусный завтрак — отдельный праздник в жизни”.
— Ах, да… Что-то было такое, — сказала Амэ, почесывая кончик носа. И задумалась, все так же рассеянно глядя в пространство перед собой. Прямо как в фильме Хичкока, подумал я. Чем дальше, тем меньше понимаешь, что правда, что нет. И все сложнее отличить нормального человека от сумасшедшего.
— Ну, в общем, у меня все равно в желудке пусто, — сказала Амэ. — Ты же не будешь возражать, если я еще раз поем?
— Конечно, не буду, — рассмеялся поэт. — Это ведь твой желудок, не мой. Хочешь есть — ешь себе сколько влезет. Даже очень хорошо, когда есть аппетит. У тебя же всегда так. Когда работа получается, сразу есть хочешь. Давай, я сделаю тебе сэндвич.
— Спасибо. Ну, тогда и пива еще принеси, хорошо?
— Certainly,[56] — ответил он и скрылся в кухне.
— Вы уже ели? — опять спросила она меня.
— В дороге сэндвич перехватил, — повторил я.
— А Юки?
— Не хочу, — просто сказала Юки.
— Мы с Диком в Токио познакомились, — произнесла Амэ, закидывая ногу на ногу и глядя на меня в упор. Хотя мне все равно показалось, будто она рассказывает это для Юки. — Он-то и предложил мне поехать с ним в Катманду. Сказал, что там ко мне обязательно придет вдохновение. В Катманду и правда было замечательно. А руку Дик на войне потерял, во Вьетнаме. Подорвался на мине. Такая мина специальная, “Баунсинг Бетти”.[57] Наступишь на нее, а она прыг — и прямо в воздухе взрывается. Бабам-м! Кто-то рядом наступил, а он руку потерял. Он — поэт. Слышали, какой у него отличный японский? Мы сперва в Катманду пожили, а потом на Гавайи перебрались. После Катманду так хотелось куда-нибудь, где жарко! Вот Дик и нашел здесь дом. Это коттедж его друга. А в ванной для гостей у нас фотолаборатория. Замечательное место!
Будто высказав все, что считала нужным, Амэ глубоко вздохнула, потянулась всем телом и погрузилась в молчание. Послеобеденная тишина сгустилась; яркий солнечный свет за окном, точно плотная пыль, расплывался повсюду как ему заблагорассудится. Череп питекантропа все белел над горизонтом, не сдвинувшись ни на дюйм. И выглядел все так же твердолобо. Сигарета, к которой Амэ больше не прикоснулась, истлела до самого фильтра.
Интересно, как Дик Норт делает сэндвичи одной рукой, попытался представить я. Как, например, режет хлеб? В правой руке — нож. Это ясно, без вариантов. Но чем он тогда придерживает хлеб? Ногой? Непонятно. Может, если двигать ножом в правильном ритме, хлеб разрежется и без упора? Но почему он все-таки не пользуется протезом?
Чуть погодя поэт принес блюдо с сэндвичами, сервированное, как в первоклассном ресторане. Сэндвичи с огурцами и ветчиной были нарезаны “по-британски” — небольшими дольками, в каждый воткнута оливка. Всё выглядело очень аппетитно. “Как же он это резал?” — ломал голову я. Дик Норт откупорил еще пива и разлил по стаканам.
— Спасибо, Дик, — сказала Амэ и повернулась ко мне: — Он прекрасно готовит.
— Если бы устроили конкурс на лучшего однорукого повара, я бы там всех победил! — подмигнул мне поэт.
— Да вы попробуйте, — предложила Амэ. И я попробовал. Действительно, отличные сэндвичи. Словно очень качественные стихи. Свежайший материал, безупречная подача, отточенная фонетика.
— Просто объедение, — похвалил я искренне, все же не сообразив, как он режет хлеб. Подмывало спросить — но спрашивать такое, конечно же, не годилось.
Дик Норт определенно был человеком действия. Покуда Амэ уничтожала сэндвичи, он снова сходил на кухню и успел приготовить всем кофе. Отменный кофе, что и говорить.
— Слушайте, а вы… — спросила Амэ, — Вы, когда с Юки вдвоем… вам нормально?
Я не понял вопроса:
— Что значит — “нормально”?
— Ну, я о музыке, разумеется. Весь это рок, вы же понимаете. Неужели вас это не сводит с ума?
— Да нет… Не сводит, — ответил я.
— У меня, когда это слушаю, голова просто на части раскалывается! И полминуты не выдерживаю, хоть уши затыкай. То есть, когда сама Юки рядом — никаких проблем. Но ее музыка — это просто какой-то кошмар! — сказала она и с силой потерла виски. — Я ведь слушаю только очень определенную музыку. Барокко. Какой-нибудь мягкий джаз. Или этническое что-нибудь. Чтобы душа успокаивалась. Вот это я люблю. И стихи люблю такие же. Гармония и покой…
Она снова взяла пачку “сэлема”, закурила и положила сигарету на край пепельницы. Эта тоже сгорит дотла, подумал я. Так оно и вышло. Просто странно, как она до сих пор не спалила весь дом… Похоже, я начинал понимать слова Хираку Макимуры о том, что существование с Амэ “сожрало” его жизнь и способности. Эта женщина — не из тех, кто дарит себя. Вовсе наоборот. Она строит свою жизнь, забирая понемногу у других. Окружающие просто не могут не отдавать ей хоть что-нибудь. Ибо у нее талант от Бога, а это — мощнейший насос для поглощения всего чужого. И поступать так с людьми она считает своим естественным правом. Гармония и покой…Чтобы дарить ей это, люди отрывают от себя только что не собственные руки-ноги.
“Но я-то здесь при чем?!” — хотелось закричать мне. Я здесь — лишь потому, что у меня неожиданный отпуск. И всё! Закончится отпуск, я вернусь разгребать сугробы дальше, и эта нелепая ситуация разрешится сама собой. Но главное — мне совершенно нечего вам отдать. Даже будь у меня чем поделиться — сейчас это здорово пригодилось бы мне самому. А сюда, в вашу теплую компанию, меня забросил каприз судьбы… Очень хотелось встать и заявить это во всеуслышание. Но не было смысла. Никто и слушать бы меня не стал. Для этой гиперсемейки я — очередной “дальний родственник”, и права голоса мне пока не дали.
Облако над горизонтом, не изменив очертаний, сдвинулось немного вверх. Казалось, проплыви под ним небольшое судно — так и зацепило бы мачтой. Гигантский череп огромного питекантропа. Вывалившийся из щели между эпохами в это небо над Гонолулу. “Похоже, мы с тобой братья!” — мысленно сказал я ему.
Разделавшись с сэндвичами, Амэ встала, подошла к дочери и, вновь запустив ладонь ей в волосы, потрепала их еще немного. Юки бесстрастно разглядывала кофейную чашку на столе.
— Роскошные волосы, — сказала Амэ. — Всю жизнь хотела себе такие. Густые, блестящие, длинные… А у меня чуть что — сразу дыбом торчат. Хоть не прикасайся к ним вообще! Правда, Принцесса? — И она снова ткнулась носом дочери в висок.
Дик Норт убрал со стола пустые пивные банки и тарелку. И поставил музыку — что-то камерное из Моцарта.
— Еще пива? — предложил он мне.
— Хватит, пожалуй, — ответил я.
— Ну, что… Сейчас я хотела бы поговорить с Юки, — произнесла Амэ ледяным тоном. — Семейные разговоры. Мать с дочерью, с глазу на глаз. Поэтому — Дик, ты не мог бы показать ему наши пляжи? Часа хватит, я думаю…
— Конечно, почему нет! — ответил поэт, вставая с дивана. Поднялся и я. Поэт легонько поцеловал Амэ в щеку, надел белую парусиновую шляпу и зеленые очки от солнца. — Мы погуляем, вернемся через часок. А вы тут разговаривайте в свое удовольствие. — И он тронул меня за локоть: — Ну что, пойдемте? Здесь отличные пляжи.
Юки чуть пожала плечами и посмотрела на меня с каменной физиономией. Амэ вытянула из пачки “сэлема” третью сигарету. Оставив их наедине, мы с одноруким поэтом вышли в душный солнечный полдень.
Я сел за баранку “лансера”, и мы прокатились до побережья. Поэт рассказал, что с протезом водит машину запросто, но без особой необходимости старается протез не надевать.
— Ощущаешь себя неестественно, — пояснил он. — Наденешь — и успокоиться не можешь. Удобно, конечно. Но чувствуется дисгармония. Природе вопреки. Так что по мере возможности я приучаю себя обходиться в жизни одной рукой. Использовать свое тело, пусть даже и не полностью…
— А как вы режете хлеб? — все-таки не удержался я.
— Хлеб? — переспросил он и задумался, словно не понял, о чем его спрашивают. И лишь потом наконец сообразил. — А! Что я делаю, когда его режу? Ну да, закономерный вопрос. Нормальным людям, наверное, и правда трудно понять… Но это очень просто. Так и режу — одной рукой. Конечно, если держать нож, как обычно, ничего не получится. Весь фокус в том, как захватывать. Хлеб придерживаешь пальцами, а по нему туда-сюда лезвие двигаешь… Вот так!
Он продемонстрировал мне на пальцах, как это делается — но я, хоть убей, не смог представить, как такое возможно на самом деле. Однако именно этим способом он резал хлеб куда качественнее, чем обычные люди двумя руками.
— Очень неплохо получается! — улыбнулся он, увидев мое лицо. — Большинство обычных дел можно делать одной рукой. В ладоши, конечно, не похлопаешь… Но от пола отжаться можно и на турнике подтянуться. Вопрос тренировки. А вы что думали? Как я, по-вашему, должен был резать хлеб?
— Ну, я думал, ногой как-нибудь помогаете…
Он громко, от всей души рассмеялся.
— Вот это забавно! — воскликнул он. — Хоть поэму сочиняй. Про однорукого поэта, который резал хлеб ногой… Занятные получатся стихи.
И с этим я не смог ни поспорить, ни согласиться.
Проехав довольно далеко вдоль берега по шоссе, мы остановились, вышли из машины, купили шесть банок холодного пива (поэт, широкая душа, заплатил за все), после чего отыскали на пляже местечко поукромнее и стали пить пиво, развалясь на песке. В такую жару сколько пива ни пей, захмелеть не удается, хоть тресни. Пляж оказался не очень гавайский. Повсюду зеленели какие-то низкие пышные деревца, а линия берега петляла и извивалась, местами переходя в невысокие скалы. Но, по крайней мере, не похоже на рекламную окрытку — и слава богу. Неподалеку стояли сразу несколько миниатюрных грузовичков, — семьи местных жителей вывезли детей искупаться. В открытом море десяток ветеранов местного сёрфинга состязались с волной. Череповидное облако дрейфовало там же, где раньше, и стаи чаек плясали в небе вокруг него, как хлопья пены в стиральной машине. Мы пили пиво, лениво разглядывая этот пейзаж, и время от времени болтали о том о сем. Дик Норт поведал мне, как безгранично он уважает Амэ. “Вот кто настоящий художник!” — сказал он убежденно. Говоря об Амэ, он то и дело срывался с японского на английский. На японском выразить свои чувства как следует не удавалось.
— После встречи с ней мое отношение к стихам полностью изменилось. Ее фото, как бы сказать… просто раздевает поэзию догола. То, для чего в стихах мы так долго подбираем слова, прядем из них какую-то запутанную пряжу, в ее работах проступает в одно мгновенье! Моментальный embodiment. Воплощение… Она извлекает это играючи — из воздуха, из солнечного света, из каких-то трещин во времени — и выражает самые сокровенные чувства и природу человека… Вы понимаете, о чем я?
— В общем, да, — сказал я.
— Смотрю на ее работы — иногда аж страшно становится. Будто вся моя жизнь под угрозой. Настолько это распирает меня… Вы знаете такое слово — dissilient?[58]
— Не знаю, — сказал я.
— Как бы это сказать по-японски… Ну, когда что-нибудь — раз! — и лопается изнутри… Вот такое чувство. Будто весь мир взрывается неожиданно. Время, солнечный свет — все у нее вдруг становится dissilient. В одно мгновение. Ее руку сам Бог направляет. Это совсем не так, как у меня или у вас… Извините меня, конечно. О вас я пока ничего не знаю…
Я покачал головой.
— Все в порядке… Я хорошо понимаю, о чем вы.
— Гениальность — страшно редкая вещь. Настоящую гениальность где попало не встретишь. Когда шанс пересечься с нею в жизни, просто видеть ее перед собой, сам плывет в руки — нужно ценить это как подарок Судьбы. Хотя, конечно… — Он умолк на несколько секунд, потом отвел в сторону единственную ладонь — так, словно хотел пошире развести руками. — В каком-то смысле, это очень болезненное испытание. Будто колют в меня иглой, куда-то в самое эго…
Слушая его вполуха, я разглядывал горизонт и облако над горизонтом. Перед нами шумело море, волны с силой бились о волнорез. Я погружал пальцы в горячий песок, набирал его в ладонь и выпускал тонкой струйкой. Раз за разом, опять и опять. Сёрферы в море дожидались очередной волны, вскакивали на нее, долетали до волнореза — и отгребали обратно в море.
— Но все же какая-то сила — гораздо сильнее, чем мое эго! — тянет меня к ее гениальности… К тому же, я просто люблю ее, — тихо добавил он. И прищелкнул пальцами. — Вот и засасывает, как в воронку какую-то! У меня ведь, представьте, и жена есть. Японка. И дети. Жену я тоже люблю. То есть, действительно люблю. Даже сейчас… Но когда с Амэ встретился, затянуло — просто некуда деться. Как в огромный водоворот. Как ни дергайся, как ни сопротивляйся — бесполезно. Но я сразу все понял. Такое лишь однажды случается. Эта встреча — одна на всю жизнь. Уж такие вещи, поверьте, я чувствую хорошо. И я задумался. Свяжу свою жизнь с таким человеком — возможно, потом пожалею. А не свяжу — всё мое существование утратит смысл… Вам никогда похожие мысли в голову не приходили?
— Нет, — сказал я.
— Вот ведь странная штука! — продолжал Дик Норт. — Я столько пережил, чтобы построить тихую, стабильную жизнь. И построил, и держал эту жизнь в руках. Все у меня было — жена, дети, свой домик. Работа — пусть не очень прибыльная, но достойная. Стихи писал. Переводил. И думал: вот, добился от жизни чего хотел… Я потерял на войне руку. И все равно продолжал считать, что в жизни больше плюсов, чем минусов. Только чтобы собрать все эти плюсы воедино, потребовалось очень много времени. И очень много усилий — чтобы просто взять себя в руки. Взять своими руками от жизни всё. И я взял-таки, сколько смог. Вот только… — Он вдруг поднял единственную ладонь и махнул ею куда-то в сторону горизонта. — Вот только потерять всё это можно в считанные секунды. Раз! — и руки пусты. И больше некуда возвращаться. Ни в Японии, ни в Америке у меня теперь дома нет. Слишком долго без своей страны — и слишком далеко от нее…
Мне захотелось как-то утешить его, но ни одного подходящего слова в голове не всплывало. Я просто зачерпывал ладонью песок — и высыпал его тонкой струйкой. Дик Норт поднялся, отошел на несколько метров в укромные кустики, помочился там и неторопливо вернулся назад.
— Разоткровенничался я с вами! — сказал он, смеясь. — А впрочем — давно уже хотелось кому-нибудь рассказать… Ну, и что же вы об этом думаете?
Что бы я ни думал, говорить о том смысла не было. Мы оба — взрослые люди, обоим за тридцать. С кем постель делить — каждый решает для себя сам. И будь там хоть воронки, хоть водовороты, хоть ураганы со смерчами — ты сам это выбрал, и живи теперь с этим как получается… Мне он нравился, этот Дик Норт. Столько в жизни преодолел со своей единственной рукой. Стоило уважать его хотя бы за это. Вот только что мне ему ответить?
— Ну, во-первых, я — не человек искусства… — сказал я. — И интимные отношения, вдохновленные искусством, понимаю плохо. Слишком уж это… за пределами моего воображения.
Он слегка погрустнел и посмотрел на море. Похоже, собирался что-то сказать, но передумал.
Я закрыл глаза. Сперва мне показалось, что я закрыл глаза совсем ненадолго — но неожиданно провалился в глубокий сон. Видимо, из-за пива. Когда я открыл глаза, по лицу плясала тень от ветки. От жары слегка кружилась голова. Часы показывали полтретьего. Я помотал головой и поднялся. Дик Норт играл на волнорезе с приблудившейся невесть откуда собакой. Только бы он на меня не обиделся, подумал я. Надо же — говорил-говорил с человеком и заснул посреди разговора! Уж ему-то эта беседа поважнее, чем мне…
Но что же, черт побери, тут можно было ответить?
Я еще немного покопался ладонью в песке, наблюдая, как он играет с собакой. Поэт хватал собаку за голову и прижимал к себе, точно собираясь задушить, а животное радостно вырывалось. Волны, яростно грохоча, разбивались о волнорез и с силой откатывались обратно в море. Мелкие брызги белели на солнце, слепя глаза. Какой-то я, наверное, толстокожий, подумал я вдруг… Хотя и нельзя сказать, что не понимаю его чувств. Просто — однорукие или двурукие, поэты или не-поэты, все мы живем в этом жестоком и страшном мире. И каждый сражается со своей кучей невзгод и напастей. Мы оба — взрослые люди. Каждый со своим багажом худо-бедно дотянул до этого дня. Но вываливать на собеседника свои болячки при первой же встрече — совсем не дело. Вопрос элементарной воспитанности… Толстокожий? Я покачал головой. Хотя тут, конечно, качай не качай — не решишь ни черта.
Мы вернулись на “лансере” обратно. Дик Норт позвонил в дверь, и Юки отворила нам с таким видом, будто факт нашего возвращения ей совершенно безынтересен. Амэ сидела по-турецки на диване с сигаретой в губах и, уставившись взглядом в пространство, предавалась какой-то дзэн-медитации. Дик Норт подошел к ней и снова поцеловал в щеку.
— Поговорили? — спросил он.
— М-м-м, — не вынимая изо рта сигареты, промычала она. Ответ был скорее утвердительный.
— А мы валялись на пляже, созерцали край света и принимали солнечную ванну! — бодро отрапортовал Дик Норт.
— Мы уже скоро поедем, — сказала Юки абсолютно бесцветным голосом.
Я думал то же самое. Очень уж хотелось поскорее вернуться отсюда в шумный, реальный, туристический Гонолулу.
Амэ поднялась с дивана.
— Приезжайте еще. Я хотела бы с вами видеться, — сказала она. Затем подошла к дочери и легонько погладила ее по щеке.
Я поблагодарил Дик Норта за пиво и все остальное.
— Не за что, — ответил он, широко улыбаясь.
Когда я подсаживал Юки в кабину “лансера”, Амэ тронула меня за локоть.
— Можно вас на пару слов?
Мы прошли с нею рука об руку вперед, к небольшому саду. В центре садика был установлен простенький турник. Опершись на него, она сунула в рот очередную сигарету и, всем своим видом демонстрируя, как ей это трудно, чиркнула спичкой о коробок и прикурила.
— Вы — хороший человек. Я это вижу, — сказала она. — И потому хочу вас кое о чем попросить. Привозите сюда Юки почаще. Я ее люблю. И хочу, чтобы мы встречались. Понимаете? Встречались и разговаривали. И подружились в итоге. Я думаю, из нас получились бы хорошие друзья. Помимо всех этих отношений — дочка, мать… Поэтому, пока она здесь, я хочу общаться с ней как можно больше.
Высказав все это, Амэ умолкла и посмотрела на меня долго и пристально.
Я совершенно не представлял, что на это сказать. Но совсем ничего не ответить было нельзя.
— То есть, это — проблема между вами и Юки, — уточнил я.
— Безусловно, — кивнула она.
— Вот поэтому как только она скажет, что хочет вас видеть — я сразу же ее привезу, — сказал я. — Или если вы как мать велите ее привезти — выполню ваше распоряжение, не задумываясь. Так или эдак. Но лично за себя я ничего сказать не могу. Насколько я помню, дружба — штука добровольная, и ни в каких посредниках не нуждается. Если, конечно, мне не изменяет память.
Амэ задумалась.
— Вы говорите, что хотели бы с ней подружиться, — продолжал я. — Прекрасно, что тут скажешь. Вот только — позвольте уж! — вы ей прежде всего мать, а потом все остальное. Так получилось — нравится это вам или нет. Ей всего тринадцать. И больше всего на свете ей нужна самая обычная мама. Та, кто в любую ночь, когда темно и страшно, обнимет, не требуя ничего взамен. Вы, конечно, меня извините — я совершенно чужой вам человек и, возможно, чего-то не понимаю. Но этой девочке сейчас нужны не взаимные попытки с кем-нибудь сблизиться. Ей нужен мир, который бы принял ее всю целиком и без всяких условий. Вот с чем вы должны разобраться в первую очередь.
— Вам этого не понять, — сказала Амэ.
— Да, совершенно верно. Мне этого не понять, — согласился я. — Только имейте в виду: это — ребенок, и этого ребенка сильно обидели. Его нужно защитить и утешить. Это требует времени и усилий — но кто-нибудь должен сделать это непременно. Это называется “ответственность”. Вы меня понимаете?
Но она, конечно, не понимала.
— Но я же не прошу вас привозить ее сюда каждый день! — сказала она. — Когда она сама не будет возражать — тогда и привозите. А я, со своей стороны, буду ей позванивать время от времени… Поймите, я очень не хочу ее потерять. Если у нас с ней и дальше будет так, как было до сих пор, она вырастет и совсем от меня отдалится. А я хочу, чтобы между нами сохранялась психологическая связь. Духовные узы… Возможно, я не лучшая мать. Но если б вы знали, сколько мне пришлось тащить на себе — помимо материнства! Я ничего не могла изменить. И как раз это моя дочь понимает очень хорошо. Вот почему я хочу построить с ней отношения выше, чем просто “мать и дочь”. “Кровные друзья” — вот как я бы это назвала…
Я глубоко вздохнул. И покачал головой. Хотя тут качай, не качай — уже ни черта не изменишь.
На обратном пути мы молча слушали музыку. Лишь я иногда насвистывал очередную мелодию, но, если не считать моих посвистов, мы оба долго не издавали ни звука. Юки, отвернувшись, глядела в окно, да и мне говорить было особенно нечего. Минут пятнадцать я просто гнал машину по шоссе. До тех пор, пока меня не настигло предчувствие. Мгновенное и резкое, как пуля, беззвучно впившаяся в затылок. Словно кто-то написал у меня в мозгу маленькими буквами: “Лучше останови машину”.
Повинуясь, я свернул на ближайшую стоянку возле какого-то пляжа, остановил машину и спросил Юки, как она себя чувствует. На все мои вопросы — “Как ты? В порядке? Пить не хочешь?” — она отвечала молчанием, но в этом молчании явно скрывался какой-то намек. И потому я решил больше не спрашивать, а догадаться, на что же она намекает. С возрастом вообще лучше понимаешь скрытые механизмы намеков. И терпеливо ждешь, пока намеки не превратятся в реальность. Примерно как дожидаешься, когда просохнет выкрашенная стена.
В тени кокосовых пальм мимо прошли две девчонки, рука об руку, в одинаковых черных бикини. Ступая, как кошки, разгуливающие по забору. Шагали они босиком, а их бикини напоминали какие-то хитрые конструкции из крошечных носовых платков. Казалось, подуй посильнее ветер — и всё разлетится в разные стороны. Распространяя вокруг себя странную, почти осязаемую ирреальность — словно в заторможенном сне — они медленно прошли перед нами справа налево и исчезли.
Брюс Спрингстин запел “Hungry Heart”.[59] Отличная песня. Этот мир еще не совсем сошел на дерьмо. Вот и ди-джей сказал — “классная вещь”… Покусывая ногти, я глядел в пространство перед собой. Там по-прежнему висело в небе судьбоносное облако в форме черепа. “Гавайи”, — подумал я. Все равно что край света. Мамаша хочет подружиться с собственной дочкой. А дочка не хочет никакой дружбы, ей нужна просто мать. Нестыковка. Некуда деться. У мамаши бойфренд. Бездомный однорукий поэт. И у папаши тоже бойфренд. Голубой секретарь по кличке Пятница. Совершенно некуда деться.
Прошло минут десять — и Юки расплакалась у меня на плече. Сначала совсем тихонько, а потом в голос. Она плакала, сложив на коленях руки, уткнувшись носом в мое плечо. Ну еще бы, подумал я. Я бы тоже плакал на твоем месте. Еще бы. Отлично тебя понимаю.
Я обнял ее за плечи и дал наплакаться вволю. Постепенно рукав моей рубашки вымок насквозь. Она плакала очень долго. Ее рыдания сотрясали мое плечо. Я молчал и лишь обнимал ее покрепче.
Два полисмена в черных очках пересекли стоянку, поблескивая кольтами на боках. Немецкая овчарка с высунутым от жары языком повертелась перед глазами, изучая окрестности, и куда-то исчезла. Пальмы все качали на ветру широкими листьями. Рядом остановился небольшой пикап, из него вылезли широкоплечие самоанцы со смуглыми красавицами и побрели на пляж. “Джей Гайл'з Бэнд” затянули по радио старую добрую “Dance Paradise”.
Наконец она выплакала все слезы и, похоже, чуть-чуть успокоилась.
— Эй. Не зови меня больше принцессой. Ладно? — проговорила Юки, не отрывая носа от моего плеча.
— А разве я звал?
— Звал.
— Не помню такого.
— Когда мы из Цудзидо вернулись. Тогда, вечером, — сказала она. — В общем, больше не называй меня так, о'кей?






