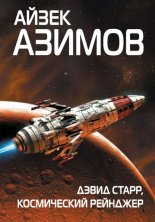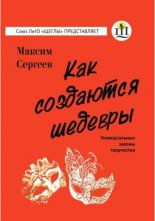Выгодный риск Чиж Антон

Хитрая зверюга поигрывала спиной, будто переваливалась с боку на бок, немного подныривала и всплывала опять. Ничего не боится хозяин пруда, нежится, дышит. Колька сразу смекнул, что сом, должно быть, размера удивительного. Пудов на пять, а то и шесть. Как бы его достать? Сети нет, не нырять же самому в ледяную воду. И тут он сообразил, как изловчиться.
Подхватил Колька багор, который был под рукой, занес над спиной сома, хорошенько примерился и всадил железный крюк в самую горбину. А как всадил, так и принялся тянуть и кричать во все горло, чтобы товарищи прибежали на помощь. Задумка удалась. Сом не сопротивлялся, Колька подтащил его к самой кромке льда. Одному дальше не вытянуть. Тут как раз Гришка с Ванькой вернулись. Колька им в запальчивости кричит: «Вон какую рыбину подцепил, чего рты раскрыли, тащите баграми, пока сом не опомнился».
Мужиков уговаривать не пришлось. Схватили багры и давай сома вместе вытаскивать. Дело пошло споро. Сом здоровенный, хорошо хоть не брыкался, а то бы ушел. Трое мужиков еле выволокли рыбину на лед. А как увидали, что за чудо поймали, так и замерли с баграми.
– Это что же такое? – только и сказал Колька в полном своем удивлении.
Да тут как раз Паплин рядом оказался. Увидал, что его работнички из воды вытянули, и сразу смекнул, что вляпались в большую беду. Тут уж затылки чесать некогда, убирать с глаз долой, пока кто не заметил. Приказал в воду столкнуть и баграми под лед затолкать. Авось не выплывет больше. Только мужики стояли, как дурни. Рукой пошевелить не могут.
Ругнулся на них Паплин в сердцах, выхватил багор и сам стал сталкивать. Край проруби рядом, да только такая тяжесть, что не идет, как примерз. Паплин в другой раз так рявкнул, что мужики очухались, стали помогать. Да только не успели. Как раз у них за спинами раздался полицейский свисток. Паплин как услыхал, так у него все нутро и обмерло. Все, поздно, попались… Как тут объяснишь…
– Это что же такое натворили?
Принесла нелегкая городового Тараскина. Откуда только взялся. Зашел городовой к проруби, и тут перед ним предстала картина во всей красе.
– Вот, значит, как лед колете, – говорит он, а сам кобуру револьверную расстегивает. – Ну молодцы, душегубы…
Паплин еще попытался объяснить:
– Да что вы, ваш бродь, в проруби сам плавал, а мои не разобрали, что к чему, вытянули, и вот…
– Сам плавал, говоришь, не разобрались, говоришь, ну вот пристав с вами и разберется, молодчиками, – говорит Тараскин и, не слушая мольбы, свистит в полицейский свисток двойным тревожным свистом, чтобы с другого поста прибежал на подмогу городовой.
А раз мужики приказу его не подчинились и багры не бросили, вынул револьвер, на них навел. С самыми серьезными намерениями. Будут знать, что полиция со злодеями шутки не шутит.
• 5 •
В толпе, что вечно спешит и торопится вверх и вниз по Тверской улице, шел ничем не примечательный господин. Проходящие мимо дамы бросали на него взгляд, какой любая воспитанная дама бросает на улице, – куда ни попадя, по причине неизбежного любопытства. По мнению дам, хотя кто его знает, какое у них мнение, господин был ничем не примечательным.
Судя по одежде – скромного достатка, хотя воротник меховой и пальто приличного сукна, на голове теплая шляпа, на ногах – начищенные ботинки (дамы часто обращают внимание на ботинки, как будто других достоинств недостаточно). Скорее всего – рядовой чиновник городской управы. Скользнув взглядом, дамы теряли всякий интерес к прохожему. Не замечая некой строгости, если не сказать холодности, на его лице, какую в Масленицу редко встретишь.
Господин упускал взгляды, какие в изобилии сыплются на неженатого мужчину после тридцати лет. Казалось, ему вообще дела нет до того, что происходит на улице, до разукрашенных витрин, проезжавших саней, криков разносчиков и прочей праздничной суеты. Он шел к выбранной цели, не спеша, погрузившись в размышления, но какие – невозможно было отгадать по его лицу. Дойдя до угла Тверской и Малого Гнездниковского, он остановился, немного постоял, словно взвешивая, и не свернул в переулок, куда намеревался, а двинулся дальше, к Страстной площади и Тверскому бульвару.
Пушкин, а это был именно он, в который раз бессовестно опаздывал на службу. Нельзя сказать, что он нарочно испытывал терпение начальника сыска Эфенбаха или показывал характер. Ничего подобного себе бы не позволил.
С некоторыхпор, а именно с десятых чисел января, Пушкин потерял всяческий интерес к сыску. Потерял настолько, что чуть было не написал прошение об отставке. Точнее, уже написал, но пока держал дома, в ящике письменного стола. Да и дел, которые могли занимать его ум, не попадалось.
А попадались самые мелочные делишки: приказчик москательной лавки убил своего хозяина, украл из кассы пятьдесят рублей, напился, протрезвел и пришел каяться в содеянном. Супруга мелкого чиновника ударила мужа из ревности подсвечником, а когда поняла, что убила, села рыдать, соседи услыхали плач, вызвали полицию. У вдовы-генеральши на улице срезали сумочку со ста рублями в ассигнациях. И тому подобное.
Вместо расследования преступлений чиновникам сыска в основном доставались горы бумажной работы. Справки, отношения, запросы по самым пустячным поводам сыпалась как снег и требовали ответов. Пушкину оставалось только одно: избегать подобной участи. Для чего он нашел прекрасную отговорку: занятия в архиве полиции. Ни в какой архив он, конечно, не ходил, но Эфенбах делал вид, что позволяет своему лучшему чиновнику заниматься архивными делами. До поры до времени.
Веской причины являться на службу вовремя сегодня у Пушкина не было. Если бы такая причина появилась, уж его бы подняли с постели в любой час ночи. Потому между скукой приемной части сыска и визитом к тетушке он выбрал более полезное.
Тетушка проживала поблизости от Страстной площади. Из окон ее квартиры памятник Поэту был виден чуть-чуть в профиль. Но это и так уже известно. Куда менее известно, что Пушкин стал часто, если не сказать регулярно, навещать тетушку. Чего за ним раньше не водилось. Нельзя сказать, что Пушкин не любил родственницу. Он ее обожал, как может обожать только любимый племянник, воспитанный тетушкой. Именно поэтому до недавнего времени он старался бывать у тетушки как можно реже.
Все изменилось. Теперь Пушкин заглядывал к Агате Кристафоровне раз, а то и другой на неделе. Причина была столь проста, если не сказать очевидна, что он ни за что бы не признался. Повод навестить тетушку с утра пораньше был как никогда удачным: в четверг Масленицы следовало посещать с визитом тещу и поедать ее блины. Тещи у него не было, а тетушка – равноценная замена. Какая разница, у кого наедаться до потери дыхания. Главное, масленичную традицию соблюсти.
Поднявшись на второй этаж, Пушкин покрутил рычажок механического звонка. Тетушка держала кухарку Дарью, которая выполняла обязанности горничной и прислуги. Открывать любимому племяннику не спешили. Более того, за дверью послышалась возня, как будто тетушка спорила с кем-то, понизив голос. Это было столь непривычно, что Пушкин прислонил ухо к створке.
Действительно, в прихожей царили суета и шуршание, какое может происходить, когда женщины мечутся в панике и не знают, что делать. Не желая отступать, а более оставаться голодным, Пушкин решительно крутанул звонок еще раз и добавил настойчивый стук в створку. Мало того, громким голосом сообщил:
– Тетушка, это я… У вас все в порядке? – тем самым давая понять, что будет настойчив не только как голодный племянник, но и как чиновник сыска, заподозривший неладное.
Из прихожей опять донеслась шумная неразбериха. И все смолкло. После чего дверной замок издал жалобный скрип. Тетушка негостеприимно выскользнула за порог, заслонив дверь.
– А, это ты, мой милый, – сказал она, как будто запыхалась. – Не ждала тебя сегодня.
Обладая острым, почти математическим умом, тетушка хронически не умела врать. Иначе придумала бы другую отговорку: на прошлой неделе настойчиво звала племянника на блины. Именно в четверг. И вот результат…
– У вас гости? – спросил Пушкин, не зная, как вести себя в такой ситуации. Никогда тетушка не встречала подобным образом: без объятий и поцелуев, которых Пушкин стеснялся.
– Какие гости? С чего ты взял? Никаких гостей у меня нет…
Вранье слишком наивное, чтобы не быть очевидным. Кого может скрывать тетушка, Пушкин и думать не хотел. В конце концов, она имеет право на личную жизнь. Еще не слишком старая женщина. Некоторые в ее возрасте другой раз замуж выходят. И забывают любимых когда-то племянников…
Печаль тенью накрыла сердце Пушкина.
– Простите, что помешал, – он холодно поклонился, намереваясь покинуть дом, ставший чужим для него.
Тетушка бросилась и поймала за рукав.
– Постой, мой милый… Случилось несчастье: у меня сгорели блины…
В самом деле, от платья и волос тетушки исходил густой запах гари. Как будто сама стояла в чаду у плиты. Этим можно объяснить, что вместо блинов Пушкина ждали угольки: готовить тетушка не умела катастрофически. Кухарка спасала ее и от голода и от позора перед гостями.
– Отпустили Дарью?
– Вчера отпустила, сегодня вернется, – с тяжким вздохом призналась преступница. – На сковородке все сгорело дотла… Еще немного – и сгорела бы и кухня, и остальное. К счастью, дом застрахован… Прости, ко мне не войти, буду вскрывать окна и проветривать… Хотела тебя порадовать, и вот чем кончилось… Когда запах немного выветрится, приходи, мой милый… Хоть сегодня вечером… И не обижайся…
Пушкина наградили привычными объятием и поцелуями. Замена блинам откровенно слабая, но выбирать не приходилось. Ничего не оставалось, как брести на службу. Нарочно громко топая, Пушкин спустился по лестнице, хлопнул входной дверью и затаился внутри. Наверху, где он не мог увидеть, скрипнула дверь тетушкиной квартиры и послышался тихий шепот. Она с кем-то спорила. Это явно была не Дарья…
Он мог бы взбежать и разоблачить хитрость. Но ставить тетушку в неловкое положение… Нет, так любящие племянники не поступают. Даже оставшись без блинов.
• 6 •
Опыт полицейской службы говорил приставу Носкову, что люди часто творят глупости, о которых потом сильно жалеют. Творят не по злобе или коварству, а поддавшись безумному искушению. Мирный обыватель может вдруг накуролесить такое, за что потом будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь. И сам не объяснит, что его толкнуло, какая сила заставила убить или взять чужое.
Загадочное явление человеческой натуры. Как будто в потаенных глубинах души кроется кровожадное животное, которое до времени сидит на цепи. Стоит цепи ослабнуть, как зверь вырывается наружу. Почему-то на Масленицу люди совершают больше глупостей, чем обычно. Носкову не нужно было заглядывать в статистику, чтобы в этом убедиться. Который год повторяется одно и то же. В его участке и в любом другом.
Стоя на льду Нижнего Пресненского пруда, длинного и вытянутого, как сложенный блин, пристав без пояснений знал, что случилось. И преступников знал. Сам выписывал разрешение на рубку льда. И старший артельщик Паплин был знаком с ним не один год. То, что артельщики натворили, ничем иным, кроме внезапного безумия, объяснить нельзя. Покусились мужики на легкую добычу. Ан не вышло. Теперь будут слезы лить и клясться в невиновности. Да только напрасно. Виновность их очевидна.
– Что же ты, Иван Гаврилыч, на злодейство пошел, – безо всякой злобы сказал пристав Паплину. Мужик стоял, понурившись, под охраной трех городовых. Его работники жались к старшему. – Скажи, что бес попутал, что ли…
– Ничего не попутал, ваш бродь…
– Значит, спьяну, что ли, на золотишко покусились?
– Не было такого… Сами знаете, копейку честным трудом добываем…
– Ну тогда сознайся, облегчи душу…
– Не в чем нам каяться… Не было от нас никакого злодейства…
Тело, лежавшее у ног пристава, доказывало обратное. Особенно багор, воткнутый в спину.
– Не было? Вот, значит, как… Тогда расскажу, что было. Пришли на лед, заметили господина в богатой одежде, лежал пьяный, в беспамятстве. Ты, Иван Гаврилыч, и смекнул, что при нем ценности имеются. Карманы обшарили, часы срезали, шубу сняли. А потом багром под ребра – и в воду… Да только не повезло тебе, Тараскин на посту внимательность проявил, за что ему будет вынесена благодарность по службе…
– Рады стараться, ваш бродь, – молодцевато ответил городовой и суровым взглядом припечатал злодеев…
– Не трогали мы его, господин в проруби плавал, – подал голос Колька.
Паплин на него рыкнул, но было поздно. Пристав потребовал, чтобы малый все рассказывал, как на духу. За что ему выйдет послабление. Колька и рассказал. Выслушав, Носков понял, что мужики не так просты, как кажутся: заранее сговорились. Значит, за ними могут и другие делишки водиться. Надо будет проверить по тем, что по участку проходят. Вдруг раскрытие случится.
– Куда шубу дели? – спросил он, зная, что ценная вещь уже припрятана в одном из сугробов. Не будешь же весь пруд обыскивать.
– Не было на нем шубы, – ответил за всех Паплин. – И не убивали мы господина этого… Колька как есть вам доложил… Вся вина, что я хотел тело обратно в воду скинуть и под лед затолкать… Чтобы вот такими допросами не мучили… Мы люди смирные, душегубством не промышляем…
Упорный оказался артельщик. Упорный и жадный. Надеется еще выкрутиться. Признает малую часть вины, чтобы на него большую не возложили.
– Значит, господин без шубы лежал… А багром его по хребтине саданули, чтобы разбудить. Так дело было?
Паплин тронул плечами, будто хотел броситься, но остался на месте.
– Вытащили его из проруби помершим… Багром Колька не бил, а подцепил, чтобы из воды достать…
Тут уж Носков позволил усмехнуться.
– А работник твой только что при всех показания дал, дескать, сома выудить решил… Глупо врешь, Иван Гаврилыч, глупо… Сознавайся… Запирательством только хуже себе делаешь…
– Не в чем нам сознаваться, ваш бродь, не убивали мы господина этого. И по карманам у него не шарили… Вот тебе слово, – и Паплин тщательно перекрестился.
Глядя на старшего, осенили себя крестным знамением Колька с Ванькой и Гришка.
На пристава это не произвело впечатления. Слишком много повидал он воров и убийц, которые самым истовым образом крестились и божились. Ничуть не боясь, что постигнет их кара или молния сразит на месте. Ничего, живехонькие отправлялись на каторгу. Настоящая расплата наступала там…
– Выходит, говорить с вами больше не о чем, только мерзнем зря. – Пристав плотнее запахнул концы башлыка, наверченные на шее. – Тараскин, задержанных в участок доставляй, караульного оставь у тела, пока санитарная карета не прибудет. Проследи, чтобы не перепутали и привезли к нам в Пресненский полицейский дом. А не куда им на ум взбредет… Дело оформим быстро, лишь бы опознание провести… Ну ничего, установим личность, передадим дело в суд, и там уже получите свое…
Городовой, козырнув, принялся толкать мужиков к заснеженному берегу. Паплин насупился и недобро хмыкал. А Колька вовсе заплакал. Арестованные уходили по льду пруда, оставляя дорогой инструмент и волокуши, на которых возвышались три ряда ледяных брусков. Пропала артель, пропало дело…
Напоследок пристав взглянул на тело. Что-то показалось ему странным, чего он не мог уловить и сказать точно. Лишние мысли ни к чему, преступники пойманы на месте преступления. Лучше и быть не может.
Отогнав сомнения, Носков быстрым шагом, согреваясь, направился к полицейской пролетке, что дожидалась на Конюшковской улице, шедшей вдоль пруда. Он был чрезвычайно доволен, что и это происшествие раскрылось так легко. Сегодня был удачный день: с утра уже второе дело, законченное одним махом. Редкое везение полицейской службы.
• 7 •
Не найти во всем Департаменте полиции Российского государства другого полицейского чина, который бы так ненавидел Масленицу, как ненавидел ее обер-полицмейстер Москвы полковник Власовский. Во всяком случае, в Москве – точно не найти. За отдаленные местности империи ручаться трудно, там своих чудаков хватает.
Причина его ненависти крылась глубоко. Во всем и везде Власовский старался навести порядок, причем порядок основательный. Чем противоречил коренным основам российского уклада жизни. Начиная с первого года властвования в Москве, Власовский добился зримых успехов в наведении порядка: улицы стали относительно чисты, городовые находились на постах и днем, и ночью, извозчики не смели требовать грабительскую плату, особенно с приезжих гостей. И даже кое-где купцы перестали обвешивать и обсчитывать. В крупных магазинах и лавках, разумеется. В Охотном ряду как продавали тухлятину до Власовского, так продавали и при нем. И будут продавать впредь до скончания века.
Железный кулак обер-полицмейстера и его стальная глотка наводили порядок, колотя по хребтинам и головам. Порядок кое-как в Москве устанавливался. Особенно в отчетах, которые Власовский предоставлял генерал-губернатору, великому князю Сергею Александровичу, а затем отсылал в столицу.
Только на двух явлениях не отразился порядок, который устанавливал Власовский. Незыблемой крепостью стояла Сухаревка – самый страшный и бездонный, как ад, рынок Москвы, место, куда полиция и днем не спешила показываться. С Сухаревкой (как и с Хитровкой) ничего нельзя было поделать: только снести под корень и заложить брусчаткой. На что даже лихости Власовского не хватало.
Другой бедой стала Масленица. Ну как тут наведешь порядок, когда Масленица – в застольях каждого дома, в горах блинов в каждом трактире, в гуляниях и катаниях с горок на площадях. Кажется, Масленицей пропитались мозги каждого москвича. И ничего поделать с этим обер-полицмейстер не мог. Только пуще злился, только выпускал грозные циркуляры по полицейским участкам. Да толку-то…
В этот год Масленица нанесла Власовскому удар, откуда не ждали. По этой причине обер-полицмейстер вызвал к себе начальника сыска. Метод был простой и проверенный: устроить взбучку или выволочку, смотря по настроению, благо статский советник Эфенбах всегда под рукой. Не то что приставы полицейских участков, у которых оставался шанс вовремя спрятаться.
Прибыв в кабинет обер-полицмейстера, Эфенбах сразу понял, что в очередной раз избран мальчиком для битья. С чем умел справляться по-своему. Он вытянулся по стойке «смирно», являя образец преданного служаки. Сесть Власовский не предложил, возвышался над письменным столом и потрясал какой-то желтой бумажкой, судя по всему, телеграммой.