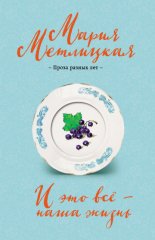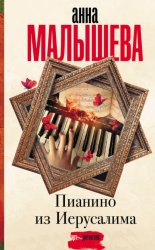Бой бабочек Чиж Антон
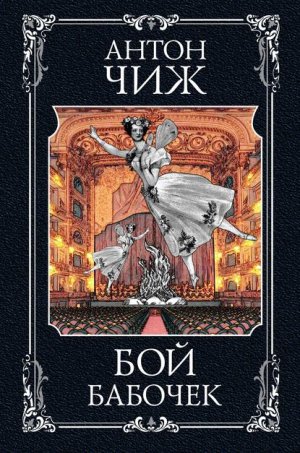
Кроме безграничной наглости (о которой известно каждому), Ванзаров обладал излишней жалостью, переходящей в милосердие, недопустимое для чиновника. Ему стало немного стыдно, что он так лихо обошелся с хитрившим начальником.
– Современный театр перестал быть искусством, – как бы извиняясь, пояснил он. – Искусство должно вызывать ужас, открывать бездны, над которыми стоит человек. Безграничное небо надо мной и моральный закон во мне. Вот что такое искусство. Великое искусство требует жертвы. Иногда крови. А театр – дешевый балаган. Нынешний – особенно. Одно только пошлое зарабатывание денег на пошлостях. Я в этом не участвую.
В другой раз Ванзаров никогда не позволил бы себе выразить так прямо свои мысли. Но долгое чтение классической литературы сыграло с ним злую шутку. В полиции нельзя говорить то, что думаешь. А лучше не думать совсем.
Справившись с ударом, Шереметьевский понял, что остается только один путь – прямой и честный.
– Родион Георгиевич, у меня к вам просьба, – без затей сказал он. – Можете считать, что личная. Услуга, о которой не забуду. Никому другому поручить не могу. Вы единственный, кто умеет держать язык за зубами. Прошу помочь…
Надо было срочно найти веский аргумент, пока не втянули неизвестно во что.
– У меня до отпуска дела не разобраны, – со всей серьезностью сказал Ванзаров.
Шереметьевский хищно улыбнулся:
– Ничего, другим поручу. Первый раз, что ли, за вами доделывать?! Какие могут быть счеты между своими?
– Не успеть. Поезд в восемь вечера.
– Успеете! Конечно успеете! – Шереметьевский распахнул объятия. Будто хотел прижать к груди дорогого отпрыска. – С вашими талантами вам хватит нескольких часов. Тем более что вы не знаете, о чем хочу попросить. Поверьте, не пожалеете. Вам выпал редкий шанс познакомиться с самой красивой женщиной в мире. И не просто познакомиться, а помочь ей, защитить ее. Внукам своим будет рассказывать… Ну как, неужели от такого откажетесь?
У любого непобедимого героя имелось слабое место. Древнегреческие мифы об этом достоверно сообщали. Было такое место у Ванзарова. Даже слишком слабое для чиновника сыска, владевшего искусством логики, маевтики, составления психологического портрета и еще кое-какими способностями, о которых другим знать не полагалось. Что поделать, это слабое место знакомо многим мужчинам.
– Кто она?
– А вот прежде ответьте мне, кто вы: отерьянец или кавальерист?
Ванзаров ненароком подумал, что у начальника сыска немного помутилось в голове, раз спрашивает его – «вольтерьянец» он или «кавалерист». Допустить такое помутнение было бы слишком нелогичным и опрометчивым. И он честно признался, что понятия не имеет, о чем идет речь.
Если бы Шереметьевский не знал, кто перед ним, то наверняка решил бы, что его разыгрывают. Но это был не розыгрыш! Нашелся единственный мужчина в Петербурге, который не знал ничего ни про Отеро, ни про Кавальери! Ну конечно – он же не ходит в театр! Да это просто золото, а не человек. Тут Шереметьевский забыл еще про одного мужчину, который не принадлежал к враждующим партиям, – про себя. Ему было все равно, что та певичка, что эта. Какая разница?
– Тем лучше, что не принадлежите ни к одной из партий. Скажу напрямик: ваша помощь нужна самой яркой звезде сцены. Ей угрожает опасность, – о прочих обстоятельствах он благоразумно промолчал.
Ванзаров глянул на старинный напольный маятник, засунутый в угол еще, быть может, самим Путилиным. При Вощинине маятник точно стоял. Время было раннее. Несколько часов в запасе есть. Отличный предлог забыть про бумаги.
– Хочу предупредить наперед, Леонид Алексеевич: никакие самые красивые женщины не заставят меня отменить отпуск, – сказал Ванзаров и добавил: – Это незыблемо.
– Об этом и речи нет! Быстро разберетесь, и дело с концом.
– Прошу как можно больше фактов о самом деле и персоне.
Шереметьевский потирал руки. Мысленно, разумеется. Если самый неприятный чиновник поможет его карьере – разве это не чудо?
6
С варшавского поезда, прибывшего на Варшавский вокзал, сошел господин в добротном костюме, явно от варшавского портного, который так раскроит рулон доброго английского сукна, что и клиент доволен, и детям на жилетки останется.
Носильщик принял одинокий чемодан, что для путешествующего в столицу империи можно назвать «приехал налегке». Господин дошел до конца перрона, приказал носильщику положить чемодан прямо под ноги, заплатил без щедрости и остался в потоке выходивших пассажиров. Вид его не вызвал подозрений у дежурного жандарма: приезжий, вежливо приподняв шляпу, улыбнулся ему. Ясно, прибыл провинциал. В столице эдакой приветливостью жандармов баловать не принято. А принято обходить стороной.
Кода толпа схлынула, господин заприметил парнишку, что уселся на низенький заборчик, оберегавший кусты сирени. Парнишка выглядел щеголем: в новенькой фуражке-московке, начищенных сапогах, чистой рубахе навыпуск и пиджачке по плечам. Юнец чуть кивнул приезжему и вразвалочку двинулся к привокзальной площади, лузгая семечки. Там он задержался около пролетки, ничем не примечательной, пока приезжий закидывал в нее чемодан и забирался сам, и напоследок скоком уселся на багажное место между задними колесами. Извозчик не повернулся к пассажиру, не спросил «куда изволите?», не сторговался о цене, а тронул вожжи и поехал.
Пролетка катила по улицам, господин вертел головой, с любопытством осматривая столицу. Внимание его привлекали городовые, что перетаптывались на постах. Каждому он улыбался и провожал взглядом. Наконец пролетка остановилась на Садовой улице напротив шумного и нечистого Никольского рынка. Торговали здесь всякой мелочовкой, если не мусором, какую на другие рынки и не пустили бы. Здесь обитало и кормилось такое количество голытьбы, что Никольскому впору быть ближайшим родственником Сухаревки или Хитровки. Хотя и без московского беспредельного мрака жизни воровской.
Подхватив чемодан, приезжий последовал за парнишкой. На него поглядывали с удивлением: что за сумасшедший на рынок с чемоданом пожаловал, надо бы его от вещичек избавить. Углядев, за кем странный мужчина следует, мазурики сразу теряли интерес к приезжему. Так, без приключений, гость прогулялся насквозь внутреннего двора рынка. Парнишка подвел к широкой лестнице, ведущей в полуподвал, кивнул и исчез. Дальше провожатые не требовались. Подхватив чемодан под мышку, гость спустился по старинным, битым ступеням.
Внизу открылся склад, заставленный горами мешков. Что хранилось в них, было ведомо одному хозяину: крепкому жилистому мужику, что сидел за старой конторкой, у которой подкоротили ножки. Для удобства сидения. Вид хозяина и одежда говорили о чрезвычайной скромности, которая всегда скрывает змеиную хитрость. Отложив чернильную ручку на конторскую книгу, хозяин не мигая уставился на прибывшего. Гость выпустил чемодан, который благополучно шмякнулся на каменный пол.
– Мир дому сему! – сказал он с мягким польским акцентом, сняв шляпу и глубоко поклонившись.
– Заходи, коли добрый человек, – ответил мужик, поманив пальцем.
Поляк приблизился и в другой раз отвесил поклон.
– Мое почет и уважение пану старшине!
– Благодарствуем, что навестили. Для нас такая радость! Сам пан Диамант к нам изволил пожаловать. Такой известный человек, в каждом разыскном альбоме фотография пропечатана. Всякий раз как рассматриваем, так и диву даемся: до сих пор не повязали. О делах твоих наслышаны много. Большая честь, одним словом. – Гостю указали на стул – крайне ветхий, будто стоявший здесь с основания Петербурга.
Диамант сел послушно и аккуратно, как школьник, сжав колени и прикрыв их шляпой.
– Таки розум имам, – начал он, немного путаясь в словах. – В дом обцы не можна без дозволеня ходить. Не можна без дозволу, так сёнджем, прошу пана, старшина…
Хозяин степенно кивнул.
– Это правильно, пан Диамант. Без разрешения в чужой дом входить у нас не принято. Ведь как бывает. Не знает человек порядка, сунется, наделает дел. А потом идет по улице и вдруг упал замертво. А кто его финкой в бок угостил – поди разберись.
– То так, – в ответ кивнул Диамант. – Без дозволу не можна.
– Вот и хорошо. С чем пожаловал?
– Могу мувичь, пан старшина?
– Говори, пан Диамант, чужих ушей нет. Давно их отрезали. Так с чем пожаловал?
Воровской старшина Петербурга, известный по полицейский картотеке под кличкой Обух, а избранные именовали его уважительно, по имени-отчеству, был человеком страшным, но мудрым. Железной рукой держал он вверенный ему воровским миром город. Держал крепко, но справедливо. Виновные в проступках не наказывались, а просто исчезали. Иногда всплывая по весне в реках и каналах. После парочки уроков желающих перечить Обуху больше не нашлось. Включая залетных гастролеров. Все зарубили на ломаных и битых носах своих: без разрешения соваться в столицу не следует.
– Дело есть, большое дело, Семен Пантелеевич, – сказал Диамант, не меняя позы. Только очаровательный польский акцент сам собой растаял.
– Знамо, большое. За малым не пришел бы…
7
Хоть Ванзаров избегал театров, но про «Аквариум» слышал. Не было столичного жителя, который хоть раз не побывал в роскошном саду или каменном театре, нынче похожем на купеческий сундук и сказочный замок одновременно. Основатель театра не жалел фантазии и денег, чтобы поразить публику до потери речи.
Еще в старом здании были устроены гигантские аквариумы, в которых плавали стаи разнообразнейших рыб: от родимых осетров до самых редких африканских рыбок. На сцену приглашались лучшие исполнители и музыканты, и даже сам Чайковский слушал здесь сюиту из «Щелкунчика» и остался доволен, как говорят.
Семь лет назад театр был основательно перестроен и оборудован и теперь считался чуть не самым современным по сценической механике и самым большим частным театром в России. А когда в саду театра построили копию Эйфелевой башни, высотой в два этажа, слава «Аквариума» загремела в полный голос. В этом году достраивался еще Железный летний театр – огромный навес из стальных клепаных конструкций. Так что к следующему сезону в «Аквариуме» будет три сцены.
Все эти бесполезные сведения Ванзаров припомнил, ведь он, как любой человек, каждое утро открывал городские газеты. Проку в этих сведениях для предстоящего дела не было никакого. На извозчике, щедро предоставленном 3-м Казанским участком, он подъехал к саду, начинавшемуся от Каменноостровского проспекта и окружавшему театр буквой «Г».
Окинув взглядом здание, Ванзаров остался печально равнодушен к крикливой роскоши, к гирляндам цветов и фонариков, развешанных по саду, к летней сцене, видневшийся из-за растительности, и летней веранде ресторана. Будь его воля, снес бы он эти хоромы и опять разбил бы огороды с капустой. По примеру Овидия. Потому как от капусты польза в щах, а от театра – никакой. К счастью хозяина «Аквариума», такое ледяное сердце было единственным в столице и окрестностях. За кустами черемухи он заметил господина, который прижимал к себе массивный букет белых цветов, кажется, хризантем. «Еще один сумасшедший любитель театра», – с брезгливостью патриция подумал Ванзаров. За что не следует его осуждать: всеми мыслями он был уже в Элладе.
Направляясь к входным дверям, он еще приметил и городового, который находился явно не на своем посту. В лицо старого полицейского припомнил, но имени не знал. А потому сделал вид, что не заметил.
Стеклянные двери, привычно впускавшие публику, сами собой распахнулись.
– Опаздываете, у нее все собрались полчаса назад, – выговорил ему строгим тоном юноша в не менее строгом черном костюме.
Ванзаров не стал уточнять, что молодой человек ошибся, и молча кивнул.
– Вы откуда? – спросил юноша, пропуская перед собой.
– Из полиции, – уклончиво ответил он.
– А, «Вестник полиции»[6]. Приятно, что официальная газета проявила интерес к нашему великому событию. Прошу…
Юноша торопливо шел впереди. Минуя коридоры для публики, они прошли в артистические помещения. Здесь пахло потом, пудрой, клеем. И фальшью, как показалось Ванзарову. Подойдя к двери отдельной гримерной комнаты, юноша тихонечко распахнул ее и одними губами пригласил войти.
В гримерной было не протолкнуться. Уже с порога Ванзаров узнал некоторые лица: петербургские репортеры. Если может быть что-то хуже артистов, то это газетчики. Лезут куда не следует, пристают с неудобными вопросами, мешаются под ногами. И вечно хотят узнать то, что им знать не следует. Причем обязательно раньше всех. Отвратительные личности, одним словом. Но сейчас эти хищные личности слишком заняты: все их внимание приковано к даме, которая полулежала на софе. Ванзаров постарался оказаться у всех за спинами, что ему удалось с некоторыми усилиями. Пришлось протиснуться за подставку с китайской вазой, из которой торчал гигантский букет живых роз. Надо сказать, что в гримерной цветов было куда больше, чем репортеров. Букеты большие и малые торчали из каждого угла и на каждом свободном месте, нагнетая удушливый аромат целого сада роз.
Стараясь держаться стены, чтобы не снести вазу, он нашел устойчивое положение и смог рассмотреть ту, которой грозила смертельная опасность. Одного взгляда было достаточно, чтобы сердце Ванзарова, совсем не такое стальное, как его логика и разум, вздрогнуло и упало. Красивее женщины он еще не встречал.
Нет, вообще-то он видел ее изображение. Как-то раз, задержавшись у газетного лотка, Ванзаров заметил открытки с этим лицом. Тогда он подумал, что смертная женщина не может быть так красива, наверняка вымысел художника. Сейчас видел ее перед собой. Смотреть было трудно. Она была прекрасна, как наяда, как нимфа, как мраморная статуя. Ну с кем же иным мог сравнить ее Ванзаров, как не с древнегреческими образцами. В ее лице, немного кукольном, с дерзко вздернутым носиком, было то, что сражает мужчин наповал: смущенная невинность вместе с наивной порочностью. Смесь ужасной, разрушительной силы. После которой у мужчины остаются развалины в сердце. Ну, и в душе.
Она была в легком летнем платье с излишне открытым декольте, подчеркивающим правильную форму груди. Из украшений только нить жемчуга. Правда, невероятной длины: полтора аршина[7], не меньше. Нимфа беззаботно крутила нить, будто простую веревку. Ванзаров невольно подумал, что в женских ручках его годовое жалованье, а то и больше. Мысль о деньгах помогла оторвать взгляд от ее лица. Ванзаров заставил себя пройтись по физиономиям репортеров.
В них не было ничего волшебного. Наоборот: простая хищность голодных собак. Собаки облизывались, но не могли накинуться на лакомый кусок. На французском с дурным произношением они задавали вопросы, какие должны задавать: «Какие цветы ваши любимые?», «Какую партию хотели бы исполнить?», «Что думаете о предстоящем бенефисе?» и тому подобную глупость. Один из стаи, кажется из «Петербургского листка», спросил:
– Говорят, что ваша соперница, мадемуазель Отеро, сильнее вас голосом. Что скажете?
– У меня нет и не может быть соперниц, – ответили ему мягко и нежно.
Ее взгляд нашел Ванзарова. Она заметила его – мужчину, который вел себя не как все, а, напротив, держался в тени. Ванзарову пришлось нелегко, когда он заглянул в эти… ну, в общем, чрезвычайно красивые глазки. Да, глазки были его слабым местом. Ему было трудно, но он выдержал. Нимфа отвела взгляд.
– Вас называют самой красивой женщиной в мире. Что скажете?
– Пусть об этом судят те, кто так говорит, – последовал довольно умный ответ.
«Собаки пера» еще накидывались с вопросами, пока нимфа не встала и не поблагодарила за интервью. Она будет рада видеть каждого на бенефисе, входные билеты можно получить в дирекции. Стая выметалась, унося с собой запах нечистой одежды и типографской краски, от которого не спасали розы. Ванзаров вынужден был прикрыться плюшевой драпировкой, свисавшей у двери. Не хватало, чтобы его узнали и начались новые вопросы. Когда последняя спина исчезла, он вышел из укрытия и быстро прикрыл дверь. После чего отдал самый вежливый поклон.
– Я ответила на все вопросы, – сказала нимфа, разглядывая репортера, сильно не похожего на собратьев. Женским взглядом она отметила крепкую фигуру, бычью шею, роскошные усы вороненого отлива, русый вихор и добрые глаза с немного наивным детским выражением.
– Позвольте представиться, мадемуазель, – начал он, с трудом вытаскивая из памяти французские слова. – Чиновник сыскной полиции Ванзаров. Прибыл по поручению, чтобы оградить вас от угроз.
Мадемуазель нимфа о чем-то раздумывала, но не более секунды, улыбнулась (лучше бы он не видел эту улыбку) и протянула ему руку. Для поцелуя.
– А, как приятно, синьор Фон-Сарофф, – произнесла она по-своему трудную фамилию. – Рада знакомству. Лина Кавальери…
Он чуть коснулся нежной, мягкой, ароматной, душистой, бархатной ручки и утонул в ней. Поцелуй вышел чуть более долгим, чем позволяют приличия. Но Кавальери не выдернула руку из-под его губ, пока он сам не заставил себя оторваться.
– Вы, русские, такие страстные, – сказала она с улыбкой. – Целуете руку так, будто хотите овладеть женщиной, съесть ее целиком.
Это была правда, в которой Ванзаров никогда бы не признался.
– Мадемуазель Кавальери, что за угроза вам поступила? – спросил он натянутым от напряжения голосом.
– Ах да! – вздохнула Кавальери и обернулась к гримерному столику с роскошным зеркалом. – Куда его засунула?
Кончик пальчика прикусили белые зубки. О, эта итальянская легкомысленность! Что тут скажешь?..
Угроза нашлась. Нашлась в малахитовой шкатулке. Явно подарок от поклонника с Урала. Кавальери протянула сложенный вдвое лист плотной писчей бумаги. Ванзаров развернул его. Всего несколько строчек, написанных чернилами от руки:
«Коварная! Твой срок земной жизни истек! Часы вечности вот-вот отобьют твой последний час! Готовься к неизбежному, несчастная! Я иду за твоей душой!»
Подпись была еще более зловещей: «Беспощадный Мститель».
Получив такую угрозу, любая девушка заработает интересную бледность лица. Или упадет в обморок. Но сейчас на Ванзарова смотрели такие прекрасные, нежные, светлые и бездонные глаза. От него ждали ответа. А он не знал, что сказать.
– Ужасно, – наконец произнес он.
– О, благодарю вас, синьор Фон-Сарофф!
Ему захотелось найти еще две-три не менее страшные записки, чтобы услышать подобную благодарность.
– Сыскная полиция Петербурга сделает все возможное, чтобы защитить вас, мадемуазель, от любой неприятности, – только и сказал он.
– Как это чудесно! Вы – готовы меня защитить!
Готов ли он? Что за вопрос? Ванзаров был готов.
– Позвольте вопрос?
– О да, конечно!
– Как у вас оказалось это письмо?
– Я нашла его… Подсунули под дверь…
– Когда?
В задумчивости она поиграла петлей жемчужин.
– Кажется, дня три назад… Или раньше…
– Утром или вечером?
– Не помню… Утром… нет, вечером! После концерта!
– Опишите, как это было.
На хорошеньком личике мелькнула тень недовольства.
– Вошла в гримерную… У меня были цветы, много цветов… И вдруг увидела ее. Я сразу испугалась и поняла, что это опасно.
Ванзарову не хотелось больше ничего спрашивать, но он не мог удержать себя.
– У записки был конверт?
– Да, был… Ах нет, не было… Вот так и лежала. Горничная Жанетт мне подала.
– Так ее нашла горничная?
– О, вы правы, синьор Фон-Сарофф! Это горничная… Нет, я вспомнила: Жанетт только указала на нее, а я подняла. Она решила, что я обронила письмо.
– Предполагаете, кто этот «беспощадный мститель»?
Кавальери произнесла энергичную итальянскую фразу, смысл которой и без перевода был понятен. И добавила:
– Это все они!
– Кто – они? – спросил Ванзаров, чувствуя себя последним дураком.
– Сумасшедшие поклонники этой ведьмы Отеро. Кто-то из них! Кто же еще? Она хочет меня уничтожить. Но у нее ничего не выходит. Слаба талантом. И действует таким вот коварством. Это дело рук кого-то из ее любовников. Мерзкая дрянь! – И Кавальери добавила итальянское словцо, словно дала оплеуху сопернице.
Ванзаров бережно сунул записку во внутренний карман пиджака.
– Мадемуазель Кавальери, можете ни о чем не беспокоиться, – сказал он. – Более вам ничего не угрожает. Обещаю вам. Вы под защитой сыскной полиции.
Личико нимфы осветила улыбка, иначе и не скажешь.
– Как это приятно слышать, синьор Фон-Сарофф! Опасности больше нет! Я так волновалась, что пронюхают репортеры. Слухи у вас расходятся, как пожар в лесу. Что скажет публика!
Ванзаров подумал, то публика как раз была бы рада тому, что над звездой нависла опасность. Все бы побежали смотреть.
– Синьор Фон-Сарофф, а моим драгоценностям тоже ничего не угрожает? – она сложила на бархатном декольте ручки, как невинное дитя. – Без моих драгоценностей я не могу жить! Лучше пусть у меня отнимут жизнь, чем мои брильянты!
– Им тоже ничего не угрожает, – сурово ответил Ванзаров, изо всех сил стараясь не смотреть на манящий вырез.
– Как это чудесно! Приходите сегодня вечером, у меня выступление! – и она снова протянула бархатную ручку.
Ванзаров строго поклонился. Чтобы не мучить себя снова. Поклонившись, он быстро вышел. Ну как сказать нимфе, что вечером поезд увезет его в далекую и прекрасную Грецию? Увезет от нее.
Нет, отпуск превыше всего. Тем более что поручение Шереметьевского можно считать исполненным.
8
Ванзаров вышел из парадных дверей, как раз когда к ним направлялась парочка господ в приподнятом настроении.
Поздний завтрак в ресторане «Аквариума» удался. Пристав забыл про ложный вызов и с удовольствием внимал пошловатой театральной байке, каких Александров держал наготове великое множество. Заметив чиновника сыска, который честно попытался улизнуть и даже отвел лицо, Левицкий решил подарить ему частичку радостного настроя.
– Ванзаров! О, и вы здесь! – закричал он, распахивая объятия. – Неужели эти театральные бездельники уже и сыскную вызвали?! Ну молодцы, ну красавцы!
Последнее обвинение, впрочем в шутливом тоне, было направлено Александрову. Хозяин только плечами пожимал: никто сыскную полицию не вызывал, это уж точно.
Ванзаров был знаком с приставом. Он знал, что подполковник, в общем, прямой и неплохой человек. Управляет своим участком так, как умеет, сыскную дергает редко. Что касается его способностей полицейского, то обсуждать их не имело смысла. Что армия заложила, тем честно и пользуется.
– Здравствуйте, Евгений Илларионович, рад вас видеть, – сухо сказал Ванзаров, когда Левицкий тряс его руку и похлопывал по плечу.
– А вот знаешь, Георгий Александрович, какой великий человек перед тобой? – Пристав оборотился к Александрову, не прекращая рукопожатия. – Так позволь тебе представить: Ванзаров Родион! Можно сказать, гроза душегубов, лучший сыскной чиновник, вроде как гений сыска. О нем слава по всему Департаменту полиции идет! А это, друг мой Ванзаров, великий человек театра, Георгий Александров, основатель и владелец вот этого «Аквариума»! Тоже в своем роде гений! Да ты не тушуйся, душа моя!
Левицкий был нетрезв, громогласен и развязен. Ванзаров попал в положение, которое ненавидел всей душой: из него сделали посмешище. Он сдержанно поклонился Александрову, который цветисто выражался о том, как рад приятному знакомству.
– Что означают ваши слова, подполковник? – почти резко спросил Ванзаров, вырывая помятую руку. – Что значит: «И сыскную вызвали»?
Пристав не заметил раздражения в его голосе.
– Да тут такая история, натурально театральная. Представь себе, Родион: рабочему сцены померещилось, что в углу стоит мертвая ведьма. С пьяных глаз, не иначе. Так нас по тревоге вызвали! Приезжаем, а на сцене – пусто! Никакой мертвой ведьмы!
– Зря ты, Евгений Илларионович, наговариваешь, – заступился Александров за честь театра. – Я тебе говорил, что Икоткин два года не пил. И ты сам видел, в каком он бессознательном состоянии теперь под кустом лежит…
– Значит, рабочий увидел на сцене труп женщины, а когда вы прибыли, трупа уже не было. Все правильно?
– Так точно, так точно! – смеясь, отвечал пристав, опять хлопая Ванзарова по плечу. – Учудили вот артисты!
В этот момент любой чиновник сыскной полиции посмеялся бы с Левицким, поболтал о пустяках и отправился бы по своим делам. Любой чиновник. Ванзарову тоже хотелось поступить «правильно». Он заставлял себя и пинал себя, мысленно говоря: «Иди отсюда, ничего не замечай». Но какая-то сила, сильнее его, сильнее разума и правил, заставила поступить по-другому. В силе этой не было ничего сверхъестественного. Просто она была развита у Ванзарова сверх всякой меры. Сила эта – любопытство. Или любовь к истине, как говаривали древние греки вообще, а Сократ особенно.
Вместо того чтобы попрощаться с приставом и хозяином «Аквариума», Ванзаров потребовал показать место, где видели труп. Левицкий, еще не растеряв веселого хмеля, стал уверять, что лично осмотрел сцену – и никаких следов. Чистая фантазия, да и только. Александров, учуяв опасность, тоже стал просить не беспокоиться напрасно. Ванзаров был непреклонен. Ничего не поделать, чиновник сыска имеет право на осмотр. Даже если преступления не было.
Александров просил подождать, пока сходит за ключами от зрительного зала, так будет ближе, чем идти через служебный вход. Он вернулся действительно быстро, рядом с ним шел юноша в строгом костюме, который с удивлением заметил Ванзарова.
– А что господин репортер тут еще делает? – строго спросил он.
Александров быстро объяснил, кто перед ним. Юноша извинился за ошибку и был представлен: Платон Петрович Переслегин.
– Племянник мой родной, – добавил Александров, с невольной нежностью глядя на юношу. – Платоша – моя надежда и смена. Буду ему передавать театральное дело. Теперь вот постигает науку антрепренерства.
Ванзаров напомнил, что терять время преступно. Платон отпер зал и побежал распорядиться, чтобы включили освещение. Пока Александров вел в кромешной тьме Ванзарова и пристава между стульями, раздался громкий щелчок: сцену залил электрический свет. Мимо оркестровой ямы по боковой лесенке они поднялись на авансцену.
– Где рабочий нашел труп? – спросил Ванзаров, обернувшись к Левицкому.
Тот руками развел.
– Кто ж его знает. Лежит под кустом без чувств.
Мест, куда спрятать тело, если оно в самом деле было, не так много: сцена голая и пустая. Ванзаров прошелся по периметру, разглядывая шершавые доски. Никаких следов, похожих на кровь.
– Это что за веревки? – спросил он, указывая на механизм подъемника.
Александров тут же дал разъяснения, для чего с левого и правого боков сцены натянуты тросы.
– Они работают?
– Как может быть иначе?! – ответил Александров. – Каждый вечер даем концерт и представление. Перед великим событием тем более проверили.
– Что за великое событие?
Вопрос выдавал в Ванзарове человека дремучей невежественности в театральных событиях. Пока Александров описывал в красках, какой великий двойной бенефис звезд, Отеро и Кавальери, ожидается 26 августа, а пристав иронично ухмылялся, Ванзаров неторопливо осмотрел шесть тросов на одной стороне сцены и пять на другой. У последнего, крайнего, остановился и поднял с пола стальной штырь с крючками на концах.
– Что это такое? – спросил он, перебивая рассказ о значении гала-концерта и бенефиса для мировой истории.
– «Кошка», как мы ее называем, – ответил Александров, немного обиженный невниманием. – Блокирует движение подъемника. Только этот уж года три не используем, пустой стоит. Икоткин, наверное, вынул и забыл закрепить.
Взявшись за ближний трос, Ванзаров легонько дернул. Трос пошел легко, противовес работал отменно. Раздался мягкий шуршащий звук – веревка трется о металл колеса. Снизу плавно поднялась тень. Ванзаров, как будто был готов, перехватил трос. Тень, поднявшаяся чуть выше его головы, плавно чуть опустилась. И встала с ним лицом к лицу.
За спиной у Ванзарова раздался звук, будто кто-то подавился.
– Боже мой… – еле проговорил Александров, не в силах оторваться от зрелища.
– Мать честная, – выдавил пристав, мгновенно протрезвевший. – Господин Ванзаров, это что же такое?
– Нашлась пропавшая ведьма.
Кто бы знал, что под внешним спокойствием Ванзарова таится борьба с собой, – он не имел права дать слабину и отвести взгляд. Смотрел прямо в черный лик. Недаром рабочему сцены показалось, что явилось существо из тьмы.
– Пристав, номер Департамента полиции знаете? – наконец проговорил он, не поддаваясь тени.
– Так точно, 83.
– Господин Александров, у вас телефон имеется?
– Имеется, – раздался еле слышный ответ.
– Прошу телефонировать и вызвать сюда господина Лебедева.
– А если он… не изволит? – спросил пристав, с ужасом думая, кого ему предстоит беспокоить.
– Скажите, что я лично просил прибыть. Дело… интересное.
Ванзаров победил тень. Вернее, победил тень в себе. Она уже не казалась такой ужасной. Он обернулся к приставу.
– Прошу поторопиться. У меня мало времени, чтобы помочь вам. Иначе сами будете дело распутывать.
Левицкий побежал так, будто хотел скрыться от ужасного видения, преследующего его по пятам. А Ванзаров потер подушечкой большого пальца подушечку указательного – что-то скользкое осталось.
9
Поляк говорил хорошо. Поляк говорил уверенно, продуманно. Сразу видно: мастер своего дела. Коли возьмется, точно своего добьется. Никто не помешает. Никто поперек пути не встанет. Вон как каждый ход, каждую деталь заранее подготовил. Обух слушал дорогого гостя с большим интересом. Таких виртуозов нынче не осталось. Теперь все больше фомкой да динамитом работают. А тут – высокое понимание человеческих слабостей. Талант, одним словом, мир воровской кличку даром не дает.
Диамант закончил изложение плана. Плана простого, разумного, верного. И теперь ждал, что скажет старшина. Обух не спешил с ответом.
– Каково твое слово будет? – не выдержал поляк.
Обух степенно хмыкнул.
– Что сказать: задумано толково. Может, и выйдет.
– Не сомневайтесь! Так могу получить ваше дозволение? – спросил Диамант. – Дозволяете, пан старшина?
– Нет, не дозволяю.
Диаманту показалось, что он ослышался: не может быть такого. Он со всем уважением, все карты раскрыл, процент самый выгодный предложил, а с ним вот так? Ох уж этот столичный имперский дух! Воры – и те заразились. Нигде не дают бедному угнетенному поляку свободы. Что за народ такой, даже украсть для своей же выгоды не дают. Может быть, что-то напутал старик.
– Пшепрашам, пан старшина? – аккуратно спросил он.
– Все ты понял, Диамант, нету тебе дозволения.
– Со всем уважением, Семен Пантелеевич, – Диамант старался быть мягким и вежливым. Чтобы выйти живым. – Так, может, процент не устраивает? Так я не держусь. Если двадцать мало – предлагаю двадцать пять. Это очень хорошо будет с такого куша.
– Да, процент хороший, – согласился Обух, играя в пальцах перьевой ручкой, как ножиком. – И куш будет жирный, кто спорит.
– Но давайте, пан старшина, раз так, для такого случая – берите треть!
Щедрость Диаманта не имела границ. Не мог он позволить себе прокататься из Варшавы в Петербург впустую.
– Даже треть даешь? Надо же…
– Добже! – Диамант кинул шляпу об пол, хлопнул по колену, плюнул в ладонь и протянул. – Половину даю, Семен Пантелеевич! Половина – ваша. По рукам?
Обух только усмехнулся.
– Ох, горячий ты. Да ты остынь малость, послушай…
Диамант не отвел протянутую ладонь, ждал. Или надеялся на чудо.
– И куш большой, и половина куша – еще лучше, – продолжил Обух. – И ты против закона нашего не пошел, все как должно сделал. Гости у нас, сколько пожелаешь. Только на дело твое дозволения нет. Все, точка.
– Но почему?! – вырвалось из души Диаманта.
Обух не стал серчать: переживает человек.
– Любому вору одного моего слова достаточно. Тебе послабление сделал. Потому, что ты знаменитость, такие фокусы и в Киеве, и в Одессе, и в Ростове показывал. И даже в Москве-матушке. Но тут другой поворот…
Ладонь осталась нетронутой. Диамант подобрал с пола шляпу, отряхнул и молча, через силу улыбался.
– Только тебе из уважения поясню, почему не дал дозволения. Брильянтов и камений у актриски этой Кавальери, конечно, целая гора. Да только горячи больно, в руки не даются. Ну, возьмешь ты их, и куда денешься? Это все подарки таких людей, что власть большую имеют. Обидятся они сурово. А это что значит? А то, что тебя не только вся полиция ловить будет, тебя и жандармы ловить будут, и, чего доброго, армию подымут. Такое начнется, что хоть беги. Ловить тебя будут, а у нас загривки трещать будут: в крепкий оборот возьмут, не вздохнешь. Что половина куша, что целиком дорогонько обойдется. Пусть актриска наряжается. Нам спокойнее жить. Ну, понял аль нет?
Это был конец. Конец мечте закончить карьеру знаменитого вора таким делом, чтобы о нем легенды слагали. Даже в поражении Диамант умел держать лицо. Поблагодарил, поклонился и, подхватив чемодан, вышел вон.
Сразу за ним в подвал юркнул парнишка-щеголь. Обух поманил его, обнял за плечо и стал нашептывать, будто кто-то мог подслушать.