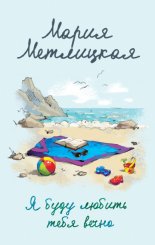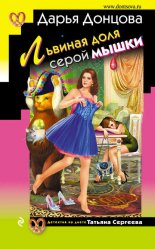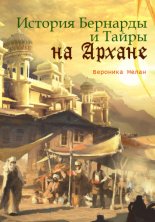Полка. О главных книгах русской литературы Сапрыкин Юрий

С содержательной стороны главный источник влияния – французские просветители. Екатерина Великая сразу отметила, что автор «заражён французским заблуждением», Пушкин позднее отметил: «…В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота[37] и Реналя[38]; но всё в нескладном, искажённом виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале».
На тему своей вторичности Радищев иронизирует в «Путешествии»: «Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо». Но на самом деле в воровстве его не обвинишь – в своей книге Радищев щедро и добросовестно ссылается на источники, как истинный энциклопедист. Рассуждая, скажем, о российской судебной системе, он упоминает авторов, знание которых судейскими могло бы её значительно улучшить: «Если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций[39], Монтескью[40], Блекстон[41]!» Говоря о свободе слова, он приводит пространную цитату из диссертации Иоганна Готфрида Гердера «О влиянии правительства на науки и наук на правительство» (1778). Важный предшественник Радищева в его осуждении рабства – Гийом Рейналь, автор «Истории обеих Индий». Его взгляды на свободу личности и разумные основания нравственности сложились под большим влиянием философа-материалиста Гельвеция. Наконец, Жан-Жаку Руссо Радищев обязан идеями социального равенства и близости к природе.
Кроме того, Радищев вдохновляется трагедией британца Аддисона «Катон», где описана борьба римлян-республиканцев против диктатуры Юлия Цезаря, а заглавный герой становится для него важной ролевой моделью.
Неизвестный художник. Лоренс Стерн.
Структура повести позаимствована из «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна[42]
Античные авторы имели для Радищева большое значение – подробнее он отзывается о них в автобиографическом произведении «Житие Фёдора Васильевича Ушакова», где, отвергая Вергилия («льстец Августов») и Горация («лизорук Меценатов»), отдаёт предпочтение республиканцу Цицерону, «гремящему против Катилины», и «колкому сатирику, не щадащему Нерона» – то есть, предположительно, Петронию, в чьём «Сатириконе» император был выведен в образе разгульного вольноотпущенника Трималхиона.
Что до чувствительности – ей Радищевского героя научил Гёте, на что автор прямо указывает: «Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слёзы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером…»
Источником сведений об устройстве разных областей жизни и экономики, в том числе теневой, стала для писателя служба: в молодости как протоколист в первом департаменте Сената он составлял экстракты всех разбиравшихся дел, читал рапорты губернаторов об урожаях, торговле, побегах крестьян, бунтах, болезнях и смертности населения; челобитные давали ему представление о разных злоупотреблениях и преступлениях чиновников, судей, помещиков: «Российская империя раскрылась для него не с парадного, но с чёрного хода»[43]. Перейдя в мае 1773 года на должность обер-аудитора (юриста) в штаб командующего Финляндской дивизией генерал-аншефа Якова Брюса, Радищев имел возможность познакомиться с жизнью армии; в 1777 году будущий писатель поступил на должность в Коммерц-коллегию, решавшую все вопросы торговли, а затем в Петербургскую таможню. Отсюда его познания в вексельном праве, в уловках, позволявших дворянам продавать крестьян незаконно, и проч.
Как она была опубликована?
Сперва Радищев попытался опубликовать книгу в Москве. Однако «Путешествие» не пропустил цензор, более того – типографщик, которому он хотел отдать рукопись, отказался печатать крамолу. Тогда Радищев решил завести свою типографию. Такую возможность давал ему указ 1783 года, дозволявший создание «вольных» типографий. Радищев купил типографский станок и напечатал книгу у себя дома с помощью служащих Петербургской таможни и крепостных своего отца. Однако книге ещё предстояло пройти цензуру в петербургской Управе благочиния, и на сей раз Радищев, на удивление, не встретил препятствий.
22 июля 1789 года обер-полицмейстер Никита Рылеев (известный, по отзыву одного мемуариста, «превыспреннейшей глупостью своею») пропустил книгу, просто её не прочитав.
В сентябре того же года Радищев представил в Управу рукопись «Слова похвального Ломоносову», которое сперва предполагал издать отдельно, но затем включил в состав «Путешествия». Вообще, состав книги менялся уже и после цензуры, что особенно ставила в вину писателю Екатерина II, воспринявшая это как лживый поступок.
В мае 1790 года книга была отправлена книготорговцу Зотову. Тираж составлял «не более как шестьсот сорок или пятьдесят экземпляров». Судьба этого тиража была печальна: около 600 экземпляров «не сдвинулось с места», то есть были уничтожены автором в ожидании обыска и ареста. Всего 26 экземпляров поступило в продажу, а несколько Радищев разослал знакомым. В настоящее время известно лишь 13 типографских экземпляров первого издания «Путешествия».
Второго пришествия радищевской книге пришлось ждать полвека. 15 апреля 1858 года в Лондоне в 13-м номере газеты «Колокол» (русском «тамиздатовском» печатном органе Герцена и Огарёва) появилось объявление о готовящемся издании: «Печатается Князь М. М. Щербатов и А. Радищев (из Екатерининского века). Издание Трюбнера с предисловием Искандера»[44]. Как отмечает[45] Натан Эйдельман, показательно, что Александр Николаевич Радищев обозначен в этом объявлении только одним инициалом: по всей видимости, Герцен и Огарёв не знали его отчества, а для читателя сочли необходимым пояснить: «Из Екатерининского века». «О повреждении нравов в России» князя М. М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева» вышли вскоре под одной обложкой.
Печатный станок. Россия. 1711 год[46]
Первую попытку переиздать Радищева в России предпринял в 1868 году петербургский книгопродавец Шигин. Книга «Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» включала фрагменты собственно «Путешествия», но в таком покалеченном виде, что их даже цензура пропустила. Эту публикацию заметил только Герцен, посвятивший событию приветственную статью «Наши великие покойники начинают возвращаться», но главное – она стала поводом к формальной отмене запрещения, о чём высочайшим повелением был извещён Петербургский цензурный комитет – с указанием, чтоб «новые издания сего сочинения подлежали общим правилам действующих узаконений о печати». Обрадованный библиограф, издатель и литературовед Пётр Ефремов в 1872 году издал двухтомное собрание сочинений Радищева, включая текст «Путешествия» с документальными приложениями. Но на это издание немедленно был наложен арест, не помогли даже определённые смягчения и купюры, сделанные Ефремовым; цензор отметил: «Так как некоторые из принципов, порицаемых автором, ещё и ныне составляют основу нашего государственного и социального быта, то я полагаю неудобным допустить эту книгу к обращению в публике в настоящем её виде частью потому, что она может возбуждать к своему содержанию сочувствие в легкомысленных людях, частью – служить удобным прецедентом для горячих и неблагонамеренных публицистов, которые не затруднятся провозгласить Радищева мучеником за его гуманные утопии, жертвою произвола и попытаются подражать ему»[47].
Наконец в 1888 году издатель Алексей Суворин благодаря личным связям добился позволения издать «Путешествие из Петербурга в Москву» – правда, исключительно «для знатоков и любителей», тиражом всего в 100 экземпляров, которые было предписано продавать за 25 рублей (то есть по цене, запретительной для широкого читателя). Суворин нашёл первое издание и воспроизвёл текст 1790 года «из строки в строку, из буквы в букву, приблизительно с таким же шрифтом, со всеми опечатками подлинника»[48].
Лишь в 1905 году появилось первое научное и полное издание «Путешествия» под редакцией Николая Павлова-Сильванского и Павла Щёголева. Годом позже появилось сразу пять изданий «Путешествия», и ещё три – в 1907 году.
Как её приняли?
Поскольку почти весь тираж «Путешествия» был в ожидании ареста уничтожен Радищевым или конфискован, широкой реакции на книгу не последовало. Редкие её первые читатели восприняли «Путешествие» именно и только как политический манифест. Можно привести типичную реакцию графа Безбородко, писавшего в частном письме:
…Здесь по уголовной палате производится ныне примечания достойный суд. Радищев, советник таможенный, несмотря, что у него и так было дел много, которые он, правду сказать, и правил изрядно и бескорыстно, вздумал лишние часы посвятить на мудрования: заразившись, как видно, Франциею, выдал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненную защитою крестьян, зарезавших помещиков, проповедию равенства и почти бунта противу помещиков, неуважения к начальникам, внёс много язвительного и, наконец, неистовым образом впутал оду, где излился на царей и хвалил Кромвеля… Всего смешнее, что шалун Никита Рылеев цензировал сию книгу, не читав, и, удовольствовавшись титулом, подписал своё благословение. Книга сия начала входить в моду у многой шали, по счастию, скоро её узнали…
«Узнали» – то есть власти узнали о существовании книги и изъяли её из оборота. Мнение «шали», то есть людей, действительно передававших «Путешествие» из рук в руки и делавших списки, осталось по большей части неизвестным. Публику больше занимала судьба автора, которую, надо сказать, оплакивали все, от вельмож до купцов на Бирже, считая приговор несправедливым и жестоким. Примечательна, однако, реакция Гаврилы Державина – одного из тех людей, которому Радищев послал «Путешествие». Державину приписывается следующая эпиграмма:
- Езда твоя в Москву со истинною сходна,
- Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна,
- Я слышу: «На коней, – кричит ямщик. – Вирь, вирь».
- Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.
Как писал с горечью сын писателя Павел Радищев, «это писал человек, хвалившийся, что он «горяч, в правде чёрт».
Что было дальше?
Вскоре после выхода «Путешествия» экземпляр попал в руки Екатерине II, которая прочитала его с большим вниманием, возмутилась и распорядилась начать следствие. Хотя книгу свою Радищев напечатал анонимно, авторство его раскрылось почти сразу. Уже в своих комментариях к «Путешествию» императрица указывает: «…Упоминает о знании: что я имел случай по щастию моему узнать. Кажется сие знание в Лейпцих получано, и доводит до подозрение на господ Радищева и Щелищева: паче же буде у них заведено типография в доме, как сказывают». Она, очевидно, узнала склад мыслей и круг источников, поскольку знала Радищева и Петра Челищева («Щелищева»), бывших некогда её пажами, а затем отправленных ею за образованием в Лейпциг (людей с европейским образованием было в Петербурге совсем немного); но очевидно, что и слухи уже ходили по городу.
Радищев был посажен в Петропавловскую крепость, допрошен следователем Степаном Шешковским (начальником Тайной экспедиции, который в своё время вёл дело Пугачёва) и после суда приговорён к смертной казни Государственным советом. По случаю заключения мира в войне со Швецией Екатерина отменила смертный приговор, заменив его ссылкой в сибирский Илимск. Павел I, взойдя на престол, вернул ссыльного писателя с предписанием жить в его селе Немцове, а амнистировал его только Александр I.
«Путешествие из Петербурга в Москву» осталось почти неизвестным и сделалось библиографической редкостью, хотя и ходило в списках. В 1836 году вернуть имя Радищева русской литературе решил Александр Пушкин, который за 200 рублей приобрёл экземпляр, хранившийся в Тайной канцелярии, и написал о Радищеве статью для своего журнала «Современник»; несмотря на её резко критический характер, в печать она пропущена не была.
Демократическая критика середины XIX века упоминает Радищева скупо – Добролюбов в статье «Русская сатира в век Екатерины» (1859) отметил: «Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, и именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против неё и можно было употребить столь сильные меры. Впрочем, если бы этих мер и не было, всё-таки «Путешествие из Петербурга в Москву» осталось бы явлением исключительным и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие»[49]. Николай Чернышевский в 10-м номере «Современника» за 1860 год замечает, что в XVIII веке «Новиков[50], Радищев, ещё, быть может, несколько человек одни только имели… то, что называется ныне убеждением или образом мыслей».
Петропавловская крепость. Гравюра XIX века[51]
Ещё и в 1907 году Евгений Соловьёв, автор «Очерков из истории русской литературы XIX века», писал: «Книга Радищева… не сыграла и не могла сыграть непосредственно роли в истории нашего умственного развития, потому что публика не знала и ещё до сих пор (т. е. через 100 лет после смерти автора и 110 по выходе книги) не знает её». В 1914 году в статье «О национальной гордости великороссов» Ленин упомянул Радищева как родоначальника русского освободительного движения – ему наследовали в этом ряду декабристы, затем разночинцы 1870-х годов, а затем рабочий класс и, наконец, крестьяне. Впоследствии фигура Радищева как «первого революционера» прочно утвердилась в советском литературоведении и школе. К тому времени, когда «Путешествие из Петербурга в Москву» нашло читателей, язык его безнадёжно устарел – книгу можно и сегодня считать толком не прочитанной широкой публикой. Однако сама структура литературного путешествия, наполненного размышлениями о страдании народном, оказалась живучей – можно вспомнить и поэму Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки», и документальный фильм Андрея Лошака «Путешествие из Петербурга в Москву», где режиссёр буквально повторил маршрут Радищева, чтобы посмотреть, как изменилась жизнь между столицами за истекшие два столетия.
На что обиделась Екатерина?
Писатель, протоиерей Михаил Ардов вспоминал[52], что Лев Гумилёв рассказал ему об экземпляре «Путешествия из Петербурга в Москву» с неопубликованными в то время пометками Екатерины II:
– Радищев описывает такую историю, – говорил Лев Николаевич. – Некий помещик стал приставать к молодой бабе, своей крепостной. Прибежал её муж и стал бить барина. На шум поспешили братья помещика и принялись избивать мужика. Тут прибежали ещё крепостные и убили всех троих бар. Был суд, и убийцы были сосланы в каторжные работы. Радищев, разумеется, приговором возмущается, а мужикам сочувствует. Так вот Екатерина по сему поводу сделала такое замечание: «Лапать девок и баб в Российской империи не возбраняется, а убийство карается по закону».
Возможно, это апокриф, – среди опубликованных теперь комментариев императрицы такого нет, – но суть её несогласия с Радищевым он передаёт верно.
Иоганн Лампи. Портрет Екатерины II. 1790 год[53]
Радищев – автор сентиментальной школы, и культ разума непротиворечиво сочетается в нём с чувствительностью сердца. Устами одного из положительных персонажей – старого крестицкого дворянина – он прямо соглашается с Екатериной: «Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества». Но на деле невинность доведённых до крайности убийц для него «математическая ясность».
Писатель рисует идеал, к которому правитель должен стремиться. Так, в главе «Спасская Полесть» рассказчику снится, что он – великий государь, окружённый льстецами, превозносящими мир, тишину и изобилие его правления; к нему в образе странницы является сама Истина. Она снимает с его глаз «бельма» и показывает ему реальность: коррупцию, несправедливость и жестокость его приближённых, извращающих его указы и угнетающих народ. В этой прозрачной аллегории Екатерина сразу узнала себя и отмела упрёк: «Не знаю какова нега власти в других владетели, во мне не велика».
Императрица, решающая государственные проблемы на практике, возмущена несправедливым отношением к своим усилиям: хорошо писателю воздыхать о судьбе доведённых до отчаяния крестьян, но нельзя же возвести снисходительность к убийцам в принцип – эдак ведь крестьяне начнут резать дворян, и Радищеву это прекрасно известно, чего же он от неё хочет? Когда автор проповедует пацифизм, называя царей виновниками «убийства, войною называемого», Екатерина возражает: «Чево же оне желают, чтоб без обороны попасця в плен туркам, татарам, либо пакарится шведам». Практических рекомендаций у Истины, очевидно, нет.
Радищев обвиняет императрицу в лицемерии, в измене той философии, которую сама она насаждала в молодости, – упрёк был основателен и оттого чувствителен. Ханжество Екатерины стало общим местом – Пушкин писал[54]:
Екатерина уничтожила звание (справедливее – название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку – а тайная канцелярия процветала под её патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешёл из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой её смерти. Радищев был сослан в Сибирь. Княжнин умер под розгами – и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность.
Венценосную читательницу автор «Путешествия» имел в виду, обращаясь к ней прямо: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнёшься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается». Читай: на воре шапка горит. И Екатерина возмущённо возражает: «Птенцы учат матку. Злость в злобном, во мне её нет».
При этом она дискутирует с автором всерьёз, отмечая несоответствия или, наоборот, жизненность его наблюдений, например описание сластолюбца-дворянина, который в своей деревне «омерзил 60 девиц, лишив их непорочности», комментирует: «Едва ли не гисторія Александра Васильевича Солтыкова». Но, с её точки зрения, это, так сказать, не политика партии, а перегибы на местах. Радищев оскорбляет её правление, возводя отдельные недостатки в ранг закономерности.
У Екатерины были основания назвать Радищева «птенцом». Пажом он служил во дворце – по свидетельству Пушкина, имевшего доступ к документам Тайной канцелярии, «государыня знала его лично». В числе шести пажей, отличившихся в науках, он был отправлен учиться в Лейпцигский университет. Монархи отправляли молодых дворян учиться за границу за государственный счёт со времён Петра I – с прагматической целью получить сведущих чиновников. И действительно, по возвращении в Россию молодой Радищев был определён на службу в канцелярию императрицы. Сын писателя вспоминал, что уже в бытность Радищева служащим Петербургской таможни государыня, уверенная в его честности и бескорыстии, «удостоила его важными поручениями: при начале шведской войны ему велено арестовать и описать шведские корабли». После смерти его начальника Радищев был назначен директором таможни, причём Екатерина отказала всем прочим претендентам на это место, говоря, что у неё уже есть достойный человек. При этом назначении Радищев получил из рук Екатерины орден Святого Владимира 4-й степени.
Наверное, ещё и поэтому императрица восприняла нападки Радищева близко к сердцу: он не просто единомышленник, но и всем своим мировоззрением обязан ей. Её комментарии к книге были инструкцией следователю Шешковскому, как вести допрос, в конце же Екатерина пишет: «Скажите сочинителю, что я читала ево книгу от доски до доски, и прочтя усумнилась, не зделано ли ему мною какая обида? ибо судить ево не хочу, дондеже не выслушен, хотя он судит царей, не выслушивая их оправдание». Шешковский выполнил поручение и получил ответ, что «никогда и никакой не только обиды не чувствовал, но всегда носил в себе её милости».
Когда по завершении следствия дело было передано в Палату уголовного суда, статс-секретарь Безбородко, инструктируя о порядке разбирательства санкт-петербургского главнокомандующего графа Брюса, особо указал не предоставлять суду протоколов допроса, поскольку «многие вопросы, особливо же: «Не имеет ли он какого недовольствия или обиды на Ея Величество» отнюдь непристойно выводить пред судом». Это было слишком личное.
Был ли Радищев революционером?
«Первым революционером» назвал Радищева Ленин, и в таком качестве писатель был канонизирован советским литературоведением. Предвосхитила такую оценку вождя мирового пролетариата сама Екатерина, назвавшая Радищева «бунтовщиком хуже Пугачёва».
«Радищев был последовательным революционным демократом конца XVIII столетия. Это был пропагандист, республиканец, который в этот острый период начавшейся в Европе буржуазной революции осторожно начал сколачивать кадры единомышленников»[55], – утверждает, например, видный деятель антирелигиозной кампании Емельян Ярославский в газете «Правда». Для какой же цели писатель сколачивал кадры? Филолог Григорий Гуковский, автор предисловия к полному собранию сочинений Радищева, предлагает замечательную версию: параллельно с работой над книгой писатель буквально готовил революцию! «В том же 1789 году Радищев предпринял шаги к тому, чтобы расширить свою деятельность, установив связь с Городской Думой, а затем попытался перейти от пропагандистской работы к организации вооружённой силы»[56]. Таким образом исследователь трактовал действия Радищева, который в мае 1790 года, во время войны со Швецией, организовал вооружённое ополчение для защиты Петербурга. Сделано это было постановлением Городской думы, в ополчение среди прочих принимали и беглых крестьян. После ареста Радищева Екатерина распорядилась «беглых помещичьих людей» из думского ополчения отдать помещикам, а остальных сделать обычными солдатами. «В какой связи стоит распоряжение Екатерины с делом Радищева – не ясно», – признаёт Гуковский, однако он уверен: не иначе как Екатерина узнала в ходе следствия о куда большей угрозе, чем представляла собой его книга.
Над подобными теориями иронизировал в «Беседах о русской культуре» Юрий Лотман, заметивший, что даже попытки возвести к «Путешествию» официальную генеалогию русской революционной мысли недобросовестны: декабристы, к примеру, от Радищева открещивались, Пушкин назвал его книгу «преступлением, ничем не извиняемым». Один из литературоведов, стремившихся изобразить добросовестного чиновника, семьянина и писателя-идеалиста «чуть ли не руководителем революционного кружка в Петербурге конца 1780-х – начала 1790-х годов», Георгий Шторм, в своей книге «Потаённый Радищев» выдвинул концепцию, которую Лотман излагает так: «…Собрав обширный материал (здесь нельзя не отдать должного изобретательности и трудолюбию Г. Шторма), автор книги возводит всех близких и далёких родственников и знакомых Радищева в его общественно-политических единомышленников. Создаётся впечатление, что Радищев был окружён разветвлённой политической группой, состоящей в основном из его родственников»[57].
В действительности, как показывает Лотман, Радищев не был и не мог быть революционером-заговорщиком, потому что для просветителя XVIII века этот путь в принципе представлялся ложным:
Привычки, обычаи, традиции для просветителя – именно те силы, которые противостоят разуму и свободе. Для борьбы с ними необходим «зритель без очков» (так называл Радищева А. Воронцов), то есть тот, что смотрит на мир свежим взором философа. Свобода начинается словом философа. Услышав его, люди осознают неестественность своего положения.
А следовательно, переход от рабства к свободе не предполагает кровопролития. Писатель-просветитель не скрывается – он «истину царям с улыбкой говорит», как писал Державин, чьим примером Радищев, видимо, вдохновлялся.
Но, может быть, Радищев, сам не планируя вооружённого восстания, тем не менее призывал к нему народ? В подтверждение этой версии обычно приводилось заключение главы «Медное», где автор не допускает, что помещики отпустят крестьян себе в убыток, и видит источник свободы не в их доброй воле, а в «самой тяжести порабощения». Такое мнение первой высказала Екатерина, приписавшая в этом месте: «То есть надежду полагает на бунт от мужиков». Писатель на это убедительно возразил: «Если кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг не читает, что писана она слогом, для простого народа не внятным…» Радищевский слог был и для образованного читателя непрост, вряд ли «Путешествие» можно рассматривать как средство массовой пропаганды среди неграмотных крестьян – к тому же, говорит писатель, и тираж мал.
Можно вспомнить к тому же, что «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» Радищев знал не понаслышке: во время восстания Пугачёва родители его едва не погибли, но были спасены собственными крестьянами, которые «их не выдали, но спрятали между собою, нарочно измазав сажей и грязью»[58]. В главе «Едрово» рассказчик осуждает крестьян, тащивших барина-насильника Пугачёву на расправу: «Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны осталися».
На замечание Екатерины, что «французская революция ево решила себя определить в России первым подвизателем», Радищев указал: «Францию ж в пример он не брал, хотя и сам признаётся, что сие похоже на то обстоятельство; ибо сие писал он прежде, нежели во Франции было возмущение». Когда же он обращается к французским событиям в главе «Торжок», написанной позднее, то с тревогой отмечает: «необузданность и безначалие дошли до края возможного», между тем настоящей вольности так и нет – цензура не упразднена, а народное собрание ведёт себя «так же самодержавно, как доселе их государь».
Уверенность в неизбежности революции – не то же самое, что призыв к ней. Радищев с ужасом ждёт революции при сложившемся порядке вещей и призывает изменить этот порядок, пока не поздно.
«Какую цель имел Радищев? чего именно желал он?»
Таким вопросом задался в своей знаменитой статье «Александр Радищев» Пушкин, который назвал «действием сумасшедшего» решение Радищева печатать такую крамолу.
Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединённые силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников.
Отдавая должное силе радищевского духа, его удивительной самоотверженности и «какой-то рыцарской совестливости», Пушкин тем не менее называет «Путешествие» «преступлением, ничем не извиняемым», а также «книгой весьма посредственной». Эта двойственная претензия – стилистическая и политическая – была запрограммирована самим «Путешествием», его новаторской концепцией, и в нём же обсуждается.
Пушкинскую характеристику «варварский слог» следует понимать буквально, как слог неокультуренный: в русской прозе Радищев «не имел образца». Радищев понимал, что идёт непроторённой дорогой, и в самой книге размышлял о необходимости новой формы для нового содержания на материале русской поэзии. Рассуждение об этом вложено в уста безымянного поэта, встреченного в Твери, которому автор подарил свою оду «Вольность», приведённую в «Путешествии» отрывками: «В Москве не хотели её напечатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах неясен и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов несвойствен нашей земле. Я еду теперь в Петербург просить о издании её в свет» (тем самым в книге изложена история её же публикации).
Непроходным стало уже само название – «Вольность». «Но я очень помню, – комментирует путник, – что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: «Вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам». Следственно, о вольности у нас говорить вместно». Тут Радищев не в первый и не в последний раз колет Екатерине глаза её не воплощённым в жизнь «наказом», но аргумент его формалистичен до абсурда – он прекрасно понимает, что понятие «вольность» они с императрицей трактуют по-разному. Далее цензуру смутили слова «Да смятутся от гласа твоего цари», которые якобы предполагают пожелание зла царю. Придирка нарочито издевательская – ведь в соседних строках автор прямо предрекает революцию («Меч остр, я зрю, везде сверкает; / В различных видах смерть летает, / Над гордою главой паря») и поминает цареубийц – Брута, Вильгельма Телля и Кромвеля. Причём последнего осуждает – но не за казнь короля, а за то, что, свергнув тирана, Кромвель сделался тираном сам, не дав людям свободы (что справедливо отметила и Екатерина: «Ода совершенно ясно бунтовская, где царям грозится плахой. Кромвелев пример приведён с похвалой»). Такие же претензии были у Радищева и к деятелям Французской революции.
С литературной точки зрения цензора смутил стих «Во свет рабства тьму претвори». У поэта есть любопытное соображение: стих этот «очень туг и труден на изречение» из-за частого повторения буквы Т и стоящих рядом согласных («бства тьму претв»), однако «иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия» – то есть поэт фонетически изображает препятствия к отмене крепостного права.
В этом свете кажется убедительным предположение Петра Вайля и Александра Гениса, что Радищевым двигало именно литературное честолюбие, а вовсе не революционный задор. Обращаясь к императрице с нравоучениями, Радищев, возможно, держал в уме вдохновляющий пример Державина, который, выпустив в свет свою неортодоксальную «Фелицу», лёг спать ни жив ни мёртв, не представляя, какую реакцию вызовет его ода, снижающая образ богоравной императрицы. Характерно, что Державину одному из первых Радищев успел прислать своё свежеотпечатанное произведение. Но Державин в своё время угадал, польстил и проснулся первым русским поэтом. Ко времени же появления «Путешествия» пожилая и напуганная европейскими революционными событиями Екатерина не была уже расположена к литературным новшествам и авторскую интенцию поняла совсем не так: «Намерение сей книги на каждом листе видно; сочинитель оной наполнен и заражён французским заблуждением, ищет всячески и выищивает всё возможное к умалению почтения к власти и властем, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства».
Сам писатель на следствии утверждал, что им двигали именно литературные амбиции. Первые его литературные труды не вызвали реакции – ни в художественном, ни в политическом смысле, хотя также содержали вольнолюбивые выпады. Например, сквозь пальцы посмотрела Екатерина на радищевские комментарии к сочинению французского философа Габриэля Бонно де Мабли «Размышление о греческой истории» (1773 год), содержавшие фразу: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», «Житие Фёдора Васильевича Ушакова» остались незамеченными. На следствии Радищев показывал:
Описывая состояние помещичьих крестьян, думал, что устыжу тем тех, которые с ними поступают жестокосердо. Шуточные поместил для того, чтобы не скучно было длинное, сериозное сочинение. Дерзновенныя выражения и неприличной смелости почерпнул я, читая разных писателей, и ни с каким другим намерением, как чтобы прослыть хорошим писателем. Да и самое издание книги ни к чему другому стремилося, как быть известну между авторами, и из продажи книги приобресть себе прибыль.
Конечно, измученный и испуганный писатель, открещиваясь от политического обвинения, говорил то, что могло смягчить его участь. Однако и решение издавать книгу анонимно он объяснял желанием увидеть реакцию публики и в случае успеха объявить своё имя. Есть и такое мнение, что Радищев хотел писать тонкую, остроумную, изящную прозу, но его «душил обличительский и реформаторский пафос», который испортил его книгу в художественном отношении и дорого обошёлся в политическом.
Что ещё вызывает негодование Радищева, помимо крепостного права?
Радищев, совершая путешествие по России, успевает фиксировать множество общественных пороков, которые он, как олицетворенная Истина, должен изобличить. По свидетельству его сына, сам он говорил, что если бы он издал своё «Путешествие» за 10 или за 15 лет до Французской революции, то «он вместо ссылки скорее был бы награждён на том основании, что в его книге есть очень полезные указания на многие злоупотребления, неизвестные правительству». Тут и чинопочитание, и судопроизводство, стоящее на пытках и взятках, и телесные наказания, и воровство и мошенничества во всех сословиях, и рекрутчина, и вексельное право. Из проблем, не связанных прямо с положением крестьян, наибольшее его возмущение вызывает цензура.
В Торжке рассказчик встречает человека, который едет в Петербург хлопотать о заведении свободного книгопечатания в своём родном городе. Герой с обычным своим простодушием указывает ему, что в прошениях нет необходимости: заводить книгопечатни частным лицам было позволено ещё указом 1783 года (о чём Радищев, напечатавший таким образом своё «Путешествие», знал не понаслышке). Однако напечатать книгу – полдела: «Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного». Мысль, которую цензура водит на помочах, не может свободно развиваться и остаётся ущербной. Многие сочинения не дойдут до читателя хотя бы по невежеству цензора: Радищев язвительно приводит в пример чиновника, который зарезал роман, где любовь названа «лукавым богом», поскольку усмотрел в этой аллегории богохульство; другой цензор не пропускает никаких критических упоминаний о князьях и графах, «ибо у нас есть князья и графы между знатными особами». При всей нелепости этого примера он был исключительно жизненным: так, Гоголю пришлось выкинуть «весь генералитет» из своей «Повести о капитане Копейкине», Александр Сухово-Кобылин, пытаясь провести на сцену пьесу «Дело», был вынужден понизить в чине всех действующих лиц.
Проповедуя, едва ли не первым в России, свободу слова («Пускай печатают всё, кому что на ум ни взойдёт»), Радищев ссылается на «Наказ о новом уложении» (1767) – изданный Екатериной при восшествии на престол манифест просвещённого абсолютизма, который был впоследствии положен под сукно. Там среди прочего сказано: «Слова не всегда суть деяния, размышления же не преступления»; «Слова не вменяются никогда во преступление, разве оныя приуготовляютъ, или соединяются, или последуют действию беззаконному. Всё превращает и опровергает, кто делает из слов преступление смертной казни достойное». Понятно, что эти формулировки оставляют широкий простор для толкования: не осуждая автора за его сочинение как таковое, легко можно усмотреть в этом сочинении улику, указывающую на реальное преступление. Радищев же свободу слова понимает буквально, при всей своей строгой морали не делая исключения даже для порнографии, причём запрет развратных книг сравнивает с запретом проституции:
Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торга наддателю, тысячу юношей заразят язвою и всё будущее потомство тысячи сея? но книга не давала ещё болезни. И так ценсура да останется на торговых девок, до произведений же развратного хотя разума ей дела нет.
Из более специальных проблем Радищева занимает вексельное право, ведущее к разорению должников, ограничивающее торговлю и открывающее большой простор для жульничества. В главе «Новгород», скажем, описана мошенническая схема обогащения купца Карпа Дементьича: забрав вперёд 30 тысяч рублей по контракту на поставку льна, купец строит дом на имя жены. На следующий год на лён неурожай, и купец, не будучи в состоянии исполнить свои обязательства по контракту, объявляет себя банкротом – отдаёт кредиторам всё своё имение, оставив их в большом убытке: за каждый вложенный рубль они получают только по 15 копеек. Женин дом остаётся в неприкосновенности: он формально не составляет часть имения Карпа Дементьича. Разорившийся купец торговать больше не может – но и на это есть уловка: «С тех пор как я пришёл в несостояние, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч». Рассказчик подхватывает: «На будущее, конечно, законтрактует на пятьдесят, возьмёт половину денег вперёд и молодой жене построит дом…»
Екатерина в этом месте отмечает: автор «…знание имеет подробностей купецских обманов, чего у таможни лехко приглядется можно» – компетентность Радищева, директора таможни, стала в этом случае одной из улик против него.
Как соотносятся у Радищева любовь семейная, правительство и сифилис?
Как свидетельствует сын Радищева, «Александр Николаевич полагал, что самый счастливый человек в мире тот, кто имеет хорошую жену». И писателю в этом повезло дважды. С первой женой, Анной Васильевной Рубановской, он прожил в большой любви восемь лет, нажил четверых детей и горько оплакивал её кончину. Памятник ей с собственноручно написанной эпитафией, где писатель выражает надежду на загробную встречу, он поставил у себя в саду.
Второй женой писателя стала его свояченица Елизавета Васильевна Рубановская, которая после смерти сестры взяла на себя воспитание его детей, а после ссылки Радищева последовала за ним в Сибирь, проложив дорогу жёнам декабристов. Лотман пишет: «Как это случается с девушками, она была втайне влюблена в мужа своей сестры, но скрывала свои чувства. В страшную минуту ареста Радищева она проявила не только мужество и верность, но и ум и находчивость. Собрав все драгоценности дома, она отправилась через бушующую Неву на лодке (мосты не работали) в Петропавловскую крепость. Там она передала их палачу Шешковскому, который был не только «кнутобойца» (выражение Г. Потёмкина), но и взяточник. Этим Радищев был избавлен от пыток».
В Сибири Рубановская стала женой Радищева. По тем временам такой брак был скандальным и даже незаконным, поскольку приравнивался к кровосмешению. Детей от этого брака, рождённых в Сибири, Радищев узаконил с позволения Александра I (сама Елизавета Васильевна обратной дорогой умерла). Но, когда по возвращении из ссылки писатель представил их своему отцу, Николаю Афанасьевичу, старик пришёл в ярость: «Или ты татарин, – вскричал он, – чтоб жениться на свояченице? Женись ты на крестьянской девке, я б её принял как свою дочь». Очевидно, демократизм и принципиальность писатель унаследовал от отца, только принципы у них были разные. Радищев склонен был пренебрегать установлениями закона и религии ради того, что он считал естественным и разумным.
Идеал естественной семьи был воспринят им от Руссо. Своих детей Радищев в Илимске сам учил ежедневно истории, географии, немецкому и французскому: «Дети приучены были вставать и одеваться, не требуя никакой прислуги. Он обходился с ними просто и никогда не наказывал»[59] (а также сам привил им оспу). Конечно, в условиях ссылки и тесное семейное общение, и самостоятельность детей в быту были вынужденными мерами, но они отвечали радищевским принципам, подробно изложенным в главе «Крестьцы».
Старый дворянин, встреченный там рассказчиком, даёт наставление детям, попутно вспоминая историю их воспитания. Мать сама кормила их грудью, отец учил наукам и физическому труду. Старик призывает молодых людей не смущаться в столичном обществе простоты своей одежды, внешности и незнания светских манер: «Не опечальтеся, что вы скакать не умеете как скоморохи»; зато они быстро бегают, хорошо плавают, умеют «водить соху, вскопать гряду», владеют «косою и топором, стругом и долотом». Человек правильного воспитания должен, по Радищеву, уметь подоить корову и сварить щи (никаких гендерных предрассудков!), а также знать науки и иностранные языки, но прежде всего свой собственный (редкая добродетель по радищевским временам).
Симптомы сифилиса.
Из труда Марка Аврелия Северина «De recondita abscessuum natura libri VII». 1632 год[60]
В главе «Едрово» этому добродетельному сельскому семейству противопоставлен пример горожан с их развращённостью и противоестественными привычками, такими как ношение корсетов («трёхчетвертной стан» городской красавицы не приспособлен для беременности и родов) и чистка зубов. На этот обычай рассказчик обрушивается с неожиданным негодованием, ставя в пример петербургским и московским боярынькам сельских красавиц: «…Посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щётками, ни порошками». В чём же состоит гигиена ротовой полости по Радищеву? Конечно, в добродетели.
Дыхание городских красавиц зловонно вследствие разврата: мужья таскаются по девкам, жёны меняют любовников как перчатки, пятнадцатилетнюю девушку мать торопится выдать за старика-генерала, «для того только, чтобы не сделать… визита воспитательному дому» (то есть не дожидаться, пока дочь принесёт в подоле), а та и рада – мужа-старика легко обманывать, приписывая ему прижитых с любовниками детей. Следствием всего этого непотребства становится дурная болезнь – при чтении «Путешествия» может сложиться впечатление, что в России XVIII века ею были заражены сплошь все сословия из поколения в поколение.
На станции Яжелбицы, к примеру, некий отец, хороня сына, объявляет себя его невольным убийцей: «Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную». Тут рассказчик цепенеет, поскольку и сам он в дни распутной юности от «мздоимной участницы любовныя утехи» получил «смрадную болезнь» (вероятно, сифилис) и передал её своим детям, тем самым подорвав их здоровье. Екатерина II ехидно комментирует это место: «…Описывают следствии дурной болезны, которую сочинитель имел; вины ею же оной приписывает… правительству».
Тут она попала не в бровь, а в глаз. Тема венерических заболеваний была для Радищева крайне чувствительной – в его изображении сифилис становится практически метафорой всех общественных язв вообще (в этом случае правительство виновато, видимо, в недостаточно суровом преследовании проституции: «Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан»).
После возвращения из Сибири, живя в своём имении, Радищев попытался бороться с упадком нравов на практике. Он запретил среди своих крестьян незаконный, но повсеместно практикуемый обычай женить малолетних мальчиков на взрослых девках, чтобы заполучить в дом работницу (в результате с молодой нередко сожительствовал свёкр – это обыкновение, называвшееся снохачеством, описано в главе «Едрово»). Более того, писатель собирался даже учредить среди своих крестьян «награду для той женщины, замужней или девки, которая в течение года отличит себя хорошим поведением или каким-либо подвигом добродетели. Эту мысль ему внушила замеченная им испорченность нравов в простом народе»[61]. Увенчалось ли предприятие успехом – биограф не сообщает.
Кто положительные герои «Путешествия»?
Как справедливо отмечал Радищев на следствии, «Путешествие из Петербурга в Москву» не было адресовано крестьянам, поскольку крестьяне неграмотны. Его адресат – если и не сама императрица, то, во всяком случае, его брат-дворянин. Именно от дворян писатель ждёт положительных изменений: просветившись, они должны дать крестьянам волю. Идеализм такого предположения был очевиден («Уговаривает помещиков освободить крестьян, да нихто не послушает», как справедливо отметила Екатерина), и Радищев фактически это признаёт: его новый человек – он сам и несколько ближайших его товарищей.
Выводя условных единомышленников в лице новгородского семинариста с «примазанными квасом волосами», который идёт в Петербург за знаниями, как Ломоносов (похвальным словом которому заканчивается «Путешествие»), или безымянного дворянина, разорённого тяжбами, Радищев подразумевает и реальных своих друзей.
Первый из них – Алексей Кутузов, однокашник по Лейпцигскому университету, которому посвящено и «Путешествие», и перед тем «Житие Фёдора Васильевича Ушакова».
Второй – другой университетский товарищ, Пётр Челищев, обозначенный в главе «Чудово» как «приятель мой Ч.»: он рассказывает, как во время морской прогулки в Петергофе чуть не погиб из-за небрежения местного начальника (это происшествие случилось с Челищевым на самом деле). Читая «Путешествие», Екатерина подозревала в Челищеве возможного автора книги или, во всяком случае, сообщника Радищева, но следствием он был оправдан.
В книге Ч. заканчивает свой рассказ сентенцией совершенно в духе Чацкого:
Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие – грызть друг друга; отрада их томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе.
Любопытно, что в этом случае рассказчик передоверяет приятелю радикальные мысли, сам занимая примирительную позицию: он уговаривает Ч. возвратиться в Петербург, доказывая, что «малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды».
Челищев питал к товарищу юности глубокое уважение и симпатию. А через десять месяцев после суда над писателем он действительно бежал из города, отправившись в поездку по Сибири, как будто выполняя данную им Радищевым программу, и написал собственные путевые записки – «Путешествие по Северу России в 1791 году», где между прочим описывает нравы чиновников, у которых «нет привычки помогать против им данного предписания проезжающим»[62].
Ещё один (на сей раз не имеющий реальных прототипов) сочувственный собеседник героя – некто Крестьянкин, встреченный на станции Зайцово. Этот добродетельный чиновник уголовной палаты оказывается бессилен перед жестокой и несправедливой буквой закона и, чтобы не оказаться соучастником неправосудной (с его точки зрения) казни, вынужден выйти в отставку.
Описанная Крестьянкиным сцена вызвала особый гнев Екатерины. Некий дворянин, начинавший придворным истопником, но выслужившийся до коллежского асессора, выйдя в отставку, купил деревню; со своими крепостными он обращался как со скотом.
…он… отнял у них всю землю, – рассказывал Крестьянкин, – скотину всю у них купил по цене, какую сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день… Если который казался ему ленив, то сёк розгами, плетьми, батожьём или кошками… ‹…› Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощницами в исполнении её велений были её сыновья и дочери… ‹…› Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери.
В конце концов крестьяне после очередного зверства убили и асессора, и его сыновей. Этих-то «невинных убийц» и считал нужным оправдать Крестьянкин, чего закон бы, конечно, не допустил. Прототипом жестокого помещика был реальный сосед Радищева Василий Николаевич Зубов, который отнял у своих мужиков «весь хлеб, скотину, лошадей», кормил их на своём дворе щами из корыта, нещадно сёк и держал на цепи. Радищев, по свидетельству сына, с этим человеком никогда не здоровался.
Помимо прочего, история эта содержит шпильку в адрес высоких степеней и чинов, которыми русские императоры осыпали своих фаворитов, часто не по заслугам, – таков, очевидно, истопник-асессор, как будто мстящий вчерашним собратьям за собственное низкое происхождение. Известен, например, анекдот о полководце Александре Суворове, который, идя по Зимнему дворцу вместе с графом Кутайсовым (бывшим камердинером Павла I), увидел истопника и стал кланяться ему в пояс, а на недоумение Кутайсова отвечал: «Ты граф, я князь; при милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надобно его задобрить вперёд»[63].
В чём Радищев опередил своё время?
Прежде всего, он был литературным новатором. Радищев изобрёл жанр политической публицистики, вплетённой в художественное повествование. Язык такого рода высказывания выработан до него не был. Однако при этом писатель следовал ломоносовской теории трёх штилей, сочетая просторечие и «высокий» архаический слог, в первую очередь славянизмы. Традиционно они использовались в русском литературном языке для разговора о вещах возвышенных, и именно в таком качестве их использует Радищев, наполняя, однако, совсем не традиционным содержанием: в его случае возвышенным предметом становится не религия, не искусство и не деяния царей и полководцев, а проповедь свободы.
Радищев первым в России в литературной форме осудил не просто злоупотребления крепостного права, но порабощение человека человеком в принципе, сравнив русских крепостных крестьян с американскими чернокожими невольниками. Сравнение это ещё не было в ходу: и русские, и американцы, взаимно осуждая институт рабства друг у друга, оправдывали его у себя. Этот парадокс отмечал, например, ещё и в конце 1830-х годов посетивший Россию американец Генри Уикоф: «…Громкие протесты раздавались по поводу наших порабощённых чёрных, но здесь миллионы людей белой расы находились в неволе на протяжении веков, и никто в Европе не замечал этого. Что за странный мир!»[64]
В Вышнем Волочке, любуясь картиной изобилия, которую представлял собой «канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром», рассказчик тут же с печалью задумывается о цене этого изобилия, добытого подневольным трудом: «Удовольствие моё пременилося в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгие её произращения, как-то сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся ещё от пота, слёз и крови, их омывших при их возделании». В своё время чувствительный рассказчик расплескал кофе, когда друг указал ему, что и кофе этот, и сахар произведены рабами. В «Путешествии», впрочем, он кофе пьёт с удовольствием по пяти чашек и потчует случайных собеседников, но к отечественной продукции относится строже. Столичным жителям Радищев предлагает задуматься, поднеся ко рту кусок хлеба, а затем есть его или не есть в зависимости от происхождения: хорошо, если хлеб этот вырос на казённом поле (государственным крестьянам жилось лучше), и даже если он выращен крестьянином, сидящим на оброке, – это тоже ещё ничего, есть можно. Но хлеб, лежавший в «дворянской житнице», отравлен горькой слезой, такого есть нельзя. Таким образом, Радищев фактически проповедует в XVIII веке осознанное потребление и прозрачность производственной цепи – концепции, которые и в наши дни в России ещё не привились повсеместно.
Почему Радищев покончил с собой?
На этот счёт есть несколько версий.
Первая в общем сводится к тому, что писатель со времени ссылки страдал от душевной болезни. Сын его и биограф Павел Радищев смерть писателя описывает так: «11 сентября 1802 года, в 9 или 10 часов утра, Радищев, приняв лекарство, вдруг схватывает большой стакан с крепкой водкой[65], приготовленной для вытравления мишуры поношенных эполет старшего его сына, и выпивает разом. В ту же минуту берёт бритву и хочет зарезаться»[66]. Вслед за этим, как пишет биограф, у писателя вырвали бритву, тот потребовал священника и исповедовался «как истинный христианин». К постели умирающего прибывает Виллие, императорский лейб-медик, присланный Александром I (такой же чести из русских писателей удостаивались после только Пушкин и Карамзин). Помочь умирающему он не может, ответ на свой вопрос: «Что могло побудить писателя лишить себя жизни?» – получает «продолжительный, несвязный» и уезжает, заметив: «Видно, что этот человек был очень несчастлив».
Пушкин полагает, что Радищев испугался тягот и унижения новой ссылки: привлечённый Александром I к работе в законодательной комиссии, писатель, «увлечённый предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф З. удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» В этих словах Радищев увидел угрозу». Реальных оснований бояться не было: реплика подразумеваемого здесь графа Завадовского носила явно шутливый характер, а положение Радищева в это время чрезвычайно прочно. Комиссию по составлению законов возглавлял давний друг и покровитель Радищева – государственный канцлер граф Александр Воронцов, поэтому угроза графа Петра Завадовского, подчинённого Воронцову, не могла иметь никакого веса, даже если предположить, что Завадовский не шутил.
Григорий Чхартишвили объясняет[67] поступок Радищева «лагерным синдромом» – этим термином в XX веке обозначили реакцию бывших узников концлагерей, чья психическая травма от пережитых страданий, унижений и нравственных компромиссов часто приводила их к суициду:
Обычно жертвами лагерного синдрома становятся люди думающие, тонко чувствующие, с высоко развитым чувством собственного достоинства. Эта мина замедленного действия может взорваться в любой момент под воздействием обстоятельств, хотя бы частично воссоздающих обстановку перенесённого кошмара. Когда травмированному лагерным синдромом человеку кажется, что всё это может повториться вновь, смерть – и та выглядит предпочтительней.
Радищеву, по мысли Чхартишвили, достаточно было простого напоминания о прошлом, чтобы мина взорвалась.
Сумасшествием объяснял гибель писателя и его сын и биограф Павел Радищев – но тут нужно учесть, что самоубийство в христианстве – смертный грех, так что преданный сын мог пытаться просто спасти таким образом память отца. Официальное заключение гласило, что Радищев умер от чахотки, и похоронили его по православному обряду, в чём самоубийцам отказано.
Но есть и другая версия: самоубийство было осознанным, идеологическим выбором писателя. Деятели Просвещения, вслед за героями Античности, рассматривали самоубийство как допустимый, а иногда и желательный выход из неразрешимой ситуации. Монтень писал: «Лучше всего добровольная смерть. Жизнь зависит от воли других, смерть же зависит только от нас». Право на смерть воспринималось в этом контексте как одно из естественных и неотменимых прав всякого человека – таких же, как жизнь и свобода. Павел Радищев соглашается и с этим: «Он допускал самоубийство: Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir», то есть «Коль всё потеряно, когда надежды нет» – цитата из трагедии Вольтера «Меропа».
В своё время на Радищева произвела огромное впечатление смерть его старшего товарища по Пажескому корпусу и однокашника по Лейпцигскому университету Фёдора Ушакова. Тот, уже находясь при смерти, уговаривал друзей дать ему яду, чтобы прервать его мучения. Друзья отказались осуществить эту, как мы сказали бы теперь, эвтаназию, но впоследствии Радищев считал такую меру оправданной. Обращаясь к Кутузову, Радищев напоминает ему этот болезненный эпизод из их общего прошлого, на который теперь он смотрит иначе: «Воспомяни сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пиющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподал им учение, какого во всём житии своём не возмог».
Теория оправдания суицида подробно изложена в главе «Крестьцы», где добродетельный отец, отправляющий сыновей на службу, наставляет их в их самостоятельной жизни и между прочим советует и даже требует умереть, «если, доведённу до крайности, не будет тебе покрова от угнетения». Тут он ссылается на слова умирающего Катона – а конкретнее, героя одноимённой трагедии Джозефа Аддисона (1713). Катон Младший был философом-стоиком, общепризнанным примером высокой нравственности, претором Римской республики и лидером сенатской оппозиции Юлию Цезарю. После сокрушительного поражения сил республиканцев Катон бросился на меч, не пожелав, как пишет Плутарх, «чтобы тиран, творя беззаконие, ещё и связал бы [его] благодарностью» и прокомментировав решение о самоубийстве следующим образом: «Ну, теперь я сам себе хозяин». Катон был важной ролевой моделью для Радищева (ту же трагедию Аддисона он цитирует и в другой главе – «Бронницы»). Юрий Лотман полагает, что самоубийство Радищева было исполнено именно по этому образцу как «акт утверждения свободы и автономности личности»[68].
В предисловии к лондонскому изданию «Путешествия» Александр Герцен в каком-то смысле объединил две теории – Радищев покончил с собой из-за депрессии, вызванной крушением его гражданских идеалов: «Вызванный самим Александром I на работу, он надеялся провесть несколько своих мыслей и пуще всего – мысль об освобождении крестьян, в законодательство, и когда, пятидесятилетний мечтатель, он убедился, что нечего думать об этом, тогда он принял яду и умер!»[69] Действительно, можно увидеть здесь отголоски «вертеровского поветрия»: сентиментализм воспитал в русских дворянах европейскую чувствительность, несовместимую с грубой российской реальностью. Чхартишвили приводит выразительный пример 17-летнего помещика Михаила Сушкова, автора повести «Российский Вертер», который «отпустил на волю своих крепостных, написал пространное философское письмо в стиле излияний гётевского героя и застрелился» в 1792 году.
Николай Карамзин. «Бедная Лиза»
О чём эта книга?
Молодой богатый дворянин Эраст влюбляется в бедную крестьянку Лизу, соблазняет её, но, разорившись, женится на богатой вдове. Лиза, не в силах пережить потерю возлюбленного, топится в пруду. Сегодня этот сюжет может показаться наивным, а описание глубоких чувств крестьянской девушки – шаблонным, но в молодой русской литературе «Бедная Лиза» произвела революцию. Вчитаться в главную повесть Карамзина стоит, чтобы ощутить свежесть, невинность – и дерзость, с которой он начинает русскую прозу.
Когда она написана?
Карамзин пишет «Бедную Лизу» в 1792 году, вскоре после возвращения из долгой заграничной поездки, которой посвящены «Письма русского путешественника» – над ними он работает в это же время, начиная с 1791-го. Вернувшись из Европы, Карамзин твёрдо решает стать литератором и, по формулировке Юрия Лотмана, «испытывать своё сердце, воспитывать себя, учить читателей, воспитывать в них добрые чувства и плакать над бедствиями человечества». Эта программа, одновременно просветительская и сентименталистская, не в полной мере, но исполняется в «Бедной Лизе». В 1792-м Карамзин уже не дебютант в литературе, но «Бедная Лиза» приносит ему славу.
Как она написана?
Карамзин начинает повесть с обширной экспозиции, показывая сцену действия и выстраивая целый космос (деревня и монастырь против города). Рассказчик в «Бедной Лизе» представляется знакомым Эраста и, глубоко сочувствуя героям, отказывается судить их. Он – не бог произведения, а такой же человек, его роль – как бы роль летописца: «Для чего пишу не роман, а печальную быль?» Для простого летописца он, однако, слишком часто вторгается в текст, в том числе прямо посреди любовных сцен; последние слова повести – предположение о том, что за гробом Эраст и Лиза примирились, – тоже сугубо «авторские». Предлагая героям своё понимание и сочувствие, Карамзин подталкивает к тому же читателей, предлагает смотреть на Эраста и Лизу как на живых людей. Они – не аллегории классицистической литературы и не социальные «типы» литературы натуралистической. Повествователь даже уважает их право на тайну: «Но я не могу описать всего, что они при сём случае говорили».
Ж.-Б. Дамон-Ортолани, 1805 год. Портрет Н. М. Карамзина[70]
Разумеется, это не означает, что «Бедная Лиза» – реалистический текст: в нём масса условностей, а многочисленные приметы «чувствительности» – вздохи, восторги, слёзы, обильно источаемые героями и повествователем, наконец, особая поэтичность, вплоть до ритмической имитации «народного» повествования, – не позволяют забыть, что перед нами произведение XVIII века.
Что на неё повлияло?
В основе «Бедной Лизы» лежит сюжет о разлучённых влюблённых, известный с Античности. Среди выдающихся его литературных образцов – «Дафнис и Хлоя» Лонга[71], «История моих бедствий» Абеляра, «Ромео и Джульетта» Шекспира. Но два важнейших источника влияния на «Бедную Лизу» внутри этой традиции – «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо и «Страдания юного Вертера» Гёте. Рассуждая в «Письмах русского путешественника» о связи этих двух произведений, Карамзин как бы бросает нить к будущей повести. Героиня «Новой Элоизы» Юлия д'Этанж, как и Лиза, переживает «падение» в объятьях любимого человека, затем она вынуждена выйти замуж за его благородного соперника, а в конце романа спасает из реки собственного сына и вскоре умирает от жестокой простуды. Герой романа Гёте, молодой художник Вертер, одержим любовью к девушке Шарлотте и в финале романа кончает с собой, застрелившись из пистолета своего соперника и друга Альберта; где-то в середине романа Вертер рассказывает Альберту историю о девушке, утопившейся после расставания с возлюбленным.
Эти сюжетные ходы так или иначе реализуются в «Бедной Лизе», но ещё важнее для Карамзина идеи его предшественников о ценности человеческих чувств, о том, что человеческие слабости и страсти могут быть прекрасны и по крайней мере достойны сочувствия. В написанной до «Бедной Лизы» (но опубликованной после) повести Павла Львова «Софья» соблазнённая героиня точно так же, как Лиза, топится в пруду, но Львов трактует это во вполне классицистическом духе: «в отличие от Лизы Софья становится жертвой сластолюбивого негодяя, князя Ветролёта, которого она предпочитает благородному и чувствительному Менандру, а судьба, постигшая её, преподносится автором как жестокое, но в известном смысле справедливое возмездие»[72]. Разумеется, трактовка Карамзина – шаг вперёд. Его Лиза – не в сословном, а в духовном смысле – самая благородная из персонажей повести, и в признании того, что крестьянка может быть «в нравственном отношении гораздо выше… дворянина»[73], Карамзин, скорее всего, следует за Радищевым и его «Путешествием из Петербурга в Москву»[74].
Как она была опубликована?
Повесть вышла в шестой книжке «Московского журнала» за 1792 год. «Московский журнал» издавал сам Карамзин – здесь он, кроме «Бедной Лизы», опубликовал «Письма русского путешественника», «Наталью, боярскую дочь» и другие свои произведения и переводы; в том же году журнал закрылся, но в 1801–1803 годах Карамзин переиздал все его номера. (Можно отметить, что параллельно с новой русской литературой Карамзин создавал и среду для неё.) В 1794-м Карамзин перепечатывает «Лизу» в сборнике «Мои безделки»; в 1796 году повесть вышла отдельным изданием. Последнее прижизненное издание «Бедной Лизы» вышло в 1820 году. От издания к изданию Карамзин вносил в повесть небольшие исправления, «модернизирующие» текст[75]: например, чёрные глаза Лизы в конце концов сделались более «романтическими» голубыми.
Как её приняли?
«Бедная Лиза» произвела фурор, не сравнимый ни с чем до неё. Повесть Карамзина была «первым образцом русской беллетристики», то есть книгой, которая «может заинтересовать не специального читателя из круга знакомых автора, а человека из определённой социальной группы»[76]. Эта социальная группа была немногочисленной по нынешним временам, но уже появилось поколение дворян, взявших привычку читать по-русски. Можно сказать, что Карамзин, обеспечив для «Бедной Лизы» журнальный контекст, сам же и создал эту группу, «новую и под новым знаком объединившуюся читательскую аудиторию»[77].
Эффект новизны в трагическом финале «Бедной Лизы» получился невероятным. Сегодня нам трудно это представить. «Бедная Лиза», которую сравнивали с гётевскими «Страданиями юного Вертера», породила свой «эффект Вертера»: есть сведения о волне подражательных самоубийств юных девушек. Потрясённые читатели сделали монастырь и пруд, в котором утопилась героиня, местом паломничества: по словам современника Карамзина, писателя Николая Иванчина-Писарева, «все тогдашние светские люди пошли искать Лизиной могилы». На деревьях вокруг пруда появлялись надписи – наподобие тех, что сегодня украшают подъезд дома на Садовой, где расположена булгаковская «нехорошая квартира». Преимущественно надписи были сентиментального свойства – пример приводится на фронтисписе первого книжного издания «Бедной Лизы»:
- В струях сих бедная скончала Лиза дни;
- Коль ты чувствителен, прохожий! воздохни.
Но попадались и ехидные эпиграммы – одну, встречавшуюся в разных вариациях, история сохранила до наших дней:
- Здесь бросилася в пруд Эрастова невеста.
- Топитесь, девушки: в пруду довольно места!
Существовало, кстати, предание, что этот пруд выкопал Сергий Радонежский[78], так что почитание юной самоубийцы было здесь не очень-то уместно.
Пруд у Симонова монастыря. 1893 год. Фотограф П. Остроумов[79]
Фрэнсис Данби. Разочарованная в любви. 1821 год[80]
Профессиональная литературная критика, тогда ещё только нарождавшаяся, приняла «Бедную Лизу» с неменьшим восторгом. В 1797 году вышла статья Петра Шаликова «К праху бедной Лизы». Автор писал, что повесть Карамзина изменила само восприятие мира – хотя бы того пейзажа, на фоне которого разворачивается действие: «Может быть, прежде… на сию самую картину, на сии самые предметы смотрел бы я равнодушно и не ощущал бы того, что теперь ощущаю». Слезливость Шаликова у следующего поколения литераторов стала притчей во языцех[81], но его отношение к «Бедной Лизе» характерно: «Одно нежное, чувствительное сердце делает тысячу других таковыми». Позднее Василий Жуковский, признававший, что появление карамзинского «Московского журнала» и проза Карамзина «произвели полный переворот в русском языке», писал, что его ранние повести, «отмеченные печатью вкуса, носят ещё характерные черты молодости». Подлинный расцвет Карамзина-прозаика критики связывали с «Историей государства Российского».
Что было дальше?
Как пишет Кирилл Кобрин, повесть Карамзина «стала сенсацией, нашла – по меркам тех времён, конечно, – массового читателя, после чего довольно быстро превратилась в литературный анахронизм»[82]. Он же, впрочем, замечает: «Бедная Лиза» – точка отсчёта в истории новой русской беллетристики, без неё не было бы ни «Станционного смотрителя», ни «Бедных людей», ничего. Но это точка невозврата сегодняшнего читательского понимания». Чувствительный, слёзный стиль раннего Карамзина довольно скоро станет уделом эпигонов, с которыми и будет ассоциироваться. Среди этих эпигонов – Александр Измайлов, выпустивший в 1801 году повесть «Бедная Маша» (заглавная героиня не кончает с собой, а умирает от тоски, зато кончают с собой её соперница и муж-двоеженец), и анонимный автор повести «Несчастная Лиза», опубликованной в журнале Петра Шаликова «Аглая» в 1810 году. Вообще же после «Бедной Лизы» и других повестей Карамзина жанр входит в моду: за двадцать лет после выхода «Лизы» в российских журналах было напечатано более ста повестей[83].
Уже в 1830-е над «Бедной Лизой» было принято подшучивать. Бестужев-Марлинский[84] называл её неудачным подражанием Стерну и иронизировал над восторгами современников: «Все завздыхали до обморока, все кинулись ронять алмазные слёзы на ландыши, над горшком палевого молока, топиться в луже». Лет через десять так же будут смеяться над пышными романтическими повестями самого Марлинского, а Карамзин останется в памяти потомков в первую очередь как великий историограф, открывший русским самих себя.
Сюжет «Бедной Лизы» был, несмотря на всю иронию, воспринят романтической литературой: его отголоски можно встретить в «Эде» Баратынского и «Повестях Белкина» Пушкина. Позднейшие исследователи «Бедной Лизы» сходятся во мнении, что с неё начинается новая русская проза. Пётр Вайль и Александр Генис, несколько утрируя, заявляют, что «милая Лиза с её добродетельной матушкой породила бесконечную череду литературных крестьян», вплоть до персонажей советских «деревенщиков», а из раскаяния Эраста «выросла заботливо лелеемая вина интеллигента перед народом»[85].
Орест Кипренский. Бедная Лиза. 1827 год[86]
Портрет карамзинской героини в 1827 году напишет Кипренский. Наконец, ещё одна деталь: будто бы держа в памяти повесть Карамзина, русские классики будут из раза в раз называть своих несчастных героинь Лизами.
Почему «Бедная Лиза» произвела такой фурор?
Дело и в новаторском языке Карамзина («Он первый стал писать гладко. В его сочинениях… слова сплетались таким правильным, ритмическим образом, что у читателя оставалось впечатление риторической музыки. Гладкое плетение словес оказывало гипнотическое воздействие»[87]), и в рассчитанной с лихвой дозе «чувствительности» (недоброжелатели называли Карамзина Ахалкиным), и в том, что сюжет, характерный для европейской литературы, перенесён на русскую, московскую почву. Наконец, дело в небывалом подходе к идее любви: как указывает Юрий Лотман, «Карамзин (следуя за Руссо и предромантической литературой) широко вводил в свои произведения тематику «заблуждений сердца»[88]. Героиня «Бедной Лизы» – девушка, презревшая моральные предписания своего времени, но заслуживает она не порицания, а глубокого сочувствия. Карамзин не осуждает даже её самоубийство: он указывает, что Лизу похоронили пусть и не на кладбище, но под деревянным крестом, выражает надежду на встречу со своей «прекрасной душою и телом» героиней за гробом – «Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!» – и предполагает, что там же, в этой новой жизни, Лиза примирилась с Эрастом. Уже само смещение акцента на героиню, вынесение её в заглавие – знак новизны и одновременно фирменный знак Карамзина (вспомним его же повести «Наталья, боярская дочь», «Марфа-посадница» и другие).
Говоря о «заблуждениях сердца», Карамзин обращал на свою сторону читателей, которым эти заблуждения тоже не были чужды. Русская читающая публика в 1792 году довольно немногочисленна. Тираж «Московского журнала», в котором опубликована «Бедная Лиза», – чуть меньше 300 экземпляров, но, конечно, у повести было гораздо больше читателей, и читатели эти были воспитаны на классицистской переводной литературе, во многом моралистической, далёкой от ежедневных, скрытых переживаний, которые, как показывает Карамзин, могли быть общими и у просвещённых дворян, и у неграмотных крестьянок. «Бедной Лизой» Карамзин вводит в русскую литературу трагическую сюжетную новацию, отчасти навеянную Гёте. Он отказывается от благополучного разрешения конфликта, а сам конфликт развивает на русской почве – то есть ведёт себя не как подражатель, а как истинно европейский писатель. Всё это в начале 1790-х вызывает изумление и даже шок.
Когда и где происходит действие «Бедной Лизы»?
Действие происходит в самом начале 1760-х годов в Москве, судя по всему, с мая (если датировать начало действия по продаваемым Лизой ландышам) по август – сентябрь. Повесть открывается обширным описанием современного Карамзину города. Повествователь говорит о себе как о знатоке Москвы, но эти знания он приобретает как фланёр, вольный исследователь: «Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам». У современного читателя «луга и рощи» могут вызвать недоумение, но в XVIII веке место действия повести – окрестности Симонова монастыря[89] с «мрачными, готическими башнями» – не входило в черту города. Карамзин действительно хорошо знал эти места, любил бродить там; «ездит под Симонов монастырь и прочее обычное творит» – так описывал времяпрепровождение Карамзина его друг, переводчик Александр Петров[90]. В «Бедной Лизе» эти окрестности описаны с топографической точностью[91].
Высокий берег, на котором стоит монастырь и рядом с которым стоит заброшенная хижина Лизы и её матери, – та точка, с которой можно окинуть взглядом город, то есть сцену, где развернётся драма:
Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на неё солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зелёные цветущие луга, а за ними, по жёлтым пескам, течёт светлая река, волнуемая лёгкими вёслами рыбачьих лодок или шумящая под рулём грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные.
Здесь уже заложено естественное для сентименталиста противопоставление города и пасторальной природы: слово «ужасная» относится к размерам города, но подсознательно воспринимается и как качественная характеристика. «У меня всегда сердце бывает не на своём месте, когда ты ходишь в город», – говорит Лизе её мать.
Стоит отметить, что Симонов монастырь в 1760-е – ещё действующий, но в 1771 году он будет закрыт по приказу Екатерины II, в нём будут размещать чумных больных. Обитель снова появится в этих стенах только в 1795 году. В 1792-м, когда пишется повесть, монастырь всё ещё находится в изрядно обветшалом состоянии: «Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокой травою…» Пользуясь случаем, повествователь свободно входит в кельи, представляя себе то «седого старца, преклонившего колена перед распятием», то плачущего и вянущего «юного монаха – с бледным лицом, с томным взором». Словом, такое место как нельзя лучше подходит для воспалённых фантазий и меланхоличного созерцания – сентименталисты первыми начинают культивировать почтение к руинам, которое впоследствии переймут у них романтики.
Заброшенная хижина Лизы составляет ансамбль с заброшенным монастырём – зато, как и он, находится на возвышении по отношению к губительному городу. В 1930-е почти все монастырские постройки будут снесены, Лизин пруд засыпан.
Как развивается любовь Эраста и Лизы?
Уже увлечённая Эрастом, Лиза мечтает о том, чтобы исчезла преграда, разделяющая её с любимым:
Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рождён был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо своё: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо своё? И здесь растёт зелёная трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою… Мечта!
В этот самый момент появляется Эраст – и буквально повторяет Лизину мечту: «…он взглянул на неё с видом ласковым, взял её за руку…» (эта буквальность вдобавок выделена всегда значимым у Карамзина курсивом).
Такие совпадения мыслей и реальности, которые известны, вероятно, каждому влюблённому, Карамзин описывает впервые; впоследствии их описание станет отдельным приёмом, например у Толстого. Несмотря на сладостное исполнение мечтаний, проблема социального неравенства никуда не девается, а в отношения Эраста с Лизой, пока ещё более-менее невинные, сразу вкрадывается обман: Эраст просит Лизу ничего не говорить матери о новых отношениях с ним. «Его ложная чувствительность и книжность мышления, усиленные нарциссической самовлюблённостью, превратили «мнимого пастушка» в соблазнителя, без труда идентифицируемого с тем безымянным «каким-нибудь дурным человеком», от общения с которым предостерегала Лизу её мать», – замечает современная исследовательница[92]. Подобная поверка чувства доверием к родителям – не новый в литературе мотив: Карамзин мог знать, например, «Зимнюю сказку» Шекспира, в которой принц Флоризель, желая взять в жёны прелестную пастушку Пердиту (на самом деле – принцессу, о чём никто до поры до времени не знает), боится рассказать о своём намерении отцу, чем вызывает его гнев.
Поначалу платонические чувства Эраста («Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви её и буду всегда счастлив!») вскоре утрачивают бесплотность – что предрекает вмешивающийся в мысли Эраста повествователь: «Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты своё сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?» Здесь нет осуждения Эраста – Карамзин вообще воздерживается от морализаторства. Следом за Руссо он полагает, что всё происходящее с влюблёнными естественно, так что повествование закономерно движется к кульминации. Рассмотрим сцену «падения» Лизы:
Она бросилась в его объятия – и в сей час надлежало погибнуть непорочности! – Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь прелестною – никогда ласки её не трогали его так сильно – никогда её поцелуи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак вечера питал желания – ни одной звёздочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная отчего – не зная, что с нею делается… Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?
«В самом рискованном месте – одна пунктуация: тире, многоточия, восклицательные знаки», – замечают Вайль и Генис, предлагая отсчитывать отсюда русскую традицию избегания прямых описаний секса[93]. Между тем этот фрагмент – один прозрачный намёк: карамзинские тире и короткие предложения резко выделяются на фоне остального гладкого текста, разрывают его, напоминают движения и дыхание любовников.
После этой сцены отношения Эраста и Лизы меняются и неумолимо движутся к завершению: срочно возникает война, на которую Эрасту непременно нужно ехать (если мы относим действие к началу 1760-х, то речь идёт о завершающейся Семилетней войне[94]); сцена расставания пронзена такими же тире, напрямую передающими психологическое состояние влюблённых: «Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил её – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и, наконец, скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти».
Затем выясняется, что Эраст проигрался в карты, в армию не поехал и вынужден был жениться на богатой вдове, на прощание лишь «посвятив искренний вздох Лизе своей». Нидерландский исследователь Иоахим Клейн предполагает, что Карамзин подчёркивает поверхностность чувств Эраста, вводя в повесть «лейтмотив денег» – от первого рубля, за который он хочет купить у Лизы цветы (стоящие в 20 раз дешевле), до ста рублей, которыми он затем пытается откупиться от бывшей возлюбленной[95]. Лиза ведёт себя прямо противоположным образом, отказываясь от замужества с сыном богатого крестьянина, и погибает не из-за своего позора, а из-за обмана Эраста, из-за расставания с ним. Она, впрочем, берёт у Эраста деньги (что позволяет Александру Архангельскому сказать, что Лиза «оказывается отчасти заражена духом неискренности») но делает это машинально, неосознанно: «Город её погубил, но сельская чистота не исчезла»[96]. Важно при этом, что и Эраст «многое перенимает» у Лизы: «Он до конца жизни останется чувствительным, не сможет утешиться – и то, что именно он рассказывает повествователю эту историю, говорит о том, что сюжет для него со смертью Лизы не развязался»[97].
Мог ли Эраст жениться на Лизе?
Многие исследователи отмечают, что и дворянское происхождение, и образованность Эраста предстают в невыгодном свете по сравнению с наивностью и силой чувств крестьянки Лизы. Эраста можно счесть проторомантиком: «Он вёл рассеянную жизнь, думал только о своём удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою»; к любовной жизни он подготавливает себя чтением сентименталистских романов. Пётр Вайль и Александр Генис вообще называют Эраста первым из «лишних людей» русской литературы, которые губят других, в частности влюблённых в них женщин, и сами остаются несчастными. Конечно, не стоит искать в характере Эраста глубины Онегина и Печорина, но нельзя считать его и карикатурой на развращённого городского молодого человека.
Мысль о женитьбе на Лизе в голову Эрасту не приходит – но, конечно, не оттого, что он (подобно, например, Печорину) не приемлет брак как таковой. Женитьба дворянина на крестьянке не возбранялась законами Российской империи, но в конце XVIII – начале XIX века была невероятным эксцессом; самый скандальный такой случай – свадьба графа Николая Шереметева с его крепостной (которой он перед этим дал вольную) – актрисой Прасковьей Жемчуговой в 1801 году. Это бракосочетание проходило почти тайно, Шереметев сочинил легенду о происхождении своей невесты из польского шляхетского рода. Но что дозволено Юпитеру, не дозволено быку: Эраст – не граф Шереметев, и женитьба на крестьянке для него немыслима. Лиза прекрасно это понимает – тем возвышеннее в глазах повествователя её самопожертвование и готовность жить ради возлюбленного. Эраст будто бы оскорблён соображениями Лизы («Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу»), но, конечно, не делает ей предложения, а вместо этого лишает невинности.
Кстати, не исключено, что после «Бедной Лизы» Карамзин решил слегка реабилитировать Эраста: то же имя носит один из главных героев его повести «Чувствительный и холодный» (1803) – «чувствительный» Эраст, также по-руссоистски живущий порывом, но ведущий себя с исключительным благородством. А в повести «Юлия» (1796) Эрастом зовут уже маленького сына заглавной героини, которая на короткое время отступает от добродетели, – но, в отличие от «Бедной Лизы», здесь всё заканчивается хорошо.
Крестьянка Лиза живет вне города, зарабатывает своим трудом. Разве она не крепостная?
Современные исследовательницы Вера Шумина и Наталья Свитенко отмечают, что фабула «Бедной Лизы» укладывается в типично сентименталистскую схему: «представитель высших классов соблазняет и губит девушку низкого сословия», но при этом «подлинная социальная среда, где происходит конфликт, затушёвана; Лиза и её мать с успехом могли бы быть поняты читателем как горожанки, как бедные дворянки»[98]. Это, положим, попросту неверно: противопоставление города и деревни в «Бедной Лизе» слишком отчётливо, а робость Лизы в городе и недоверие к городу её матери показаны прямо. Но Шумина и Свитенко верно замечают, что «крепостная эпоха никак не угадывается в повести: Лиза – это типичный для сентиментализма «естественный человек». Крестьянская жизнь для Карамзина – идиллическая условность. Известный советский филолог Николай Пиксанов пишет о «Бедной Лизе» с некоторым классовым недовольством, противопоставляя её правдивым картинам из прозы Радищева[99]:
Автор неохотно касается бытовой, трудовой жизни героинь. Правда, вначале он сообщает читателям скороговоркой, что Лиза, «не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды и всё сие продавала в Москве». Но в ходе повествования крестьянский труд не показан; автор словно забывает о нём. Так, Лиза поутру пропадает целых два часа на свидании с Эрастом – и мать этого не замечает. О самой матери Карамзин рассказывает: «Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала», – и только; кроме наслаждения природой, ни о чём другом не упомянуто.
Скорее всего, входить в тонкости сословного положения Лизы Карамзин просто не собирался. Для его задачи было вполне достаточно указать на непреодолимое социальное неравенство героев: Лиза – крестьянка, Эраст – дворянин, и на этом всё. Это не единственная условность «Бедной Лизы» – не считая скандального оправдания греха и самоубийства, которое как раз входит в авторскую задачу, это, например, необычная разница в возрасте матери и дочери: Лизе семнадцать лет, её матери – под шестьдесят. Если в семье и были другие дети, нам об этом ничего не известно, но для крестьянки XVIII века возраст за сорок – прямо-таки экстремальный для первых родов.
Алексей Венецианов. Крестьянка с васильками. 1820-е годы[100]
«И крестьянки любить умеют». А раньше это было непонятно?
Афоризм «И крестьянки любить умеют» Карамзин относит не к Лизе, а к её матери, и здесь это не «незаконная» любовь к обольстителю, а праведная тоска по умершему мужу и надежда свидеться с ним на том свете: «Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего». Мать Лизы охотно рассказывает о своей любви Эрасту, которого эти рассказы и умиляют, и, вероятно, настраивают на возвышенно-пасторальный лад в его собственных отношениях с Лизой:
Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил её и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» – Эраст слушал её с непритворным удовольствием.
Итак, и крестьянки любить умеют – но они умеют любить крестьян. Мезальянс, подобный Лизиному, в крестьянскую систему представлений совсем не входит; отношения между «барином» и крестьянкой могут быть только отношениями с любовницей, наложницей. Между тем всё, что мы знаем о повседневной жизни русских крестьян XVIII века, не указывает на распространённость у них «сентименталистской» / «романтической» любви в понимании Карамзина и его младших современников. Любовным отношениям из романов, знакомых Эрасту, сильно вредил бы тяжелейший крестьянский быт, о котором, как мы помним, в «Бедной Лизе» мало что говорится. Нормальные «крестьянские» любовные отношения появляются в повести, когда к Лизе сватается сосед, сын богатого крестьянина, принадлежащий к тому же миру, в котором выросла Лиза. Но полюбить его так же, как Лизина мать полюбила её отца, крестьянка Лиза не сумела бы. Что касается просвещённых читателей «Московского журнала», для них возможность крестьянской любви была действительно открытием – ровно потому, что в этих категориях о крестьянах не думали.
Зачем в «Бедной Лизе» такие подробные описания пейзажей?
Дубовая роща на той стороне реки, буколические пастухи, чью участь не суждено разделить Лизе, ветшающий Симонов монастырь, противостоящий роскошной панораме развратного города. Этот пейзаж волнующ и глубоко эмблематичен, но не стоит считать его действительно прямым описанием Москвы XVIII века. Карамзин смотрит на природу сквозь литературный фильтр: по его собственному признанию, отправляясь, например, «в рощу», он брал с собой том Джеймса Томсона[101], как бы сопоставляя природу с её описанием (life imitates art[102]). Андрей Зорин, сообщая, что для сентименталиста «все житейские впечатления» сводятся «к набору эмоциональных кодировок, воплощённых великими писателями», приводит в пример фразу из «Писем русского путешественника»: «Весна не была бы для меня столь прекрасна, если бы Томсон и Клейст[103] не описали мне всех красот её»[104].
По мнению Владимира Топорова, в «Бедной Лизе» «впервые в русской культуре художественная проза создала такой образ подлинной жизни, который воспринимался как более сильный, острый и убедительный, чем сама жизнь»[105]. Пейзажи здесь играют далеко не вспомогательную роль. Они то вторят душевным состояниям героев, то составляют с ними контраст. Вот тоскующая и влюблённая Лиза «чужими глазами» смотрит на привычную картину: «До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу». Пейзажи, с одной стороны, объясняют чувства и поведение героев, с другой – их восприятие зависит от того, что происходит с Эрастом и Лизой. Перед нами нечто вроде гиперреализма XVIII века. Характерный пример – сцена прощания Лизы с Эрастом, уходящим на войну (утром, возможно после проведённой вместе ночи):
Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании. Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил её – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и, наконец, скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.
Горестное прощание происходит на эффектном утреннем фоне – его можно воспринимать как идиллический и прекрасный, но для расстающихся влюблённых алый цвет зари и тишина «натуры» могут казаться зловещими, тревожными. Ещё более разительный пример – описание пруда, в котором Лиза «свои скончала дни». Во время своего счастливого романа Эраст и Лиза встречаются «всего чаще под тению столетних дубов… осеняющих глубокий чистый пруд, ещё в древние времена ископанный». Глубина пруда может предсказывать Лизину гибель, чистота соответствовать главной черте её характера, но все эти соответствия мы воспринимаем лишь ретроспективно – при первом чтении Карамзин нас будто убаюкивает: «Там часто тихая луна, сквозь зелёные ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга…» Зато, навсегда расставшись с Эрастом, Лиза «вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями её восторгов». О чистоте пруда здесь уже не говорится; несколькими строками позже он вовсе лишится эпитета, а дуб станет «мрачным»: «Её погребли близ пруда, под мрачным дубом». «Бедная Лиза» переполнена эпитетами, для Карамзина они очень важны – их смена или отсутствие говорят о многом.
Можно ли по «Бедной Лизе» понять, что такое сентиментализм?
«Ах! Я люблю те предметы, которые трогают моё сердце и заставляют меня проливать слёзы нежной скорби!» – заявляет повествователь, перед тем как приступить к рассказу о бедной Лизе. Эта любовь – программная для писателя-сентименталиста: через два года после повести в статье «Что нужно автору?» Карамзин скажет, что писатель имеет право заниматься своим ремеслом («смело призывать богинь парнасских»), только если «всему горестному, всему угнетённому, всему слезящему открыт путь во чувствительную грудь» его.
Сентиментализм, каким его придумали европейские предшественники Карамзина – Джеймс Томсон, Жан-Жак Руссо, Гёте, в какой-то мере Ричардсон[106], переносил акцент с рациональности – иногда язвительной, часто механистичной – на открытое чувство, объявляя его одной из высочайших ценностей, условием человеческого существования, которого не следует стесняться. Но классицистическое желание философски оправдать это чувство из сентименталистской прозы не уходит. В «Бедной Лизе» Карамзин заставляет своих героев произносить, по сути, авторские отступления в таком роде: «Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слёзы не капали».
Важное отличие «Бедной Лизы» от европейской сентименталистской классики – её краткость по сравнению, например, с романами Ричардсона, да и со «Страданиями юного Вертера» Гёте. Карамзин умеет коротко и внятно формулировать, он афористичен. «Бедная Лиза» дарит нам трюизм-откровение: «и крестьянки любить умеют»; другой знаменитый текст Карамзина – эпитафия «Покойся, милый прах, до радостного утра!» – умещает в одной строке горечь утраты и целую необозримую эпоху до наступления Царства Божия на земле, которое сделает возможным новую – без сомнения, слёзную – встречу. Впрочем, «Бедная Лиза» предполагает, что ждать второго пришествия не обязательно: «Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!»
Стоит отметить, что в жизни Карамзин отнюдь не был склонен к сердечным излияниям. Свои глубокие чувства он таил под маской сдержанности; Жермена де Сталь[107], познакомившись с ним, охарактеризовала его так: «Сухой француз – вот и всё»[108]. Очень многие читатели Карамзина ставили знак равенства между ним и повествователем «Бедной Лизы» или героем «Писем русского путешественника», хотя делать это, как показывают работы Юрия Лотмана и Владимира Топорова – ошибка. При этом исследователи смотрят на Карамзина по-разному: если для Лотмана жизнь Карамзина – интеллектуальное приключение, сотворение самого себя, то Топоров доказывает, что исследовательское внимание писателя было направлено вовне: «У него был дар осмыслять, анализировать (иногда почти синхронно) все перипетии любовного чувства и любовной драмы во всех тонкостях и в разных вариантах. Многие сочинения Карамзина… должны рассматриваться как высшее в России рубежа двух веков теоретическое осмысление любви, намного опередившее своё время, как открытие высокого эротизма и образцы нового языка любви, как прорыв в сферу аналитической психологии любовного чувства»[109].
Ландыши. Цинкография работы К. Шабо с рисунка М. А. Бернетт из книги «Plantae Utiliores: or Illustrations of Useful Plants». 1842 год[110]
Наконец, ещё одна важная грань сентиментализма, в «Бедной Лизе» отсутствующая, – особый юмор, многословный, тонкий, но умеющий быть и раблезиански остроумным. Главный гений такого юмора – Стерн, которого Карамзин чтил и переводил, по чьим следам буквально шёл во время пребывания в Англии («Что вам надобно, государь мой?» – спросил у меня молодой офицер в синем мундире. – «Комната, в которой жил Лаврентий Стерн», – отвечал я»). Со стерновским «Сентиментальным путешествием» много раз сопоставляли карамзинские «Письма русского путешественника» – но не «Бедную Лизу». Автор работы о карамзинском стернианстве Фаина Канунова показывает, что в своём «Московском журнале» Карамзин печатал не юмористические, а именно сентиментальные отрывки из Стерна[111] и лишь на излёте сентименталистской эпохи отдал должное стерновскому юмору.
«Письма русского путешественника» – как раз тот текст, без которого представление о русском сентиментализме невозможно. Это текст от лица сентименталиста-исследователя, в нём буквально проговорены те основания, на которых Карамзин создаёт новую русскую литературу как европейскую. По словам Андрея Зорина, «Письма» «стали для русского читателя в столицах и провинции беспрецедентным источником новых эмоциональных матриц»[112]. Опыт, полученный Карамзиным в заграничном путешествии, позволил ему создать и «Бедную Лизу», которую нужно воспринимать уже в этом новом эмоциональном контексте – как ярчайшее его выражение, краткий манифест, оказавший воздействие на целое поколение.
Почему говорят, что Карамзин придумал русский литературный язык?
Если о «Бедной Лизе» обычно говорят, что она начинает русскую прозу (при этом в расчёт не принимаются ни романы и повести русского классицизма, ни тем более древнерусская литература), то карамзинская работа в целом заслуживает у филологов ещё более высокой оценки: его называют иногда реформатором, а иногда и основоположником русского литературного языка – хотя гораздо чаще ту же роль отводят Пушкину. Что же лежит в основе этой оценки?
Прежде всего это разнообразие задач, которые Карамзин решал. Ещё убеждённый поклонник Карамзина Пётр Шаликов отмечал, что «Марфа посадница написана совсем иным образом, нежели бедная Лиза; бедная Лиза совсем иным образом, нежели Наталья, боярская дочь; Наталья, боярская дочь совсем иным образом, нежели Юлия»; к этому списку можно прибавить и «Письма русского путешественника», вводящие в русскую прозу новейшие западноевропейские реалии, и, конечно, «Историю государства Российского», утверждающую древность и благородство страны: «Оказывается, у меня есть Отечество!» – легендарное восклицание Фёдора Толстого-Американца[113], прочитавшего очередной том «Истории». Такая реакция возможна потому, что Карамзин изложил русскую историю не только с максимально возможной в его время достоверностью, но и современным для его читателей языком, совсем не похожим ни на древнерусские летописи, ни на труды Ломоносова и Татищева[114], которые в начале XIX века уже воспринимаются как архаика. Пушкин, оканчивая «Бориса Годунова» – произведение, в котором художественный подход к истории принципиально нов по сравнению, например, с историческими драмами Сумарокова и Княжнина[115], – посвящает «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный».
Благозвучность карамзинской прозы отмечали современники – как старшие («Пой, Карамзин! И в прозе / Глас слышен соловьин» – Державин), так и младшие («Карамзин открыл тайну в прямом значении – ясности, изящества и точности» – Жуковский). Здесь, конечно, сказывается параллельная поэтическая карьера Карамзина: исследователи «Бедной Лизы» указывают на множество поэтических элементов, ритмических повторов в тексте. Но дело не только в поэтичности. Карамзин отказывается от традиционного тяжеловесного стиля русской книжности XVIII века – стиля, зависящего от античных и церковнославянских образцов, иногда даже на уровне синтаксиса. Одновременно он заимствует синтаксические обороты и корни из современных европейских языков. Литературные противники Карамзина, во главе которых стоял фактический руководитель общества «Беседа любителей русского слова» Александр Шишков, упрекали Карамзина и его последователей (в XX веке Юрий Тынянов назовёт их карамзинистами) в офранцуживании языка. Убеждённый архаист поэт Семён Бобров выводит сатирическую фигуру Галлорусса[116], который выражает свои мысли «против свойства истинного языка». Карамзин, в свою очередь, противоречит классицистам-академистам – на выступлении в Академии наук в 1818 году он говорит:
Главным делом вашим было и будет систематическое образование языка: непосредственное же его обогащение зависит от успехов общежития и словесности, от дарования писателей, а дарования – единственно от судьбы и природы. Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка, или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые, мыслию одушевлённые слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого учёного законодательства с нашей стороны: мы не даём, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нём уже существуют: надобно только открыть или показать оные.
Но, с другой стороны, «открывая или показывая» правила языка, Карамзин исходит не из того, что в нём уже есть, а из того, что в нём должно быть. Часто говорят, что Карамзин придумал букву Ё; на самом деле придумала её княгиня Екатерина Дашкова[117], а Карамзин начал активно использовать в своих изданиях. Это, разумеется, страшно раздражало архаистов – в первую очередь Шишкова, для которого Ё было знаком простонародного, неграмотного произношения. Но если о необходимости буквы Ё до сих пор спорят (хотя произношение с Ё давным-давно стало нормативным), то вот неполный список неологизмов, которые, как считается, придумал Карамзин:
благотворительность, будущность, влиять, влюблённость, вольнодумство, впечатление, гармония, занимательность, катастрофа, промышленность, сосредоточить, сцена, утончённость, человечный, эпоха, эстетический.
Сегодня без этих слов, которые когда-то казались современникам нелепыми, мы не представляем себе русского языка.
Правда ли, что в русской литературе все Лизы – бедные?