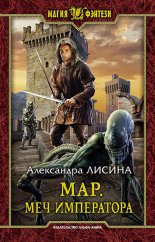Слово и дело. Книга первая. Царица престрашного зраку. Том 2 Пикуль Валентин

– Вот племянница моя! – сказала, подняв ребенка над собой. – Да будь благословенно чрево ее, которое породит в возрасте. И то, что породит она чревом своим, тому и быть на престоле прародительском, престоле Российском… Такова воля моя, самодержавная!
И заставили присягать. Тут же, пока не одумались.
Великое смущение было… кому присягать?
Тому присягать, что родится.
Когда родится? – Родится, когда родится.
А что родится? – Тому и быть на русском престоле.
Высшие чины империи присягали неведомо кому…
На штыках! Пока не рассвело. Во мраке.
Впрочем, никто не осмелился возразить.
…
Этим беззаконным актом о престолонаследовании Анна Иоанновна открыла дорогу для тронных переворотов, и они пойдут теперь своей исторической чередой: Анна Леопольдовна умрет в Холмогорах, сын Иоанн, порожденный ею, будет зарезан в Шлиссельбурге, Петра III проткнет вилкой бравый Алешка Орлов, а Павла I задушат в спальне офицерским шарфом, снятым с шеи поэта Сергея Марина…
Эта ночь не пройдет даром для династии Романовых!
Глава шестая
С утра на Дворе монетном залили металлом расплавленным горло трем фальшивомонетчикам. Двое сразу умерли, а третьему металл, дымясь, через горло прошел насквозь и в землю вытек…
– А все отчего? – сказал Татищев. – Все оттого, что деньгу нашу легко подделать. Надобно деньги выпускать не лепешками, а шариками, как горох. Тогда фальшивых менее станется, ибо круглую монету подделать трудней без ущербу ей в качестве фабричном…
В деньгах Татищев докой был – недаром при Монетном дворе состоял. Вот и сегодня пришли скупщики серебра, ударили перед ним в четыре тысячи червонцев. Да еще руку Татищева поцеловали:
– Уж ты прими, кормилец наш, на зубок себе. Да зато не волокитничай, когда серебришко в монеты перестукаешь…
Татищев взятку захапал, а себя извинил словами из писания священного: «…делающему мзда не по благодати, а по делу!» Мол, беру за труды свои… Василий Никитич был казнокрадец удивительный, из особой воровской породы – ученой! При Петре Первом он даже составил особый регламент, по каким статьям можно брать взятки: «1) Ежели за просителя работал после полудня, чего делать по службе не обязан, ибо в жалованье не ставится; 2) Ежели дело не тянул справками и придирками и 3) Ежели решил дело тяжебное не в очередь, а скоро и честно, в выгоду просителя и отечеству не в убыток»…
– Разумная любовь к самому себе, – утверждал Татищев, – уже есмь самая великая добродетель, и филозофия сии слова утверждает…
Монетное же дело, которым он ведал, расхлябалось: шатко время было – оттого и деньга в народе шатка.
Теперь новое дело выдумали: рублевики чеканить.
– Оно бы и неплохо, – доказывал Татищев канцлеру Головкину, – да вот беда: мужику нашему рублевик и во сне не приснится. А коли мелкие деньги изъять в расходе, так мужик наш завсе из финансов государственных выпадет. Ведь на рубль только богатый человек торговать может, а простолюдинам мелкая деньга необходима… Копейка там, осьмушка опять же – мелочь по рукам ходит, рубли собирая!
Мудрому совету Татищева не вняли: решили чеканить серебро крупно – богатым это удобнее (копить легче), а мужику совсем гибель. Так-то вот сидел Василий Никитич и рассуждал о деньгах, когда навестил его обер-гофкомиссар Лейба Либман и удивил вопросом подозрительным:
– На лигатуре монетной большой ли доход себе имеете?
– Проба разная, – уклонился Татищев. – Была всякая, да и весы плохие… Ныне семьдесят седьмую желательно.
– О! – сказал Либман. – Это много… А кто учтет?
– Я и учту, – скромно отвечал Василий Никитич.
– А кто проверит?
– Я и проверю…
– Хм, – призадумался Либман. – Между прочим, – сказал, – одна некая особа, при дворе известная, плутни монетные достаточно знает. Не угодно ли вам с особой этой в кумпанство войти?
– Я сам себе кумпанство! – обозлился Татищев.
– Вот оно и плохо… Без друзей вам будет трудно жить.
Василий Никитич неладное почуял: «Вот и под меня копать стали!» Ключи он взял (а ключи – словно пистолеты, громадные). Этими бы ключами да – по морде, по морде… Однако себя сдержал.
– Извольте, – предложил учтиво, – за мною следовать. Интерес некоей особы, при дворе известной, могу уважить серебром, еще от князя Меншикова оставшимся… Ныне же мы тем серебром горло фальшивым монетчикам заливаем публично!
– И – как? – полюбопытствовал Лейба Либман.
– На себе еще не пробовал, – отвечал Татищев…
Проследовали они через плющильню. Мужики-бойцы давили проволоку. Глухо роптали водяные мельницы, вздымая наверх печатные «бабы». Потом «бабы» враз падали, чеканя деньги, и стены гудели. А мальчишки-ученики, словно котята лапками, быстро выбирали готовую деньгу (еще горячую). «Баба» ухала с высоты – почти по пальцам детей. Но – ловкие! – они убористо справлялись.
– Забирай, – крикнул мастер, и мимо Либмана протянули ящики, полные новых серебристых рублевиков…
Татищев ключами-пистолетами отворил замки на дверях потаенных. Открылась камора – полутемная. Под ногами фактора зачавкало что-то – грязь вроде? Но та грязь и слякоть текла из-под груды серебра, что лежало здесь, химически разлагаясь, словно труп.
– Не такова ли участь всех князей земных? – изрек Татищев, подняв с полу черную несуразную глыбу. – Вот, сударь, и все, что осталось от князя Меншикова, и сим добром могу войти в кумпанство с особой некоей…
Эта «некая особа» с утра была в настроении поссориться, а тут и фактор пришел. Поставил Лейба перед графом тарелку. В тарелке же – нечто страшное, бугреватое, словно гнилое мясо. И течет по столу слизь зловонная.
– Что за мерзость ты притащил? – заорал Бирен на Лейбу.
– Не мерзость, граф. Это серебро в сплаве с мышьяком, из коего всемогущий Меншиков монету свою чеканил…
– Вор! – крикнул Бирен в досаде.
Либман подумал: «Кто вор?.. Я? Татищев? Или сам граф?»
– Меншиков и поплатится за воровство, – ответил Либман, заплетая слова в хитрую канву. – Но господин Татищев сие серебро шлет вам в презент… Каково? Может, сразу в окошко выкинем?
Бирен осатанел от ярости: ему и… эту грязь?
– Татищева давно надо судить, – сказал.
– Он умный господин… За что судить? За ум?
– Был бы человек, – ответил Бирен. – А вина за ним всегда сыщется. И замолчи про ум: что-то больно уж много развелось умников!
Либман взял со стола тарелку с серебром.
– И это… все? – спросил, прищурясь. – Не может быть, чтобы после князя Меншикова, такого богача, ничего не осталось!
Лицо Бирена напряглось, челюсть дрогнула плотоядно:
– Да… Ты прав: куда все делось после Меншикова?
– В самом деле, – просветлел Либман, – разве мы не сможем узнать, где хранятся миллионы Меншикова?
Татищева скоро притянули к суду, и он понял: мстят ему, что не поделился барышами с Биреном… Ушакова он спросил напрямки:
– Невдомек мне, и тужуся – в чем вина моя?
– Ах, Никитич, неужто сам своих вин не ведаешь?..
К монетным делам уже подбирался Миних, жадный до всего на свете, и Василий Никитич махнул рукой, стал умолять Ушакова:
– Да на што я вам? На што инквизиция? Коли неугоден стал, так, не мучая, сразу сошлите в Сибирь к делам горным…
– Сибири тебе не миновать, – утешал его Ушаков. – Но погоди, не суетись. Сначала ты нам душу открой: каковы помыслы твои были в году тридцатом, когда кондиции писались и ты крамольно о женском правлении изрекал?
…
Городок сибирский Березов – место гиблое, ссыльное.
Смотрела Наташа в оконце – в кругляк тот самый, что был в стене еще Меншиковым прорублен. Синел вдалеке лесок, пролетали, как в сказке, гуси-лебеди да курились над «чарусами» трясин синие колдовские туманы. Тишина да снег… Горько!
И никто Наташу не любит. Вот свекровь, Прасковья Юрьевна, та – да, жаловала; но она умерла, бедная, как в Березов приехали. А прочие Долгорукие – звери лютые, глаза бы их не видели. Алексей Григорьевич шпыняет, золовки щиплют, князь Иван жену в небрежении держит. «Эх, Иванушко! – думалось. – Душенька твоя слабенькая… Когда ходил по Москве в золоте да парче, когда при царе состоял, так был ты высок и статен! А ныне – грошик цена тебе: пьян с утра до ночи, соплив да слезлив…»
Не раз брала Наташа Ивана за голову, к груди прижимала.
– О чем плачешь, друг мой? – спрашивала. – В Сибири-то, под штыком сидючи, апелляции нету. Ну сослали… Ну обидели. Так не мы едины в печали своей: вся Русь таково жить стала. Погоди, друг любезный, цари тоже не вечны, а мы еще молоды… Гляди на меня – я ничего не боюсь! Все выживем, все переборем!
А выжить было ей трудно: Долгорукие сами дом острожный заняли, а Наташу с Иваном в сарай выкинули. Когда первенец родился, молоко в чашке мерзло. Второй родился (Борисом нарекли), от холода посинел и умер. А старшенький рос – его Михаилом назвали, – вот одна радость Наташе: мальчик!
Она его своей грудью вскормила и так ему пела:
- У кота, у кота
- колыбелька золота,
- а у Мишеньки мово
- и получше тово.
- Потягушечки, потягунушки!
- Ножки-то – ходунушки,
- а в роток – говорок,
- а в головку – разумок…
Вечером позвали в дом острожный – ужинать. Пошла. Сидела там под иконами порушенная невеста царская – Катька! Пыжилась и манерничала. Того не хочу, этого не желаю. Около нее восседал на лавке глава семейства, князь Алексей Григорьевич – худ, страшен, бородат. За ними рядком теснились прочие чада: Николка, Алешка, Санька да дщерицы – Анька с Аленкой. Наташа поклонилась, с уголка присела. Ей, как собаке худой, пустили миску с кашей по столу – вжик! Глаза она опустила и стала есть…
Алексей Григорьевич потом сказал – на весь стол:
– А князь Иван-то где?
– Заутре еще уволокся, тятенька, – отвечала Наташа свекру. – И где запропал – того неведомо мне.
– Хороша ты сыну моему супружница, что даже не ведаешь, где муж пропал, – буркнул старый Долгорукий. – Кажись, не на Москве, а во Березове-городке живем: домов тута не шибко выросло, могла бы и вызнать, в коем князь Иван пропадает… Может, покудова ты тут кашу с маслом трескаешь, он с казачкой местной слюбился!
И стали все, на лавках от удовольствия прыгая, изгиляться в смехе гыгыкающем. А Катька (гадюка сладострастная) добавила яду:
– Шереметевы испокон веку таково живали: муж от жены, а жена от мужа. Разве не знаете, тятенька, что и матка еённая спилась на винах сладких да мужа-фельдмаршала до сроку в гроб вогнала?..
Наташа ложку на стол брякнула. И – в двери; вышла на острожный двор, посреди которого копанец был, вроде ставка, где по весне лебеди купались. Стоял в воротах солдат – старенький, ружьецо обнимал, словно палку. Наташа, щеками пылая, прямо на него шла, слезами давясь. А солдат был ветеран – он фельдмаршала Шереметева помнил и чтил. Ну как тут дочку его не выпустить?..
– Иди, иди, касатушка, – сказал ветеран. – Погуляй.
И выпустил из острога в город. А городок Березов дик и печален: осели в сугробах избенки, сверкают льдины в окошках (стекол тут и не знали). Лают собаки, плывет дым, и ничего здесь не купишь, даже калачика. А за пуд сахару кенарского плати девять рублев с полтинкой, – в России на такие деньги мужика с бабой обрести можно… Слезы пряча, шла Наташа через весь город.
Вот и дом, где живет отец Федор Кузнецов – поп березовский. Попадья Наташу в горницу провела, а на лавке спал пьяный поп Федор (человек он был добрый и очень хороший).
– Гляди! – сказала попадья, на мужа указывая. – Во, драгоценный адамант да яхонт мой валяется… Насилу до дому его доперла. А и твой брильянтовый тоже тамотко – у Тишина гуляет!
Через весь Березов, постылый и окаянный, побрела Наташа к подьячему Осипу Тишину. А там – будто кабак скверный: чадно, пьяно, угарно. Сидят рядком-ладком пьяницы березовские: сам Тишин, дьякон Какоулин, обыватель Кашперов да Лихачев Яшка, посередке же – Иван ее, князь Долгорукий, супруг сладостный.
Тишин сразу княгине стаканчик оловянный с винцом стал в губы тыкать: пей да пей, госпожа наша! И плясали вокруг молодухи дьякон с обывателем. И соловьем разливался атаман Яшка Лихачев – вор (из детей боярских), за разбой кровавый в Сибирь сосланный:
- Ты изюминка, наша ягодка,
- Наливной сладкой яблочек,
- Он по блюдцу катается,
- Сахаром рассыпается…
Наташа рвала Ивана от сопитух, тащила прочь:
– Пойдем, Иванушко, ты уже пьян и весел… Куды больше-то тебе? Нешто меня тебе не жаль? С утра раннего пьешь…
В сенцах кое-как шапку на Ивана нахлобучила. Потащила домой – в острог! Шел Иван, бывший обер-камергер и гвардии полковник, – подло шел, пьяно, на плече жены вихляясь. Тяжело Наташе мужа тащить – через сугробы, через кочки. Запыхалась… А дома – новая пытка: все Долгорукие, забаве рады, в окна распялились, хихи да хахи строят. И Катька, пиявица царская, на братца пьяного так глядит, будто Наташа не мужа, а падаль домой принесла.
– Коли опять наблюет здесь, – сказала, – так мы убирать не станем. Сама и вытрешь за им!
– Да первый раз мне, што ли? – подавленно отвечала Наташа. – Вам еще не привелось убирать за нами… Иди, Иванушко, ты дома уже. Очухайся!
Потом свекор явился, стал сына палкой лупцевать:
– Почто пьешь беспробудно? Почто без ума пьешь?
Иван под палкой брыкался:
– С горя пью, папенька! Потому как был обер-камергер, а ныне кто я есть?.. Ой-ой, больно мне!
– А кто повинен в том? – не унимался старый князь. – Нешто я тебя разуму не учил загодя? Ежели б государь покойный завещаньице наше апробовал, быть бы Катьке царицей, а тебе – наверху!
Наташа кинулась на защиту Ивана, тут и ей палкой досталось.
– Я тебя, змея подколодная, – сказал ей свекор, – до самого донышка вызнал: ты на наше добро, на долгоруковское, позарилась, да – не вышло, не вышло… Не вышло! Хе-хе!
– Эх, вы… Долгорукие, – укорила его Наташа. – Неужто мне ваше злато надобно? Да и где оно? Что-то не видать.
– Было… было, – заплакал старый князь и ушел…
Иван с полу поднялся. На жену глядел глазами мутными.
– А ты не перечь… тятеньке-то моему! – сказал. – Чать, он не глупее тебя будет. Да и постарше нас с тобою.
– Велика ли заслуга – старым быть? – отвечала Наташа. – Да и старость-то худа у него, без решпекту. Привык за легионом лакеев жить. А теперь… Сымай рубаху-то, – велела она Ивану. – Сымай, я чистую дам. Да ложись спать… – И вдруг кинулась в ноги мужу. – Не пей боле, Иванушко! Не пей… Пожалей меня, горькую. Любить-то как стану! Крошками со стола твоего сыта буду, и ничего не надобно мне иного…
Тут Анька с Аленкой вошли, составили к порогу ведра.
– Катька, – сказали, – воду с реки не понесет: она царица у нас! А мы ишо махонькие… Иди ты по воду!
– Ладно. – Наташа с колен поднялась. – Иванушко, помоги мне воду нести. Надорвусь я, чай, от ведер этих…
– Мое ли дело то? – отвечал муж. – Я обер-камергером был, и теи ведра, в насмешку себе, никак не понесу.
– Ну что ж, – сказала Наташа. – Бог с вами со всеми…
У ворот острожных ветеран-солдат пожалел ее:
– Они-то ссыльные, а ты едина тут будто каторжная…
От реки было идти тяжело. Громыхали обледенелые бадьи. После родов недавних болело у Наташи внизу живота: трудные роды были, а в Березове даже повитухи не сыскалось. Стук да стук – ведра деревянные, плесь да плесь – вода окаянная… Тяжело и горько!
Светились на взгорье желтые окна острога. Вспомнила она тут готовальни свои, на Москве оставленные. Еще и шахматы точеные. Игра тонкая! Да задачи алгебраические, которые решить не успела. Все это заволокло в памяти бедой и одиночеством. «Эх, – думалось, – только б Иван не пил… Все легше было б!»
И вдруг чьи-то руки перехватили ведра. Вгляделась Наташа в потемки – это он, воевода Березова, майор Бобров.
– Княгинюшка, – сказал майор, – не печалуйся. Хоша и присягнул стеречь вас, псу церберскому подобну, но к тебе, миленькая, всегда уваженье выражу. Потому как люба ты всем нам…
– Спасибо на добром слове, сударь, – отвечала Наташа воеводе. – Но себя берегите тоже: как бы добро ваше не обернулось бедой для вас… Времена-то каковы, сами знаете!
Не расплескав, донес воевода Бобров ведра. Постоял у притолоки, на спящего Ивана глядя, и произнес слова утешительные:
– Не бойсь! Где люди есть – там человеку жить всегда можно…
…
Сибирь, Сибирь! Каторга, рудни, колодки, клейма да плети…
И никуда человеку отсель не деться. Коли не приставы, так леса дремучие, звери лютые стерегут людей горемычных. Всеми заводами, на коих спину ломала каторга, управлял Вильгельм Иванович де Геннин – рудознатец и прибыльщик, человек ученый и честный. Вот от него каторга обид не знала: он ее – уважал!
От Иркутска расходились по тайге лозоходцы: мужики смышленые, без роду, без племени, но дело знающие. Они шли и шли, неся в руке лозу расщепленную. Им ветка лозы знак подавала: где надо – там они колышек вбивали. Знать, тут земля что-то хоронит от людей. Каменья драгоценные, серебро или медянку зеленющую. Тех мужиков-лозоходцев де Геннин крепко от себя жаловал и хотел даже книгу о них писать, дабы Европа знала – сколь мудреные люди есть!
А как писать? На них и глядеть-то страшно, ноздри до кости вынуты, дышат сипло, на лбах «КА» выжжено, на щеках литеры проставлены – «Т» и «Ъ» (все вместе – «КАТЪ» получается); у других на лбу, словно звезда горючая, одна буква светится «Б» (это значит – бунтовщик)… Ну как о таких напишешь? Однако люди они добрые: от подобных-то катов и бунтовщиков Сибирь в истории славно двигается. Де Геннин верил, что случись уехать ему – и каторга его слезами проводит. От такого согласия хорошо и ловко работалось в Сибири!
Сибирский губернатор заседал в Тобольске, а в Иркутске сидел главным Алексей Петрович Жолобов, который говорил так:
– Бабы городами не володеют…
Отчего и был великий испуг в канцелярии: хотели уже «слово и дело» на Жолобова кричать. Шутка ли! Анна Иоанновна тоже баба, а всей Россией владеет. Однако нерчинский начальник, Тимоха Бурцев, все доносы, какие ему на глаза попадались, в куски рвал.
– Курьи-дурьи! – кричал он. – Здеся вам великая Сибирь, а не Питерсбурх поганый! Вы мне тута доношеньями не мусорьте. А то свалю вас всех в шахту и тую шахту водою по маковку затоплю…
Затихло все… Жолобов вскоре Бурцева к себе вызвал:
– Тимофей Матвеич, ешь-пей… Рассказывай!
– Да што сказать-то? – пригорюнился Бурцев. – Сам видишь, каков я есть: школ не кончал, дворянства не нажил, походов громких не ломал, награжден не бывал, в столицах живать не привелось… Весь, как есть, я волк сибирский. Одно дело мое – рудное!
– А людишек шибко ли треплешь? – спросил его Жолобов.
– Насмерть об стенки их расшибаю! У меня на то особый прием имеется – каторжный. Как хлопнешь человека, он постоит малость, в сомнение приходя, а потом снопом… кувырк, и все тут!
– Ты это оставь, – пасмурно ответил Жолобов. – Заводское дело, оно дело жестокое. Но убивству я не потатчик. Не век же мы тут вековать станем… Меня вот, сам ведаешь, от добра бы сюда не прислали. Я шибко противу самодержавия кричал на Москве! Мне сам граф Бирен, пес худой, отомстил. И хоша я вице-губернатор и твой живот, Тимоха, в моих руках, все едино – я тоже есть кат, только литеров на ликах наших еще не выжжено… Ешь-пей!
– А про тебя сказывают, будто очень смел ты, Алексей Петрович, – отвечал Бурцев, угощаясь. – Почто сам на дыбу скачешь? Привяжи язык свой покрепче, чтобы на «слово» по «делу» не напороться.
– А я их всех… – сразу забушевал Жолобов. – Я Бирена поганого еще в Митаве колодкой сапожной бил и, придет время, всех злодеев раком поставлю… На Москве! На месте Лобном!
Вернулся Бурцев из гостей к себе в Нерчинск – на заводы. А в канцелярии ему нового ката предъявили – Егорку Столетова, и стал его Бурцев расспрашивать – где был, что делал, кого знаешь? Егорка хвастал, что был в адъютантах у фельдмаршала Долгорукого, воедино с ним под указ попал, музыку и стихи слагать может…
– Это на што же тебе? – задумался Бурцев, волк сибирский.
– А так… – отвечал Егорка. – Для изящества душевного.
– Дурак ты, как я погляжу… Дран был?
– Не! – соврал Егорка для амбиции.
– Ну, мы эти резоны сейчас проверим… Ложись!
На лавке несчастного пиита разложили и долго сукном со спины его натирали. Пока не проступили под шкурой розовые полосы.
– Зачем врешь? – сказал Бурцев мирно. – Мы ведь здесь не дураками живем… Ты дран уже был, и я тебя драть тоже имею право!
Но драть не пришлось. Прикатил однажды в Нерчинск Жолобов по делам службы, целовал Егорку при всех, без боязни. Потом 20 рублей ему дал; с плеча своего атласный камзол скинул и на Егорку водрузил. Шапками губернатор с катом обменялся, и на всю улицу кричал Жолобов слова подозрительные:
– Чувствуйте, люди! Вот он – песни умилительные слагает, чего не всякий может. И вы его не обижайте, ибо пииты и художники по сусекам не валяются… Это сволочь высокая их не ценит, им бы только оды прихлебательные слушать! А каторга скоро запоет песни нежные, сим Егоркою сочиненные…
И тогда Егорка от такой заручки осмелел: колодки не нашивал, в шахты не лазал, дарованные деньги стал пропивать. И всюду шапкою губернатора хвастал.
– Это што! – говорил, гордясь. – Мы с его превосходительством в приятелях ходим, не раз у цесаревны Елисавет Петровны винцо попивали… Бывало, и высоких особ мы били! И только время ждем, когда еще бить станем… Вы, люди, это знайте!
И, по кабакам гуляя, стал Егорка Столетов знакомцами обзаводиться: крючкодеи ярославские, взяткобравцы питерские, ябедники смоленские – вся шмоль-голь приказная, в Сибирь за грехи сосланная, окружала «романсьеро» московского, который поил шарамыжников всех – направо и налево.
– Рази вы люди? – кричал им Столетов. – Пузанчики да лобанчики, што вы знать можете? А я – да, я знаю: нотной грамоте учен немало, от моих стихов горячительных любая госпожа моей стать желает. Теи стихи мои сам кавалер Виллим Монс на императрице Екатерине проверял, и успех любовный имел…[3]
Но однажды грохнула с разлету дверь кабака, в клубах пара с мороза ввалились солдаты. А меж ними, весь в собачьих мехах, человек каторжный. Солдаты размотали его, словно куклу, дали ему водки выпить для обогрева. На дворе фыркали застуженные кони…
Проезжий долго на Егорку глядел, калачик жуя:
– Али не признал ты меня, романсьеро?
– Ей-ей, не знаю, – перекрестился Столетов.
– А я есть Генрих Фик, камералист в Европах известный. Проекты писал, кондиции блюл… А ныне – несчастненький.
– Куды же едешь теперича? – спросили его.
– Не еду, а меня возят. И нигде мне места не отведено, чтобы осесть. Вот сейчас лягу на лавку, вздремну малость, и меня снова повезут. И будут так возить по Сибири, пока не подохну!
Калачик упал, до рта не донесенный: Генрих Фик уже спал. Затихли люди кабацкие – люди бездомные. Они чужое горе всегда уважали. Потом солдаты лошадей в кибитке переменили. Взяли Фика за локотки, поволокли на мороз. Он так и не проснулся…
Все царствование Анны Иоанновны никто и никогда не видел больше Генриха Фика: дважды на одном месте спать – и то не давали!
Глава седьмая
А диспозиция въезда Анны Иоанновны в Петербург была такая.
Первым ехал почт-директор с почтмейстерами.
Верховые почтальоны трубили в рога – протяжно.
За ними – капральство драгунское на лошадях.
Потом иноземные купцы.
А литаврщики, зажмурив глаза, ударяли в тулумбасы.
Цугом катились кареты господ кабинет-министров.
И – генералитет.
И – господа Сенат.
За важными особами ехали конюхи императрицы.
Фурьеры и лакеи – верхами.
Пажи с гофмейстером – чинно.
Наконец показалась карета графа Бирена – пустая.
Вот и матка Анна катит на восьмерике.
А сбоку от нее скачут на жеребцах Бирен и Левенвольде (два любовника царицы, въезжающей в свою новую резиденцию)…
Сию «диспозицию» составил Миних, и был у него спор с Федором Соймоновым: куда моряка ставить? Ученый навигатор в «диспозицию» никак не лез, от почета отговаривался. Порешили сообща так: состоять ему у «надзирания за питиями». Иначе говоря, дежурил Федор Иванович возле бочек с водкой, дабы драки не было. Трезвых – силою внушения! – понуждал к питию. А тем, которые лыка не вяжут, тем пить возбранял. Все творилось указно («под опасением жесточайшего истязания!»). А вечером был жалован допущением к руке императрицы. Анна Иоанновна моряком даже залюбовалась. Соймонов был детинушка добрый. Шея у него – бурая от ветров, кулаки – в тыкву, взор острый – из-под бровей косматых.
– Ну и здоров ты, флотской! – восхитилась Анна Иоанновна. – На-кось, – протянула Соймонову бокал свой, – согреши из ручек моих царских…
– Матушка-осударыня, – отвечал ей Соймонов, – хотя я, надзирая сей день за питиями, на морозе стоя, невольно с ведро белого принял уже, но из твоих ручек… изволь!
И, достав чистый плат, слюнявый край бокала – после бабы пьяной – он тщательно вытер. Тут императрица раздулась от гнева.
– А-а-а! – заорала. – Так ты мною брезгуешь! Это мною-то, самой императрицей, брезгуешь… Я тебе не лягушка худая!
И уже руку подняла, чтобы драться. Но тут (спасибо судьбе) подвернулся изящный Ренгольд Левенвольде и сказал:
– Ваше величество! В европских странах культурным обычаем принято посуду чужую платочком вытирать. Даже после Людовикуса вельможи версальские всегда бокалы галантно оботрут…
Анна Иоанновна пьяно пошатнулась, Соймонова за шею обхватила, обожгла его дыханием винным.
– Ой, держи меня, – говорила с хохотом. – Держи, морячок, крепше… Вся я такая сегодня нежная… нежная… Ой, хосподи, да што это меня ноги сей день не держат?..
С одной стороны – Рейнгольд, с другой – Соймонов, они дотянули грузную царицу до покоев внутренних. На постель она не пожелала, на полу шкуры лежали медвежьи – так и рухнула… Федор Иванович со лба пот смахнул и зарекся более у двора бывать. И к престолу более не лез. Его дорога иная, строго научная, деловая. Ныне вот, прокурором Адмиралтейств-коллегии став, он президенту, адмиралу Головину, сразу так и сказал:
– Изящнейший граф! Только не воровать…
И граф Головин его сразу невзлюбил. Ну и не люби.
По утрам Соймонова часто навещал Иван Кирилов – обер-секретарь сенатский. Как и в Москве, раскладывали они карты.
– Академик Жозеф Делиль для нужд Камчатской экспедиции карту составил. И в Сенате уже толкуют, чтобы Витусу Берингу к Америке идти, землю Хуаны да Гама искать… А где есть земля та? Не ведаю.
Кирилов грудью бился об стол, жестоко кашляя.
– Может, такой и совсем нету? – сказал, отдышавшись. – Нет ли подвоха тут? Дабы навигаторов наших от земель Камчатских отдалить, на бесплодные поиски их посылая? Не к тому ли Делиль и братца своего из Парижа сюды вызвал да в отряд к Берингу его пихает?
– Сколько слов я сказал! – обозлился Соймонов. – А все без толку… Подозрение имею. Будто Делиль тот, муж в науках почтенный, Генеральную карту России сознательно искажает. Мало того, копии с наших ландкарт снимает и подлым способом их в Париж переводит…
Неву однажды переезжая, Федор Иванович в Академию завернул.
– Имею, – огорошил Шумахера, – срочную надобность в сочинениях гишпанцев – де Фонте и дон Хуана Гамы…
Шумахер рот открыл. Думал. Потом спросил:
– А какого цвета книги сии?.. Была как будто одна. Вроде пергамин травчато-зеленый, а спрыск обреза на золоте…
– Тьфу! – сказал Соймонов и ушел, ничего не добившись.
Лошади завернули его на канал – прямо к дому Еропкина.
– Петра Михайлыч, – сказал он архитектору, – ты книгочей славный. Нет ли книжиц у тебя о землях басенных, что нижае Камчатки лежат? Будто великий хвастун де Фонте там города великие видел. Мне сверить надобно: чтобы Беринг по морям не напрасно плавал, химеры сказочные отыскивая! А прямо шел – к цели…
День окончен. От трудов праведных можно домой отъехать в саночках. На Васильевском острове лошади ноги ломали: весь остров канавами перекопан – ровными, как линии. То остатки творения гениального Леблона, который мечтал здесь русскую Венецию создать. Но Венеции у него не получилось: горячий Леблон со всеми разлаялся и уехал. Меншиков же деньги (отпущенные на Венецию) разворовал, а до дому теперь «с великим потужением» добираются жители, через канавы те ползая на карачках…
Шубу скинув, шаухтбенахт поднялся в дом. Сенные девки воды вынесли, полотенца подали. Фыркая оглушительно, мылся Соймонов.
Вот и к столу пора. В светлице стенки холстиной обиты, печка в зеленых изразцах, три картинки бумажные в рамочках самодельных. В углу – шкаф, а в нем за стеклом чашечки стоят порцеленовые. По стенам – коробья с книгами латинскими и немецкими. На подставке особой красуется модель корабля «Ингерманланд», которую Соймонов саморучно сделал в память себе: на этом корабле, в чине мичмана, он плавал под синим флагом самого Петра.
– Дарьюшка! Привечай мужа да к столу сопроводи…
Первым делом – чарку водки, перцовой. Эк! Даже дух захватило. А потом – щи. Когда жена рядом, то простые щи идут за милую душу.
– Ну, мать, – сказал Соймонов жене, наевшись. – Ты баба у меня золотая, и пропасть тебе я не дам. А потому наказываю супружески, наистрожайше: ко двору царицы не суйся! Меня тут Остерман стал заискивать, а знать, и тебя опохвалить захотят. Ежели на ласку придворную поддашься, так я возьму тебя за волосы и буду по комнатам возить, покеда не сомлеешь…