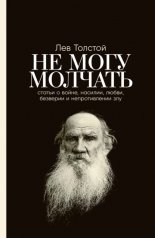Сердце Тьмы Конрад Джозеф

– Должно быть, записку оставил тот самый торговец… тот самый проныра, будь он неладен! – воскликнул начальник, злобно глядя назад.
– Судя по всему, он англичанин, – заметил я.
– Это не убережет его от беды. Ему следует поостеречься, – мрачно пробормотал начальник.
– В этом мире никто не застрахован от бед, – ответил я невозмутимо, как будто ничего не понял.
Течение в тех краях было быстрое, пароход шел на последнем издыхании, гребное колесо крутилось еле-еле, и я поймал себя на том, что с замиранием сердца жду очередного удара лопасти о воду: казалось, развалюха вот-вот встанет и на наших глазах в ней угаснут последние искры жизни, – однако пароход полз вперед. Иногда я подмечал впереди какое-нибудь дерево, чтобы по нему следить за нашим продвижением к Куртцу, но всегда терял ориентир, не успевали мы с ним поравняться. Слишком много терпения нужно, чтобы так долго не сводить глаз с одного предмета. Начальник проявлял удивительное смирение. Я злился, кипятился, и в итоге начал спорить сам с собой о том, стоит ли заводить честную беседу с Куртцем. Не успел я принять решение, как до меня дошло: любое мое действие лишено смысла. Я могу заговорить с Куртцем, а могу молчать, это ровным счетом ничего не изменит. Какая разница, что знает или сознательно игнорирует человек? Какая разница, кто начальник? Порой меня посещают подобные озарения. Суть дела все равно лежит на самой глубине, она в любом случае мне недоступна, как бы я ни пытался ее потревожить.
К вечеру второго дня мы решили, что находимся примерно в восьми милях от станции Куртца. Я хотел двигаться дальше, но начальник с хмурым видом заявил, что воды в тех краях крайне опасны и не стоит лезть туда на закате, лучше подождать до утра. Кроме того, если мы хотим прислушаться к совету «приближаться с осторожностью», то делать это лучше при свете дня, а не в сумерках и не в темноте. Я решил, что это вполне разумно. Восемь миль мы прошли бы в лучшем случае за три часа, и я уже видел впереди, у горизонта, какую-то подозрительную рябь. Однако ж я был весьма раздосадован этой задержкой. Глупости, конечно: ну что мне одна ночь, когда мы потеряли столько месяцев? Поскольку дров было достаточно и нам велели соблюдать осторожность, я встал на якорь прямо посреди реки. Русло здесь было узкое, прямое, с высокими крутыми берегами – как выемка для железной дороги. Сумерки начали сгущаться задолго до захода солнца. Течение было быстрым и ровным, но берега словно застыли в немом оцепенении. Деревья, сплетенные воедино лианами и буйным подлеском, как будто обратились в камень: вплоть до последнего прутика, до мельчайшего листа. То был не сон, а какой-то противоестественный транс. Ни единого звука не доносилось с берегов. Мы смотрели на них в потрясении и начинали подозревать, что оглохли. Потом внезапно опустилась ночь – и вдобавок к глухоте мы ослепли. Около трех утра возле парохода плеснула какая-то крупная рыба: звук был такой громкий, что я невольно подскочил на месте и решил, что где-то грянул выстрел. Наконец встало солнце, и мы очутились в тумане. Теплый и липкий, он ослепил нас даже сильнее, чем ночь. Туман никуда не двигался и не таял: просто стоял вокруг нас подобно твердой белой стене. В восемь или девять утра он рассеялся – словно кто-то поднял занавес. Мы успели заметить множество деревьев на берегу: огромные склоченные и совершенно неподвижные джунгли, – а над ними ослепительный шарик солнца. Тут белый занавес вновь опустился – плавно и мягко, будто подъемный механизм был хорошо смазан. Я приказал снова бросить якорь, который мы уже начали поднимать. Не успел приглушенный лязг якорной цепи умолкнуть, как молочную пелену огласил крик – очень громкий и бесконечно горестный, – и тут же оборвался. Жалобный и дикий гомон заполнил наши уши. От неожиданности у меня волосы встали дыбом. Не знаю, что подумали остальные, но мне показалось, что кричал сам туман, причем его скорбный, взбудораженный вопль возник со всех сторон сразу. Затем последовал невыносимо пронзительный визг, но и он вскоре затих, а мы так и замерли в самых разных (и весьма глупых) позах, упорно прислушиваясь к столь же пугающей и оглушительной тишине.
– Господи боже! Как это понимать?.. – запинаясь, пробормотал стоявший рядом со мной пилигрим – маленький толстяк со светло-русыми волосами и рыжими усиками, в ботинках и розовых пижамных брюках, заправленных в носки. Еще два пилигрима замерли, открыв рты, потом ринулись в каюту и тут же выскочили из нее с винтовками в руках. Вокруг стояла белая мгла, и видно было только наш пароход (очертания его размывались, словно он уже начал растворяться) да узкую полосу подернутой туманом воды у самого борта. Остальной мир исчез, по крайней мере для наших ушей и глаз. Его просто не было; он сгинул, не оставив за собой ни шороха, ни тени.
Я приказал матросам приготовиться, чтобы в любой момент поднять якорь и сняться с места.
– Они нападут? – прошептал кто-то.
– Да нас всех перережут в этом тумане!.. – пробормотал другой.
Лица подергивались от напряжения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Очень любопытно было подмечать разницу в выражениях лиц белых и чернокожих членов нашего экипажа (последние тоже впервые попали в верховья реки, пусть их дома и находились в каких-то восьмистах милях отсюда). Белые, конечно, были крайне обеспокоены и, кроме того, глубоко потрясены столь возмутительной выходкой туземцев. Черные насторожились, но глядели спокойно и заинтересованно – даже те двое, что с ухмылками держали якорную цепь. Они о чем-то заспорили, обмениваясь короткими гортанными окриками, но, по-видимому, быстро договорились. Ко мне подошел их вожак, молодой широкогрудый дикарь, закутанный в темно-синие тряпки, с сальными кудряшками на голове и воинственно раздутыми ноздрями.
– Ага! – без особого умысла, но дружелюбно воскликнул я.
– Лови их, – рявкнул он, оскалившись и вытаращив налитые кровью глаза. – Лови и дай нам.
– Вам? – переспросил я. – Что же вы будете с ними делать?
– Съедим! – коротко ответил он и, опершись локтями на перила, уставился в туман с самым благородным и задумчивым выражением на лице.
Я бы пришел в ужас, если бы не вспомнил, что эти ребята очень голодны – и голодают по меньшей мере месяц. Они работали на белых уже полгода (полагаю, четких представлений о ходе времени у них не было, как и у нас – на заре цивилизации; они все еще жили в первобытную эпоху и не успели накопить достаточно знаний и опыта), и авторам трудовых контрактов, составляемых на побережье по законам нелепого балагана, даже в голову не пришло позаботиться об их пропитании. Да, дикари захватили с собой тухлое мясо гиппопотама, но его бы все равно хватило ненадолго – даже если бы пилигримы не подняли по этому поводу ужасный шум и не выбросили изрядное количество тухлятины за борт. Может, со стороны их поведение казалось самодурством, на самом деле то была элементарная и совершенно законная самозащита. Невозможно нюхать труп гиппопотама с утра до вечера, за едой и во сне, поддерживая при этом и без того хрупкую связь с реальностью. Раз в неделю наемным туземцам выплачивалось жалованье: три куска медной проволоки длиной около девяти дюймов. В теории они должны были обменивать проволоку на еду в попадавшихся на пути прибрежных деревеньках. Вы, верно, уже и сами сообразили, как это выглядело на деле. Либо никаких деревенек нам не попадалось, либо местные были настроены крайне враждебно, либо начальник (как и все мы, питавшийся консервами и изредка, если очень повезет, – козлятиной) по какой-то неясной причине не желал останавливать пароход. Видимо, беднягам полагалось глодать эту медь или же мастерить из нее сети для ловли рыбы – потому что никакого другого прока от столь щедрого жалованья быть не могло. Должен признать, что выплачивали его с регулярностью, достойной крупной и почтенной торговой компании. Однако есть им было совершенно нечего – если не считать едой какую-то странную массу грязно-лавандового оттенка, похожую на непропеченное тесто, крошки которого они время от времени клали себе в рот, – казалось, просто ради приличия, ведь прокормиться столь малым количеством пищи человек не может. Я понятия не имею, почему – во имя всех коварных демонов голода! – они не сожрали нас. Их было тридцать, а нас пятеро, осмотрительностью и дальновидностью они не отличались, зато были храбры, воинственны и по-прежнему весьма сильны, хотя кожа их давно утратила блеск, а мышцы одрябли. Я понимал: здесь имеет место некий сдерживающий фактор, очередная необъяснимая загадка человеческой природы. Я взглянул на дикарей с новым интересом, и не потому, что почувствовал, будто меня могут съесть, хотя именно тогда я впервые обратил внимание на болезненный внешний вид пилигримов и понадеялся – да-да, именно понадеялся! – что сам выгляжу не так… как бы лучше выразиться… неаппетитно. Да, меня вдруг одолело фантастическое тщеславие, которое, впрочем, казалось вполне уместным ввиду нереальности происходящего. Вероятно, меня лихорадило. Невозможно ведь постоянно следить за своим здоровьем! В те дни у меня частенько бывал «небольшой жар» или еще какое-нибудь «легкое недомогание» – тьма играючи трогала меня лапкой, забавлялась перед тем, как напасть уже всерьез (что она и сделала впоследствии). Да, я увидел в них людей, и мне захотелось понять их душевные порывы, мотивы, достоинства и слабости – в условиях, откровенно несовместимых с жизнью. Воздержание! Да какое тут воздержание? Быть может, суеверие, отвращение, выдержка, страх – или даже примитивная честь? Но никакой страх не выстоит перед голодом, никакая выдержка не поможет его одолеть. Что же касается суеверия, убеждений и так называемых «принципов», то они под таким грузом гнутся легко, как былинки на ветру. Знаком ли вам истинный голод, его безмолвная угрюмая ярость, рождаемые им невыносимые муки, черные мысли?.. Что ж, мне он знаком. Вся врожденная сила уходит у человека на борьбу с таким голодом. Печально, но это так. Вот и у тех ребят не было ни единой веской причины для сомнений. Воздержание, ха! С тем же успехом можно ждать воздержания от гиены, рыщущей среди трупов на поле боя. Однако факт оставался фактом… поразительным и невероятным, но фактом… Все равно что увидеть пену на дне морском, столкнуться с необъяснимой загадкой, тайной еще более непостижимой – если вдуматься, – чем поразительная скорбь и неизбывное отчаяние, которые явственно слышались в гомоне дикарей, налетевшем на нас из-за белой пелены тумана.
Два пилигрима яростно перешептывались, к какому берегу нам лучше пристать.
– К левому!
– Нет-нет, ты что! К правому, конечно, к правому!
– Дело очень серьезное, – произнес возникший у меня за спиной начальник. – Если мы не успеем прийти на помощь мистеру Куртцу, я себе не прощу.
Я обернулся и не увидел на его лице ни единого признака неискренности. Таким людям важно до последнего сохранять видимость. В этом было его воздержание, если хотите. Но когда он пробормотал, что надо немедленно идти дальше, я не потрудился ему ответить. Мы оба знали, что это невозможно. Если бы мы в тот миг снялись с якоря, то оказались бы практически в воздухе – в пустоте. Мы бы не понимали, в каком направлении движемся – вверх или вниз по реке? Поперек? Мы смогли бы это определить, только упершись в какой-нибудь берег, и далеко не сразу бы поняли, в какой именно. Конечно, я не послушал начальника. Кораблекрушение в мои планы не входило. Более опасного места для кораблекрушения нельзя было и придумать. Даже если бы мы не утонули в первые же минуты, так или иначе нам бы очень скоро пришел конец.
– Я разрешаю вам идти на любой риск, – сказал он после короткого молчания.
– А я отказываюсь рисковать, – ответил я.
Конечно, он ждал такого ответа, но вот мой тон, должно быть, его удивил.
– Что ж, в таком случае я полагаюсь на ваше здравомыслие. Капитан тут вы, – с подчеркнутой вежливостью проговорил он.
Я дернул плечом в знак благодарности, и он стал разглядывать туман. Занятие было в высшей степени бессмысленное. Множество опасностей поджидало нас на подходе к Куртцу, добывавшему слоновую кость в этих окаянных зарослях: казалось, мы спасаем принцессу из заколдованного замка.
– Как считаете, они нападут? – заговорщицки прошептал начальник.
Я склонялся к мысли, что нет, не нападут. Во-первых, на реке стоял густой туман. Дикари на каноэ потерялись бы в нем так же легко, как и мы, если бы снялись с якоря. Однако же я до последнего считал прибрежные джунгли неприступными и непроницаемыми – хотя оттуда за нами кто-то следил. Да, у самого берега рос очень густой кустарник, но сразу за ним начинался вполне проходимый лес. Покуда туманный занавес был поднят, я успел осмотреться и не заметил у берегов – а тем более рядом с нами – никаких каноэ. Но самым веским доводом в пользу того, что никто не собирается нас атаковать, была природа того странного шума – тех диких воплей. Они звучали отнюдь не воинственно, в них не было ярости, каковая свидетельствовала бы о враждебных намерениях дикарей. Да, шум был внезапный, дикий и страшный, но скорее печальный – такое у меня сложилось впечатление. Наш пароход по какой-то причине вызвал в туземцах чувство глубокого, безудержного горя. Если нам и грозила опасность, то она была связана с тем, что мы чересчур близко подошли к людям, захваченным неким могучим чувством. Даже сильное горе может склонить человека к насилию – правда, обычно склоняет к апатии…
Видели бы вы лица пилигримов в ту минуту! Ухмыльнуться или хотя бы обругать меня им не хватило духу, но они наверняка дружно решили, что я спятил, – от страха, должно быть. Мне оставалось только прочитать им лекцию. Дорогие мои друзья, а что еще я мог сделать? Высматривать в тумане врагов? Что ж, я и впрямь внимательно следил за туманным занавесом, дожидаясь очередного его подъема, как кот высматривает мышь. Но в остальном мои глаза были совершенно бесполезны – нас словно закинули в миску с ватой глубиной в несколько миль. Ощущения были соответствующие: жарко и нечем дышать. Кроме того, все, что я сказал, оказалось чистой правдой, хоть и прозвучало несколько дико. Те действия туземцев, которые мы чуть позднее приняли за нападение, в действительности были попыткой нас отпугнуть. То была не агрессия: они и обороняться-то не пытались – в общепринятом смысле слова. Их поведение объяснялось безысходностью и, по сути своей, элементарным желанием защититься.
События начали развиваться примерно через два часа после того, как туман полностью рассеялся, за полторы мили до станции Куртца. Мы проходили очередную излучину, как вдруг я увидел впереди небольшой островок: крошечный ярко-зеленый холмик прямо посреди реки, – кажется, всего один… Но, когда мы окончательно повернули, я понял, что это лишь окончание длинной песчаной косы, точнее – длинной вереницы отмелей, идущих друг за дружкой прямо посередине реки. В тех местах вода была намного светлее, поскольку едва прикрывала песок, – так кожа прикрывает позвоночник человека. Я мог обойти косу слева или справа. Ни того ни другого пути я, естественно, не знал, а выглядели они на первый взгляд одинаково. Поскольку мне доложили, что станция стоит на западном берегу реки, туда я и направил судно.
Когда мы уже почти вошли в протоку, я понял, что она гораздо же, чем казалась. Слева была сплошная длинная отмель, а справа – высокий, почти отвесный берег, густо заросший кустарником. Сразу за кустами плотной крепостной стеной стояли деревья, ветви которых нависали над протокой, порой полностью ее перегораживая. Солнце перевалило за полдень, лес выглядел мрачным, и на воду уже легла широкая тень. В этой тени мы и шли – очень медленно, как вы можете догадаться. Я старался вести пароход вдоль берега, где русло, согласно показаниям метрштока, было самым глубоким.
Один из моих голодных и терпеливых друзей стоял на носу прямо подо мной и замерял глубину фарватера. Наш пароход напоминал палубную шаланду; на палубе стояли два тиковых домика с дверями и окнами. Котел находился впереди, механизмы – на корме, и всю палубу покрывала легкая крыша. Труба проходила прямо сквозь нее, а перед трубой располагалась небольшая дощатая каморка, служившая рубкой. Обставлена она была крайне просто: кушетка, два складных табурета, заряженная винтовка Мартини-Генри, крошечный столик и штурвал. Спереди большая дверь, а по бокам – широкие окна со ставнями, которые, разумеется, всегда были распахнуты настежь. Сам я целыми днями сидел на конце крыши, под дверью, а ночью пытался спать на кушетке. За рулевого у нас был атлетического сложения негр из какого-то берегового племени, обученный моим несчастным предшественником. На талии у него висела синяя тряпка до пят, в ушах – медные серьги, и мнения о себе он был самого высокого. Таких ненадежных дураков я в жизни не встречал. При мне он напускал на себя поразительно самодовольный вид, но, как только я отходил, мгновенно становился жертвой безнадежной трусости и мог со страху даже потерять управление пароходом.
Я с беспокойством следил за измерением глубины – с каждым разом все большая часть метрштока оставалась над поверхностью реки. Внезапно мой матрос бросил работу и распластался по палубе, даже не вытащив шест – тот так и волочился по воде. Кочегар резко присел за топку и пригнул голову. Я в потрясении уставился на корягу, которая преграждала нам путь, и тут в воздухе замелькали какие-то тонкие палочки – они свистели прямо у меня перед носом и падали на крышу, ударялись о стенки моей рубки. При этом на реке, на берегу и в лесу стояла тишина – мертвая тишина. Слышно было лишь удары гребного колеса о воду и перестук этих палочек. Мы кое-как обошли корягу стороной. Стрелы, бог ты мой! В нас стреляли! Я кинулся в рубку закрывать ставни. Дурак-рулевой, не отпуская штурвала, топал ногами, высоко вскидывая колени, фыркал и двигал ртом, словно строптивая лошадь. А, черт с ним! Наш пароход плелся в каких-то десяти футах от берега. Я высунулся из окна, чтобы запахнуть тяжелый ставень, и вдруг увидел прямо напротив, среди листвы, лицо – лютое и решительное. Тут словно бы пелена пала с глаз моих: во тьме прибрежных зарослей я разглядел обнаженные торсы, руки, ноги и глаза. Кусты буквально кишели человеческими телами, стремительно двигавшимися и отливавшими бронзой. Ветви зашуршали, закачались, из них вылетела новая порция стрел – и тут ставень захлопнулся.
– Держи прямо, – велел я рулевому. Он повернул голову вперед, но сам при этом вращал глазами, переступал с ноги на ногу, и на его губах белела пена.
– Успокойся! – яростно прошипел я, но с тем же успехом можно было приказать дереву не качаться на ветру.
Я выскочил из рубки. Снизу доносился топот ног по железной палубе, смятенные крики; кто-то заорал: «Повернуть можем?» Я заметил впереди какую-то рябь на воде. Как? Опять коряга?!. Где-то у меня под ногами грянул ружейный залп – пилигримы открыли огонь из винтовок и буквально поливали кусты свинцом. На реку легли клубы дыма: теперь я не видел ни ряби, ни коряги. Я стоял в дверном проеме, силясь разглядеть впереди хоть что-нибудь, а с берега в нас летели тучи стрел. Возможно, они были отравлены, но с виду это были обыкновенные прутики – такими и кошку-то не убьешь. Из кустов поднялся вой, наши лесорубы воинственно загалдели в ответ, и тут за моей спиной прогремел оглушительный выстрел. Я оглянулся, увидел, что из окон рубки валит дым, и бросился к штурвалу. Мой дурак рулевой бросил все, распахнул ставни и стал палить из «Мартини-Генри» по врагам. Он стоял в широком оконном проеме и злобно таращил глаза, а я, пытаясь выправить курс, орал, чтобы он вернулся за штурвал. Повернуть назад мы не смогли бы при всем желании, и где-то в этом треклятом дыму нас подстерегала коряга. Терять нельзя было ни минуты, и я направил судно прямо к берегу – там по крайней мере было глубоко.
Пароход медленно пошел вдоль самого берега, продираясь сквозь заросли и ломая ветки. Палить внизу перестали – как я и предсказывал, у пилигримов кончились патроны. Я оглянулся и увидел, что свистящие стрелы проходят рубку насквозь, влетая в одно окно и вылетая в другое. Глядя мимо обезумевшего рулевого, который потрясал винтовкой и истошно вопил, я заметил на берегу неясные силуэты людей – согнувшись вдвое, они бежали, скользили, прыгали, размытые, стремительные, неуловимые. Что-то большое мелькнуло в воздухе перед ставнем, винтовка полетела за борт, а рулевой вдруг попятился, бросил на меня удивительно осмысленный и глубокий взгляд и рухнул к моим ногам. Он дважды ударился головой о штурвал, и по полу, опрокинув табурет, с грохотом покатилась деревянная трость. Со стороны это выглядело так, словно мой матрос пытался вырвать ее из рук какого-то человека на берегу и упал, не удержав равновесия. Тонкая пелена дыма наконец рассеялась; мы благополучно обошли корягу. Поглядев вперед, я понял, что примерно через сто ярдов смогу отвести пароход подальше от берега, но моим ногам вдруг стало так тепло и мокро, что я невольно опустил взгляд. Рулевой лежал на спине и смотрел прямо на меня. Обеими руками он стискивал ту самую трость – древко копья, которое кто-то метнул в окно. Копье вонзилось рулевому под ребра, и наконечник целиком погрузился в страшную рану. Мои ботинки были полны крови, а под штурвалом поблескивала на солнце неподвижная темно-красная лужа. Странное сияние лилось из глаз раненого. Вновь грянул залп. Негр тревожно взглянул на меня и опять ухватился за копье, как будто боялся, что я отниму у него эту драгоценную вещь. Усилием воли оторвав от него взгляд, я взялся за штурвал. Одной рукой я нашарил вверху шнур и подергал его, издавая один за другим несколько поспешных гудков. Воинственный гвалт мигом утих, а из глубин леса донесся протяжный и горестный вой, полный животного страха и черного отчаяния, – не трудно было вообразить, что с этим воем покидает мир последняя надежда. В кустах поднялся шум; град из стрел прекратился, прогремело несколько отдельных ружейных выстрелов… и воцарилась тишина, в которой отчетливо слышались удары гребного колеса о воду. Я выкрутил штурвал вправо, и тут в дверях рубки повился пилигрим в розовой пижаме, запыхавшийся и взбудораженный.
– Начальник велел… – официальным тоном начал он и вдруг умолк, уставившись на раненого рулевого. – Господи!
Мы, два белых человека, стояли над ним, купаясь в сиянии его вопросительного взгляда. Ей-богу, мне казалось, что он вот-вот заговорит с нами на понятном языке, начнет задавать разумные вопросы, однако он умер – молча, не вымолвив ни звука, не шевельнувшись. Лишь в самый последний миг, словно отвечая на некий незримый знак или неслышный шепот, он сильно нахмурился. Эти сдвинутые брови придали его мертвому черному лицу мрачное, зловещее и недоброе выражение. На смену сиянию мгновенно пришла пустота и стеклянная неподвижность.
– Править можете? – с надеждой спросил я пилигрима.
Он замешкался, но я крепко схватил его за руку, давая понять, что взяться за штурвал ему придется в любом случае, умеет он с ним обращаться или нет. По правде сказать, мне не терпелось переобуться и поменять носки.
– Он умер, – пробормотал потрясенный до глубины души пилигрим.
– Вы совершенно правы, – сказал я, дергая шнурки как ненормальный. – Кстати, полагаю, мистер Куртц тоже отправился на тот свет.
На секунду эта мысль полностью завладела моим разумом. Я ощутил глубочайшее разочарование, словно вдруг осознал, что очень долго стремился к чему-то бессмысленному и несущественному. Можно подумать, я проделал весь этот путь только ради разговора с мистером Куртцем, разговора с… Я швырнул за борт один ботинок, и меня наконец осенило: а ведь именно этого я и хотел – поговорить с Куртцем! Почему-то я не представлял себе его в деле, только – за разговорами. Я мог бы подумать, что теперь никогда не увижу Куртца и не пожму ему руку, но подумал иначе: теперь я никогда его не услышу. В моем представлении он был даже не человек, а голос. Разумеется, что-то он все-таки делал. Сколько я слышал рассказов – завистливых или восторженных – о том, как мастерски он собирал, выменивал, добывал обманом или просто-напросто крал слоновую кость! Но это не суть. Суть же заключалась в том, что он был одаренным человеком и среди всех его талантов наиболее ярким было умение говорить. Дар слова, талант к выражению мыслей – дар ошеломляющий и просветляющий, самый благородный и самый презренный, пульсирующий луч света или прельстительный поток из сердца беспросветной тьмы.
Второй ботинок отправился вслед за первым – прямиком в злого бога той реки. Я подумал: «Силы небесные! Все кончено. Мы опоздали. Он погиб – его дар погиб, от копья ли, от стрелы, от дубины… Я так и не услышу речей этого славного малого…» Горе мое было велико, даже слишком. Оно было сравнимо с горем тех дикарей, что выли в зарослях. Подобное уныние и одиночество впору испытывать человеку, которого вдруг лишили веры или жизненного призвания… Кто это здесь вздыхает? Нелепо, скажете? Ну да, нелепо. Господи! Разве ж вам самим никогда… Дайте-ка мне табаку…
Наступила полная тишина, вспыхнула спичка, и в темноте возник тонкий лик Марлоу – бледная кожа, впалые щеки, глубокие морщины, сосредоточенное выражение. Когда он поднес трубку к губам и начал усердно ее раскуривать, его лицо в зареве крошечного огонька словно приблизилось, а потом вновь удалилось в темноту. Спичка погасла.
– Нелепо! – вскричал он. – Да что с вами говорить… У каждого из вас по два адреса, вы как корабли о двух якорях – все спокойно и понятно, за одним углом мясник, за другим – полисмен… Прекрасный аппетит, температура нормальная… Слышите? Нормальная! Изо дня в день, круглый год! И вы говорите – нелепо… Черт бы вас побрал! Друзья мои, да чего же вы ждали от человека, который из-за разыгравшихся нервов швырнул в реку пару отличных ботинок? А мог и слезу пустить – сейчас мне даже кажется странным, что не пустил. Я ведь всегда гордился своей стойкостью, слабонервным меня не назовешь. Однако ж весть о том, что теперь я лишен привилегии послушать речи талантливого Куртца, ранила меня в самое сердце. Разумеется, я ошибался. Никто не лишал меня этой привилегии, и мне еще предстояло услышать Куртца – наслушаться вдосталь. Но насчет голоса я оказался прав: кроме голоса, у него ничего не осталось. Вскоре мне предстояло его услышать, этот голос, и другие голоса – все они остались в моей памяти лишь бесплотными голосами… Сами воспоминания о той поре подобны едва различимой, затихающей вибрации сплошного потока речи – глупой, мерзкой, дикой, непристойной и попросту злой болтовни, лишенной какого-либо смысла. Голоса, голоса… и даже та девушка… Что ж…
Марлоу надолго погрузился в молчание.
– Призрак его даров я навеки усмирил ложью, – вдруг начал он. – Девушка!.. Как? Я упомянул девушку? Напрасно, она не имеет к этому никакого отношения. Они – женщины – не имеют и не должны иметь к этому никакого отношения. С нашей помощью они должны вечно обретаться в том дивном вымышленном мире, иначе нашему миру несдобровать. Да, она здесь совершенно ни при чем. Если б вы услышали, как спасенный Куртц твердил: «Моя суженая!» – то сразу поняли бы, что ей там не место. А эта его массивная лобная кость! Говорят, волосы иногда растут и после смерти, но этот… кхм, эта особь совершенно облысела. Дикая природа погладила его по головке – и надо же, головка заблестела, как шар из слоновой кости… Она приголубила его, а он – подумать только! – зачах. Она приняла его, полюбила, заключила в свои объятия, проникла в его жилы, иссушила плоть и навеки скрепила союз их душ каким-то невообразимым ритуалом дьявольского посвящения. Он стал ее холеным баловнем. Слоновая кость? Да пожалуйста! Груды слоновой кости, груды! Старая мазанка едва ли не лопалась от кости. Казалось, на всем континенте не осталось больше ни единого бивня, ни на земле, ни под землей. «Почти вся – ископаемая», – презрительно заметил начальник станции. С тем же успехом он мог назвать ископаемым и меня. Нет, кость была обыкновенная, просто ее называют ископаемой, если достали из земли. Дикари порой зарывали бивни в землю, но этот клад зарыли не так глубоко, чтобы уберечь талантливого мистера Куртца от его судьбы. Той костью мы забили трюм под завязку, еще и на палубе осталось. Так он мог любоваться ею до последнего – что, собственно, и делал. Слышали бы вы, как он причитал: «Моя слоновая кость!» О, я-то наслушался. «Моя суженая, моя кость, моя станция, моя река, моя…» Все было его, все принадлежало ему одному. Я то и дело затаивал дыхание – ждал, что тьма разразится чудовищным хохотом, от которого дрогнут звезды на небе. Все принадлежало ему, однако не это важно. Важно было понять, кому принадлежал он сам, какие темные силы позарились на его душу. От этих дум я с ног до головы покрывался гусиной кожей. Вообразить это было невозможно – да и опасно. Куртц занял почетное место среди демонов той страны, причем в прямом смысле слова. Но вам это не понять. Куда уж вам понять, ведь у вас под ногами прочная мостовая, а вокруг – добрые соседи, всегда готовые радостно поприветствовать или наброситься на вас, осторожно ступая между мясником и полисменом в святом ужасе перед оглаской, виселицей и сумасшедшим домом. Куда уж вам вообразить тьму первобытных веков, в какую может занести свободного человека, когда его снедает одиночество – полное одиночество, никаких вам полисменов за углом – и тишина, полная тишина, никаких добрых соседей, что услужливо напомнят об общественном мнении. Все эти мелочи очень важны. Когда их нет, человеку остается уповать лишь на свою внутреннюю силу, на крепость своей веры. Конечно, дурак может и не наделать ошибок – по глупости не заметит, что его одолевают силы тьмы. Полагаю, ни один дурак не продал душу дьяволу. Уж не знаю, отчего это: то ли дураки слишком дураки, то ли дьявол слишком дьявол. Или бывают еще такие возвышенные создания, которые ничего вокруг не видят и не слышат, кроме райских зрелищ и звуков. Земля для них – временное пристанище, и я даже не берусь судить, хорошо это или плохо. Но большинство из нас не относятся ни к тем, ни к другим. Земля – наш дом, где мы вынуждены мириться с самыми неприятными зрелищами, звуками и запахами – нюхать мясо тухлого гиппопотама, черт подери! Тогда-то, слышите, тогда-то и проявляется внутренняя сила, вера в свою способность выкапывать неприметные ямки и прятать в них самое ценное; сила верности, причем не самому себе, а какому-то непонятному и изнурительному делу. Не так уж это и просто. Но не подумайте, будто я пытаюсь оправдаться или объясниться… я лишь хочу отчитаться перед самим собой за… за мистера Куртца… за тень мистера Куртца. Перед тем как окончательно исчезнуть, этот посвященный дух из Ниоткуда оказал мне великую честь: доверил свои тайны – наверное, просто потому, что я понимал по-английски. Прежний – настоящий – Куртц частично обучался в Англии и, как он сам успел рассказать, радел за эту страну. Мать его была наполовину англичанка, отец – наполовину француз. Вся Европа приняла участие в становлении Куртца; постепенно я узнал, что Международное общество подавления диких обычаев доверило ему написание доклада, своеобразного руководства к дальнейшим действиям. И он его написал. А я – прочел. Семнадцать страниц мелким почерком! И где он только нашел на это время? Автор изъяснялся весьма красноречиво, так и сыпал мудреными словечками, однако в его манере письма чувствовалась излишняя возбужденность. Полагаю, Куртц написал доклад еще до того, как у него… скажем так, расшалились нервы и он возомнил себя вожаком пляшущих дикарей, совершавших в полночь жуткие, немыслимые обряды (кстати, как я позднее узнал, обряды эти исполнялись в его честь… понимаете?.. в честь самого мистера Куртца!). И все же его доклад был прекрасен. Начинался он с абзаца, который теперь – в свете новых сведений – кажется мне крайне зловещим. Куртц писал о том, что мы, белые люди, ввиду своего высокого развития, «вне всякого сомнения, кажемся им [дикарям] сверхъестественными существами, наделенными божественной силой», и так далее и тому подобное. «Простым усилием воли мы сделаем наши возможности к насаждению добра практически безграничными» – и все в таком роде. Далее он воспарил в совсем уж горние миры – и меня с собой прихватил. Разглагольствования его были великолепны, но очень уж заумны, всего не упомнишь. Там было что-то про экзотическую Беспредельность на службе у благородного Человеколюбия. Признаюсь, я загорелся: так на меня подействовала сила красноречия – разящий и благородный гений слова.
В этом волшебном потоке красивых фраз не было ни намека на практические советы, если не считать методическим руководством карандашную приписку в конце последней страницы, сделанную, по всей видимости, уже гораздо позже и дрожащей рукой. Слова были очень просты – и после столь душеспасительных фраз, взывающих к лучшим альтруистическим чувствам читателя, особенно ослепительны и страшны, как внезапная вспышка молнии на ясном небе: «Всех дикарей – истребить!» Любопытно, что сам Куртц об этом ценном постскриптуме начисто забыл и впоследствии не раз просил меня позаботиться о его «памфлете», как он его называл, поскольку в будущем сей труд помог бы ему сделать карьеру. Куртц подробно посвятил меня в свои дела, и мне пришлось позаботиться не только о докладе, но и о добром имени автора. Для этого я сделал достаточно и обрел неоспоримое право навсегда отправить имя Куртца и его «памфлет» на покой, в помойку прогресса, к остальному мусору и, так сказать, дохлым кошкам цивилизации. Но выбор не за мной. Куртца не забудут. Уж кем-кем, а заурядной личностью его не назовешь. Он внушал первобытным душам такой страх – или обожание, – что они готовы были совершать ужасные колдовские обряды в его честь; мелкие души пилигримов он наполнял недобрыми предчувствиями; он успел обзавестись как минимум одним верным другом и завоевать по крайней мере одну добрую человеческую душу, которую не испортила корысть и в которой не было ничего первобытного. Нет, я не могу его забыть, но и не готов утверждать, что он стоил той единственной жизни, которую мы потеряли по дороге. Я невыносимо тоскую по своему рулевому – и начал тосковать еще тогда, когда его труп лежал на полу рубки. Вероятно, вам покажется странным мое горе по какому-то дикарю – жизнь его была подобна песчинке в черной Сахаре. Видите ли, он все-таки что-то делал: вел мое судно. На протяжении месяцев он был моим помощником, моим орудием. Мы были своего рода напарники. Он вел мое судно, а я подмечал его изъяны, и вот между нами родилась едва ощутимая связь, которую я увидел лишь после того, как она оборвалась. Его предсмертный взгляд, глубина которого так меня поразила, по сей день жив в моей памяти – словно в последний и самый важный миг мы признали друг в друге дальнее родство.
Бедняга! Зачем ему понадобилось открывать ставень? Никакого самообладания, никакого – и у Куртца тоже. Он был как тонкое деревце на ветру. Надев сухие тапочки, я вырвал копье из бока рулевого (признаюсь, это действие я совершил, крепко зажмурившись) и вытащил его из рубки. Я прижал его плечи к своей груди, обнял и изо всех сил рванул на себя. Как он был тяжел! Казалось, таких тяжелых людей не бывает на свете. Затем я без лишних церемоний сбросил его за борт. Течение подхватило его будто травинку, тело дважды перевернулось в воде и скрылось из виду. Все пилигримы и начальник тотчас столпились вокруг рубки и принялись трещать, как взбудораженные сороки, обсуждая происшедшее и шепотом порицая мое бессердечное проворство. Понятия не имею, зачем им понадобился труп рулевого. Наверное, они хотели его забальзамировать. А потом я услыхал на палубе совсем другой шепоток – куда более зловещий. Ребят-лесорубов тоже возмутил мой поступок, причем их возмущение я хотя бы мог понять – но не принять, разумеется. Да уж! Пусть лучше моего рулевого сожрут рыбы, чем кто другой, решил я. При жизни рулевым он был второсортным, но после смерти имел все шансы стать первосортной закуской – и, вероятно, причиной серьезных бед. К тому же я хотел поскорее взяться за штурвал – пилигрим в розовой пижаме правил из рук вон плохо.
Этим я и занялся сразу по окончании скромных похорон. Мы шли средним ходом ровно посередине протоки, и я прислушивался к болтовне на палубе. Начальник решил забыть о Куртце и о станции; Куртц, несомненно, умер, а станцию сожгли… и так далее и тому подобное. Рыжий пилигрим был вне себя от мысли, что нам удалось по крайней мере отомстить за бедного Куртца.
– Знать, изрядно дикарей мы покосили в тех кустах, а? Что думаете? Я прав?
Он едва ли не приплясывал на месте, кровожадная рыжая сволочь! А сам чуть не грохнулся в обморок, увидев раненого! Я не выдержал и заметил:
– Дыма вы напустили изрядно, это точно.
По тому, как шелестели и разлетались верхушки кустов, я понял, что почти все пули пролетели слишком высоко. Если хочешь куда-то попасть, целиться надо с плеча, а не с бедра и зажмурившись. Я решил – и оказался прав, – что дикарей обратил в бегство гудок парохода. От ужаса они забыли про Куртца и принялись возмущенно и негодующе выть на меня.
Начальник стоял у штурвала и заговорщицки бормотал о необходимости поскорее – еще засветло – спуститься как можно ниже по реке. Тут я увидел впереди, на берегу, расчищенный клочок земли, а на нем – очертания какого-то здания.
– Что это? – спросил я.
Он потрясенно хлопнул в ладоши.
– Станция!
Я тут же направил пароход к берегу, но скорости не прибавил.
Надев очки, я увидел впереди пологий склон холма, полностью очищенный от подлеска. На вершине его стояло длинное покосившееся строение, наполовину заросшее высокой травой. Даже издалека были видны черные дыры, зиявшие в двускатной крыше. Сразу за домом начинались джунгли: никакого забора или ограждения, – но раньше забор, видимо, все-таки был, поскольку кое-где торчали в ряд длинные столбики с резными шарами на верхушках. Доски – или что там раньше держалось на этих столбах – исчезли. Вокруг, разумеется, стоял непроходимый лес. Берег был полностью очищен, и у самой кромки воды я увидел белого человека в дамской широкополой шляпе, который усиленно махал нам рукой. Осмотрев опушку леса, я как будто заметил движение – тут и там за деревьями скользили человеческие силуэты. От греха подальше я прошел по реке чуть дальше и только там заглушил двигатели. Белый человек начал орать, чтобы мы сошли на берег.
– На нас только что напали! – прокричал в ответ начальник станции.
– Знаю… знаю! Не волнуйтесь! – жизнерадостно завопил незнакомец. – Все хорошо! Я так рад!
Что-то в его облике показалось мне смутно знакомым – нечто подобное я уже видел. Подходя к берегу, я гадал, кого же он напоминает. И вдруг до меня дошло. Он походил на арлекина! Одежда его была пошита из коричневой холщовой ткани, но почти сплошь залатана цветными лоскутами – красными, желтыми и голубыми. Заплатки на груди и спине, на локтях и коленях; сюртук оторочен какой-то пестрой материей, брюки подшиты алым. В солнечном свете вид у него был невероятно веселый и вдобавок очень опрятный – я заметил, что костюм залатан весьма искусно. Лицо почти мальчишеское, без бороды, кожа светлая, нос в солнечных ожогах, маленькие голубые глаза… Только что он улыбался – и вот уже опять хмурился, а через секунду снова улыбался: словно солнце и тени быстро бегущих облаков сменяли друг друга на продуваемом всеми ветрами поле.