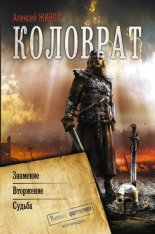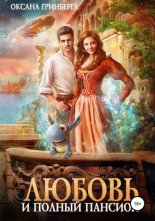Белое пятно Алексеев Сергей

Собрание было назначено на вилле Вальдзее между пятью и семью часами вечера. Столь значительный разброс во времени диктовался обстоятельствами существенными: полноправные члены общества являлись ответственными работниками министерств Рейха, службы СС и СД, могли не опустить дела. А некоторые из них любили приезжать чуть раньше, чтобы отдохнуть у лесного озера и даже половить рыбы. Удочки и наживку выдавали на берегу в специальном киоске, и туда же можно было сдать улов, чтобы его приготовили к ужину. Кроме этого можно было покататься на лодке и провести предварительные беседы вдали от чужих ушей, или просто полюбоваться красотами местности, особенно золотистой осенью, когда стоят желтые и красные клены, оранжевые буковые заросли и еще зеленые дубравы. Сама вилла была с претензией на замок, по крайней мере, фасад венчали две декоративные башенки, в которых сидели наблюдатели или охранники в черной форме. Ее бывший хозяин, потомок курфюрстов, был уличен в неблаговидном деле – совращении малолетних девочек, и чтобы избежать тюрьмы, почти за бесценок продал Вальдзее на подставное лицо в СС. Виллу покупали для постоянно действующей загородной резиденции Ананербе, однако использовали чаще, как место для собраний и отдыха ее членов. Штаб-квартира по прежнему оставалась на вилле Вурмбах, а сюда можно было приехать в любое время, когда не проводилось официальных мероприятий, за не большую плату получить комнату с трехразовым питанием, лодку и удочку. Лесной покой и неторопливая жизнь способствовали такому же ряду размышлений, поэтому Вальтер Гик приезжал сюда обычно в конце недели, дабы упорядочить мысли и заново подвести убедительную аргументацию под уже принятые или принимаемые решения.
Заседания тайного общества здесь проводились скорее для порядка, наскоро обсуждалось все, что было наработано и уже согласовано, вносились не существенные коррективы и затем следовал вердикт по заранее подготовленному проекту. Бонзы из СС, преследующие масонов, сами любили поиграть в них, оказавшись в Вальдзее, пытались выстроить братские отношения, не зависеть от чинов и званий, поначалу намеревались даже обряжаться в балахоны с капюшонами. Однако умозрительные традиции никак не прививались, по всей вероятности, из-за места, более располагающее к отдыху, нежели чем к вещам серьезным и символичным. К тому же, они до конца не понимали, с какой областью знаний, с какими веществами и тонкими материями имеют дело. Привыкшие мыслить фактами, конкретными именами ученых, географическими точками на карте, высокие чины интересовались конечным результатом, а процесс доставлял им хлопоты, неудобства и головную боль. У них наблюдалась типичная детскость мышления: они искренне верили в чудо. Будь то продление жизни за счет элексиров бессмертия, создание психологических противотанковых барьеров или сверхоружия на основе новейших научных открытий и технологий.
А причиной всему этому была малообразованность чинов СС – только единицы когда-то учились в университетах, да и то их не закончили, увлекшись идеями национал-социализма. Единственным, кто понимал всю сложность процессов и действий, был Рудольф Гесс, с которым Вальтеру довелось работать, но он временно выбыл из игры, и теперь приходилось убедительно доказывать закономерность тех или иных действий. Братья по обществу в тот час же становились высокими чинами, с дотошностью экзаменаторов требовали аргументов и мотиваций, доступных для их сознания. Они верили в чудо и его жаждали, но при этом Вальтер был вынужден всякий раз объяснять им природу чудесного фразами материалистического плана. Так было, когда операция «Мост» только еще планировалась, и члены общества, в том числе, председательствующий на собрании Гиммлер, не могли взять в толк, каким образом тибетские монахи, собравшись в большой круг для массовой медитации, способны остановить наступление танковой колонны. В сознание чиновников из СС никак не укладывалась практическая сторона дела; они понимали, что действиями танкистов можно управлять командами по радио или через громкоговорители автомобилей спецпропаганды. Но не в состоянии были до конца поверить, что это же можно сделать силой мысли. Навязать противнику страх, неуверенность, посеять панику, возбудить желание бежать с поля боя или сдаться в плен. Кроме того, вставал вопрос и о том, как контролировать самих медитирующих монахов, мало что им взбредет в голову.
Вальтеру удалось качнуть чашу весов в свою сторону, лишь после того, как провел простенький эксперимент на собрании в Вальдзее. Он записал на бумаге и запечатал в пакет задание самому себе – внушить одновременное желание сходить в туалет. Вальтер заметил, что перед собранием почти все присутствующие пили много пива, гуляя по парку. Поэтому сел в позу лотоса, вошел в состояние медитации и через несколько минут члены общества заерзали в своих креслах. Забеспокоились даже те, кто пива вовсе не пил, но уже начался массовый психоз, и тут Гимлер объявил перерыв. В туалет мгновенно выстроилась очередь, а кому было не втерпежь, побежали в парк, в кусты. После перерыва председательствующий вскрыл пакет, но вслух читать не стал – предложил утвердить операцию «Мост» и отправить экспедицию Вальтера Гика на Тибет.
Операцию он провел блестяще – это отмечали все, кто был посвящен в ее детали. А предстояло пройти десяток монастырей, чтобы отобрать сорок духовно зрелых, сильных и одаренных монахов, дабы потом вывезти их в Рейх. Задача казалась невероятной сложности: без ведома настоятеля дацана ни один насельник не имел права покинуть обители. Тем более, ехать за тысячи километров в чужую страну, живущую по иным правилам и законам. Не смотря на уединенное жительство в горах, ламы были неожиданно хорошо информированы о текущих делах в Европе. Они знали, что такое национал-социализм, почему идет война на востоке, совершенно трезво и реально оценивали расклад сил в мире, и некоторые откровенно поддерживали расовые идеи германцев. Но каждый дацан здесь был как автономное государство, со своим ламой, порядками и нравами, рекомендательные письма не работали и никакие заслуги чужеземца в расчет не брались. Тибетские монахи воспринимали германцев, как арийский народ с большой натяжкой, иные и вовсе считали его дикой смесью романских, славянских, семитских и сакских народов, вываренных в европейском котле. А самого их посланника не признавали за буддийского монаха. Вальтер Гик четыре года жил в бурятском монастыре, где прошел курс обучения, был посвящен в монахи самим Далай-ламой, после чего еще три года учился в северной Индии. Однако для тибетских монастырей он все равно оставался неким путешествующим европейцем, далеким от восточного мироощущения, а надо было во что бы то не стало наладить мост между этими двумя цивилизациями, некогда бывшими в одной арийской связке.
На последнем курсе университета Вальтер увлекся восточной культурой и религиями, получил соответствующую специализацию, но прежде чем серьезно заняться наукой, решил испытать себя и пожить некоторое время уединенно в природной среде. Оказалось, что сделать это в Германии возможно лишь в чьих-то охотничьих угодьях, на лесном кордоне, исполняя обязанности егеря. Так он попал в заповедное местечко Брутхоф, принадлежащее тогда некому бывшему вельможному чиновнику Веймарской республики и впоследствии переданное Герингу. Одинокая жизнь в лесу Вальтера вполне устраивала, он освоил искусство следопыта, обеспечивая успешную охоту на оленей и кабанов его многочисленным гостям. Но это случалось редко, все остальное время он был представлен сам себе и мог делать все, что угодно. Он построил себе хижину в глухом лесу и стал вести образ жизни, подражая традициям буддийских отшельнических монастырей. Он носил одежды, которые сам шил из шкур животных, питался лишь тем, что мог добыть без помощи какого-либо оружия, испытывал себя холодом и голодом. И открыл для себя удивительное состояние просветления от аскезы, когда суета вокруг замерзает до самого дна, и сквозь этот лед отчетливо проступает истинная цель – во имя чего и ради чего следует жить.
Тут-то молодого егеря и ученого естествоиспытателя заметил Рудольф Гесс, бывший однажды на охоте. Одна ночь, проведенная у костра в беседах и спорах, решила судьбу Вальтера. Но прежде чем возглавить экспедицию на Тибет, потребовалось восемь долгих лет учебы и скитаний по восточному миру. И где бы он ни был, всегда помнил свою колыбель – дубовые леса в Брутхофе, и мечтал после победы когда-нибудь вернуться туда и уже поселиться навсегда.
На Тибете Вальтера приняли дружелюбно всего лишь в трех монастырях; в других встречали холодно или вовсе враждебно, хотя связь между ними была, и монахи отлично знали, кто и зачем к ним пришел. Сказывалось влияние коммунистического Китая, который нагло вмешивался в жизнь Тибета. Вальтер не рассчитывал на легкий успех, и как всякий странствующий монах брел дальше, без уныния и обид, если получал отказ от взаимодействия. И постепенно складывалось чувство, что этот народ в горах рождается и живет лишь для того, чтобы служить даже не богу – философии, как науке и бесконечно самосовершенствоваться, а светская жизнь для них кажется убогой, низменной и не нужной.
Достаточно глубоко изучив праджню-парамиту – концептуальное учение буддизма и его философию, проникнув во многие тайны существования восточных религий, он никак не мог избавиться от европейского образа мышления и принять их манеру поведения. Но самое главное осознать, зачем эти высокообразованные, мудрые люди живут на свете, что движет их жизнелюбием, веселостью и простотой, иногда доходящей до детскости состояния, как у высокопоставленных чинов СС? С последними было все понятно, для них во главе угла стояло ощущение собственной власти, которой они упивались по своему неразумению, и что говорило о подростковости их психологии. Но что вдохновляло монахов в затерянных горных обителях, дабы радоваться жизни так, как радуются ей бессмертные?
Эти вопросы Вальтер задавал себе, пока не оказался у совсем дряхлого, немощного настоятеля отшельнического пещерного дацана, расположенного выше границы снегов. Там и было-то всего около десятка насельников, причем, таких же старых и не приветливых. Однако странник был приглашен в ледяную келью ламы, где сам он сидел на каменном полу в какой-то вялой полудремной нирване и почти не реагировал на окружающую реальность. Соблюдая общую канву ритуалов, Вальтер сел напротив и, пожалуй, битый час рассказывал о Германии, истории народа, его стремлениях и воззрениях, чувствуя, что говорит в пустоту. Наконец, настоятель будто очнулся, увидел посланника и долго, не мигая, смотрел на него, так что Вальтер ощущал желание съежиться, сжаться, чтобы стать неуязвимым. Потом без всяких просьб и команд в келью вошел послушник и подтащил к старцу тяжелый каменный сундук на деревянных полозьях. Подняв крышку, он извлек каменное изваяние Махакалы, загадочного божества Великого Времени, поставил перед гостем и удалился.
Тем часом настоятель все еще продолжал пожирать его глазами, отчего Вальтер уже казался себе щепотью мелкого песка, которым отсыпают мандалы. К его созерцательному, но умаляющему взору добавился устрашающий взгляд безобразного Махакалы, и Вальтер едва все это выдерживал. Еще бы немного, и он бы убежал отсюда, но старец достал из каменного сундука сначала склянку с неким веществом, напоминающем битое стекло. Он высыпал на ладонь несколько осколков, выбрал один более-менее похожий на кристалл, и остальные небрежно бросил на пол. Выбранный же вставил в некий прибор, напоминающий морскую улитку-раковину и поднес ее к уху. Руки у ламы тряслись, раковину он прижимал не плотно, поэтому Вальтер услышал голоса, сначала на фарси, затем на хинди – эти языки он знал и определил сразу. А далее послышались некие азиатские наречия, отчетливо промелькнули китайский и славянский, и наконец, зазвучали европейские, в частности, испанский южно-американского разлива и английский Соединенных штатов. Некоторые голоса были явно дикторские, но в большей степени обычные бытовые разговоры, как в радиоспектаклях. И все чуть искаженные эфиром: было чувство, что настоятель крутит ручку настройки радиоприемника, перебегая с волны на волну, хотя он ничего не крутил, а только слегка потряхивал прибор. Наконец, из раковины поплыла немецкая речь, и старец замер, вслушиваясь.
Вальтер тоже затаил дыхание, ибо давно уже не слушал радио, не знал последних событий с восточного фронта. По монастырям он ходил в сопровождении одного охранника, который изображал из себя носильщика, без радиостанции, поскольку радисткой была женщина, а ему, монаху-аскету быть в ее компании не полагалось. И тут он услышал сообщение, повергшее его в шок: маршал Паулюс сдался в плен вместе с остатками своих войск! Причем, его называли почему-то фельдмаршалом, и говорили об этом событии, как о давно состоявшемся, то есть, уже без трагического пафоса. Комментатор призывал войска и всех немцев к стойкости и мужеству, вспоминая времена, когда Германия была боевой сутью Римской империи и ее железные легионы громили врага.
Как-то отстраненно послушав сообщение несколько минут, настоятель вернул раковину в каменный сундучок, после чего трясущимися, заскорузлыми руками сгреб, и потом аккуратно собрал рассыпанные по полу кристаллы, спрятав их в склянку. Вальтеру показалось, даже пересчитал и тоже убрал, плотно закрыв крышку.
– Да, твоему народу следует помочь. – заключил настоятель дребезжащим голоском. – Он мужественно воспринимает удары судьбы, и готов лицезреть свое будущее. Я сам созову братьев, которые тебе нужны.
При этом говорил на хорошем немецком! Но не это в тот миг поразило воображение Вальтера, и даже не трагические события в Сталинграде; его внимание приковалось к раковине, сквозь которую старец, сидя на горе за границей снегов, внимал всем эфирным голосам. Он успел рассмотреть ее, в общем-то невзрачное изделие, выточенное из какого-то пятнистого камня. Вероятно, эта раковина была лишь вместилищем, корпусом кристалла, вставленного в нее, а уже через него можно было слушать весь мир!
Лама посчитал встречу законченной и снова впал в некое старческое бездумное или медитативное состояние, а в келью тем часом вошел слуга и показал знаками, что пора уходить. Вальтер покинул убогое жилище дряхлого старца и оказался в теплом помещении монастыря, где была выставлена обильная вегетарианская еда, хмельной напиток, напоминающий суру и постель с пуховым матрацем и одеялом. Наскитавшись в холоде, а монахам-аскетам воспрещалось носить меховую одежду, Вальтер все время зяб, и тут, вкусив неожиданно богатой монастырской пищи, непроизвольно повергся в сон – и даже память о чудодейственной раковине с кристаллом не удержала.
Непонятно, сколько он проспал, однако проснувшись, сразу же определил, что находится в другом помещении, а позже выяснилось, и в другом дацане. Тут же, выстроившись строгими рядами, сидят монахи, ровно сорок, причем, старые и молодые: престарелый настоятель сдержал свое слово. Все они были погружены в глубокое медитативное состояние – по виду, так натуральные мертвецы. Но стоило Вальтеру пошевелиться, как монахи встрепенулись, ожили и выразили готовность следовать за ним в Германию.
Для начала Вальтер вздумал выяснить, как и почему оказался здесь, однако монахи будто не понимали, объясняя, что мир следует воспринимать таковым, какой он есть и не пытаться изменить его природу. Вальтер отнес это к языковым проблемам, поскольку изъяснялся на разговорном тибетском, знать который в совершенстве было не возможно, родившись европейцем. И под впечатлением от встречи с настоятелем высокогорного дацана, сначала осторожно попытался выяснить, каким образом тибетские монахи, сидя в холодных горах, владеют полным знанием, что творится в мире. Они же, как-то недоуменно переглядываясь, тыкали пальцами в небо и произносили одно слово:
– Прахаравата.
Что оно означало, Вальтер не понимал и перевести его не мог – всего лишь догадывался, что связано оно с небом и воздухом, то есть, с эфиром. Тогда он попытался расширить диапазон и задал конкретный вопрос, как и каким образом они получают информацию, что происходит в мире, если живут изолированно и нет радио. Монахи опять переглянулись и уже с опаской показали в небо:
– Прахаравата.
Но после прямого вопроса, что это такое, и как можно услышать голоса, они неохотно и уже со страхом и путано объяснили, что Прахарвата это нечто божественное, существующее в небе. Скорее всего, кладовая знаний, некий источник, откуда можно почерпнуть любую информацию, а прибор с кристаллом, с помощью которого слушают, называется Ухо Будды. Но есть еще Сваты – престарелые монахи, тулку и девственницы в женских дацанах, которые владеют Оком Будды. Пользоваться божественным слухом и взором можно лишь тем, кто достиг духовного совершенства и не подвержен соблазнам и искушениям всего остального мира. В противном же случае Прахарвата незаметно и исподволь вынимает светлую душу и вкладывает черную. Человек сначала перестает отделять правду от лжи, прошлое от грядущего, а потом добро от зла и постепенно разрушается.
Вальтер отнес бы это к одной из тысяч красивых легенд, которыми тибетцы любили потчевать европейцев, если бы сам не подслушал голоса из раковины. Но даже не это приводило в шок. Вскоре после аудиенции у престарелого ламы в высокогорном монастыре он заказал радистке сводку с восточного фронта и когда ее получил, глазам своим не поверил. Маршал Паулюс доблестно сражался в Сталинградском окружении и к нему на выручку шел Манштейн. Ни о какой сдаче в плен не было и речи! Полагая, что ему прислали устаревшую информацию, он сам надел наушники, прослушал последние известия из Сталинграда, причем на немецкой и русской волне, и вот тогда-то испытал нечто вроде паралича. Ухо Будды вещало о будущих событиях!
Тем временем Вальтер готовил группу монахов к переброске в Рейх, занимался делом важным и ответственным, а сам по прежнему находился в заторможенном или точнее, замороженном состоянии. По инструкции он должен был составить срочный отчет о произошедшем событии и шифрованным текстом донести полученную информацию до своего непосредственного начальника – Вальтера Вюста, и не имело значения, проверенная она или нет. Сам он был почти убежден, что события в Сталинграде развернуться так, как услышал с помощью Уха Будды, но все-таки еще надеялся на некую ошибку, случайный промах, сбой. Вальтер понимал, отчего это происходит: стоило мысленно произнести слово Прахаравата, и его охватывал студеный страх – точно такой же, каким его испытывали тибетские монахи. Он прикасался к некому запретному, запредельному явлению, и опасался поверить в его существование, ибо привычный мир в тот же миг бы опрокинулся.
Одновременно Вальтер понимал, что стоит сообщить об этом руководству Ананербе, как в тот же час последует приказ остаться на Тибете и провести более детальное исследование этого явления, собрать полную информацию и желательно заполучить Ухо Будды или даже его таинственное Око. Чинам из СС с их взрослой детскостью, и прежде всего президенту общества Гиммлеру захочется немедленно все это иметь, как заветную игрушку, а Вальтер почувствовал некое отторжение, или точнее, пресыщение от всего увиденного и услышанного. Тем более, он странствовал по монастырям уже несколько месяцев, чувствовал психологическую усталость и намеревался выехать с Тибета вместе с монахами.
Обуреваемый тяжкими размышлениями, он придумал вескую причину, объясняющую, почему сразу не послал шифрованный отчет руководству: информацию о Прахаравате и об Ухе Будды невозможно было зашифровать так, что было бы понятно, что это за явление и приборы. Но главное, если Прахаравата существует, то любой шифр в радиограмме будет немедля прочитан теми, кто владеет Ухом Будды, а тем паче, всевидящим божественным Оком. И не известно, как этому отнесутся в тибетских монастырях, в частности, этот дряхлый старец, отпустивший с ним в Рейх сорок своих братьев. Надежнее было под видом странствующих монахов вывести их в условленное место, куда через захваченную японцами, Манчжурию, будет прислан специальный самолет, вылететь в Германию вместе с ними. И уже там, в спокойной обстановке доложить на собрании общества о чудесах небесного информативного потока, в котором есть все, что было и еще будет.
Пока вспомогательная служба готовила караван к переброске монахов, сам Вальтер вел с ними разведочные беседы, пытаясь расширить свои знания. Говорить о Прахаравате они по прежнему не желали, либо делали это весьма сдержанно и с заметным испугом. Но зато более спокойно рассказывали об Ухе Будды, хотя в группе не было ни одного, кто бы по своей охоте пользовался этим прибором. Иное дело, изредка настоятель понуждал их слушать Прахаравату, чтобы овладеть теми или иными знаниями или получить информацию, что происходит в мире. Всем им было не запрещено слушать и заглядывать в будущее, однако этого никто не делал, ссылаясь, что излишние знания им в тягость, и только Будде позволено взирать на мир божественным оком, либо тем, кого он избрал своим Оком на земле – Сватам, владеющим его слухом и взором.
Мало-помалу Вальтер выяснил, что сама раковина Уха Будды выточена из лавовой породы, которую добывают из жерла потухшего вулкана. Из нее же сделан сундук и круглый валик, который старец-настоятель подкладывал себе под ноги. Но самое главное, что из того же вулкана достают кристаллы! И это самая хрупкая точка Земли и там даже разговаривать громко нельзя. Ибо в жерле его спит Глас Будды! Поэтому вулкан иногда так и называют, однако где он точно находится, никто достоверно не знает. По наслышке монахам известно, будто бы в Гималаях, где-то в Непале, а иные утверждали, в какой-то северной стране. Не чаще, чем раз в сто лет туда посылают монахов, которые или живут в пещере, или находятся там в состоянии сомати. Только им известно, где вулкан и как добывать Вату-ха – так называют кристаллы. Одни говорили, их достают из жерла, другие напротив, утверждали, что они прилетают с неба в виде звезд и рассыпаются по земле. Ранее добытые и принесенные, они со временем теряют свои свойства, и становится невозможно слушать голоса Прахараваты. Тогда и снаряжают монахов, которые знают, где этот вулкан и как добывать кристаллы. Любое неосторожное действие людей не сведущих может пробудить его и тогда люди услышат Глас Будды! На земле все смешается, добро и зло, огонь и вода, прошлое и будущее, отчего люди станут безумными и наступит вселенский первозданный хаос. Потребуется восемь тысяч лет, чтобы мир вновь обрел разумность и порядок.
Вальтер понимал, что все эти россказни не более чем легенды, однако все равно испытывал студеное дыхание страха и не раз похвалил себя, что не послал шифрограмму руководству. Столь важную информацию немедленно бы довели до Гиммлера, а он потребовал бы решительных действий. Например, дал бы задание похитить Ухо Будды, либо кристалл Вату-ха и доставить в Рейх, после чего путь на Тибет был бы навсегда закрыт. Однако Вальтер был учеником Гесса и знаменитого профессора Хаусхофера, поэтому привык действовать осмотрительно и не поддаваться сиюминутным порывам, дабы угодить руководству. Когда караван пришел в пустынное место Манчжурии, куда приземлился специальный самолет Люфтваффе, Вальтер получил сообщение, точнее, заказанную сводку о положении дел в Сталинграде. Там значилось, что Паулюс, произведенный в фельдмаршалы, все-таки сдался в плен русским вместе с остатками своей армии…
В Вальдзее Вальтер приехал с утра и с единственной целью – встретиться с профессором Хаусхофером и до заседания общества обсудить с ним заранее подготовленный доклад. После Гесса это был единственный человек, мнению которого можно было доверять смело и безраздельно. Ему единственному дозволялось думать и говорить все, что он чувствует: критический анализ, как ответвление философской науки, вообще исчез из обихода. Они не были и не могли быть друзьями, профессор относился к Вальтеру, как к своему ученику – точно так же отец всю жизнь относится к сыну. И это в некоторой степени сдерживало поток чувств и мыслей – надо было все время доказывать свою взрослость и зрелость.
Профессор ничего не знал о приключениях Вальтера на Тибете, никогда не слышал о Прахаравате и когда прочитал рукописный доклад, испытал то же самое, что некогда его ученик. Его набриолиненная прическа взлохматилась сама по себе, и возле лба выросли рожки.
– Я предполагал. – взволнованно признался он. – Предполагал нечто подобное… Но что бы такое?!…
Однако способность к критическому анализу быстро поставила на место поток чувств. В спокойном состоянии Хаусхофер казался немного ленивым и вальяжным, но это от ощущения собственной значимости. Когда-то Гесс представил его фюреру, и тот обласкал профессора, не потеряв с ним связи даже после того, как Рудольф улетел в Англию. Вальтер полагал, что главную причину перелета знает только Хаусхофер и никогда ее не назовет. Это добавляло доверия к профессору, но близость к вождю Рейха настораживала и уравновешивало чаши весов.
– Вальтер, а вы уверены, что старый настоятель дацана не разыграл вас? Записав, например, на магнитную ленту предполагаемую инсценировку события в Сталинграде?
– В таком случае этот трясущийся старец гений импровизаций, которые проделывают в Гестапо. И где-то в его убогой келье есть лаборатория, которая стряпает подобные ленты на всех языках мира.
– Да. – профессор несколько обвял. – Резонно… Как вам показалось, он понимал языки, на котором говорит это явление, именуемое вами Прахараватой?
– Я уверен – понимал. – отозвался Вальтер. – Иногда он задерживал бег радиоволн и вслушивался…
– Все-таки это радиоволны?
– Нет, скорее, некий законсервированный поток информации, внедриться в который возможно с помощью Уха Будды, либо увидеть с помощью его Ока. Причем, информации самой разной по событиям и времени. Там перемешано прошлое и будущее. Монахи утверждают, добро и зло. Надо обладать совершенным разумом и духовным потенциалом, чтобы отделять одно от другого. А чтобы находить то, что нужно, следует научиться мысленно задавать правильные вопросы. То есть, так сконцентрировать свое истинное желание, насытить такой мощной энергией, чтобы быть услышанным. У буддистов и индуистов для этого существуют специальные мантры.
– Это весьма любопытно. – как-то задумчиво заключил профессор. – И так заманчиво, что напоминает красивую легенду. Или по сути Прахаравата ею является. С материалистической точки зрения ничего подобного в природе быть не может. Должен существовать конкретный информационный носитель, некое вещество, аккумулятор. Глиняная табличка, лист бумаги… Хотя материализм возник от скудости наших знаний о природе тонких энергий. Легче их отрицать, нежели чем попытаться проникнуть в таинство параллельных структур. Это говорит о деградации человеческого разума и низменности чувств.
Он надолго замолчал, и Вальтер воспользовался паузой.
– Прошу вас, посоветуйте, что мне делать? – чуть ли не взмолился он. – У меня есть еще один вариант доклада, более напоминающий сказки тысяча и одной ночи. То есть, все на уровне легенд, слухов и фольклора…
– Ни в коем случае! – перебил Хаусхофер. – Скудоумие всегда выбирает сказочный вариант, нежели чем реалистический. И это хорошо, что вы не сообщили о Паулюсе за два месяца до его предательства. Вас бы приняли за заговорщика, который продался русским и склонил фельдмаршала к сдаче в плен. Я отлично помню ваш опыт с туалетом…
Вальтер от его слов сам захотел в туалет, поскольку в скитаниях по холодным горам подстудил почки и теперь лечился в закрытой клинике, созданной при обществе.
– Но что мне делать? – спросил он и не стесняясь, пописал в воду – они дрейфовали на лодке по озеру, только что освобожденному ото льда.
– Заразительное это дело. – профессор встал и отвернувшись от ученика, сделал тоже самое. – Как вы думаете, это безобразное, что мы делаем… Работа сознания или подсознания?
– Русские говорят, одна кобыла всех ссать сманила. – отозвался Вальтер. – Полагаю, стадное чувство… Помогите мне, профессор. У меня есть желание все бросить, и вернуться в Брутхоф…
– Вернуться и оказаться в концлагере. – поправил Хаусхофер. – И это в лучшем случае. Ананербе никого не отпустит из своих объятий. Поэтому мой совет: доложите все, как есть.
– Но в тот же час последует команда вернуться на Тибет, добыть полную информацию по Прахаравате и выкрасть образец Уха Будды. И наверняка со мной пойдет войсковая группа СС, чтобы сделать это боевым способом. Если у меня не получится.
– Да, это вполне реально. – согласился профессор, зная расклад сил.
За блестяще проведенную операцию «Мост» Гиммлер пообещал причислить ученого Вальтера Гика к ордену СС и присвоить ему специальное звание – штандартенфюрер, что равнялось званию полковника. Сугубо гражданского человека и ученого почти насильно втягивали в круг немецкой партийной элиты, дабы навсегда отсечь все другие концы, в частности, от международного ученого мира, который к СС относился брезгливо. А после серии опубликованных статей его, как востоковеда, отлично знали не только в Европе, но и в США. Случись это хотя бы годом раньше, Вальтер бы не раздумывал и согласился, однако сталинградские события сильно пошатнули веру в безоблачное будущее. И сейчас он вынужден был придумывать причины, по которым ему было нецелесообразно засвечиваться в рядах СС. Но главной из них была тайная личная неприязнь к малообразованным и самодовольным членам этой организации. К тому же, вспомогательная группа его экспедиции набиралась из их состава, подчинялась ученому с великой неохотой и каждый его приказ обсуждала со своим руководством. Хотя он не один раз доказал свою преданность делу, обладал исключительными боевыми и волевыми качествами, и был намного сильнее каждого из этих кичливых вояк.
Хаусхофер прекрасно обо всем этом знал и разделял убеждения Вальтера. Но сейчас он показался несколько растерянным и задумчивым.
– Признайтесь мне… по старой дружбе. – проговорил он с плохо скрываемой пытливостью и надеждой на откровенность. – Вы более ничего не слышали о будущем Германии? Ушами Будды?
Вальтер заподозрил некий подвох.
– Нет, ничего больше не слышал…
– А это возможно… услышать? Или даже увидеть?
– Полагаю, да, если иметь Ухо Будды, либо его Око. И научиться правильно концентрировать энергию своего желания.
Хаусхофер задумался на минуту, и будучи человеком открытым, мыслей своих таить не умел, и Вальтер их услышал. Профессор думал о судьбе немцев. Поражение в Сталинграде его сильно подрубило, он не признавался еще себе, но исподволь думал, что это символичное начало конца. Русские не сдавали своих городов-символов, немцы не дошли до Москвы, стоял блокадный Ленинград, и был освобожден Сталинград. Всякий, кто хотя бы косвенно соприкасался с символическим рядом неосознанных действий того или иного народа, даже самого неполноценного, должен был понимать, что в процесс включаются иные силы, мало подверженные осмыслению. А значит, давно пора пересматривать умозрительные теории, в том числе и о национальной исключительности.
Вальтер не обольщался тем, что умеет читать чужие мысли, но был уверен, что за годы общения с буддийскими монахами научился подключаться к потокам тонкой излучаемой человеком, энергии мысли, которая оставляет отпечаток на лице в виде определенной гримасы. И если самому изобразить на лице такую же, происходит автоматическое включение. Это происходит точно так же, как чужой смех или плач вызывает аналогичные чувства у людей посторонних и мы тоже непроизвольно начинаем смеяться или плакать.
Голову профессора охватывали мысли крамольные, запретные, чтобы произнести их вслух, поэтому он произнес то, чего требовала обстановка.
– Дорогой Вальтер… Надо любым способом заполучить Ухо Будды. Чтобы привести в чувство наших глухих политиков. Пусть они услышат голос судьбы.
И тогда он решился сказать то, что таил все это время, следуя караваном, а затем самолетом со многими посадками – в Фатерлянд. Монахи, живущие в горах, привыкли к резкой смене высот, и полет переносили хорошо. Они вошли в транс, замерли и на их лицах не дрогнул ни один мускул во время взлетов и посадок, когда как Вальтера откровенно мутило. Кроме того, давала знать простуда, и он бесконечно бегал в хвост самолета, где стоял сосуд для испражнений. И вот это блевотное чувство сохранилось даже после трехсуточного отдыха в палате закрытой клиники, где он лечился и писал доклад.
– Я готов вернуться на Тибет. – признался Вальтер. – Там появилось много друзей, которые помогут выполнить любую задачу… Но есть уверенность, что руководству общества будет мало добыть каменное Ухо Будды. Как мне показалось, кристалл Вата-ха теряет свои свойства после одного сеанса связи. Думаю, президент Ананербе со своим образованием агронома не способен понять истинного предназначения Прахараваты. Он привык к практическим действиям, к материалистическим представлениям о мире, хотя считает себя оккультистом и мистиком. Он потребует установить местонахождение вулкана. И если не овладеть этой территорией, то наладить тайную добычу камня и кристаллов.
Он старался говорить мягко и обтекаемо, без резких выпадов, но профессор его понял.
– Да, аппетиты у нашего руководства, как у голодного волка. – согласился он. – В первую очередь они пожирают не плоть, а внутренности. Сердце и печень. Агрономы одержимы желанием управлять процессами вегетации. Даже теми, о которых имеют смутное представление. Но мы, немцы, взяли на себя миссию быть доминирующей нацией. И это придется оправдывать.
– И это же нас погубит. – вслух проговорил Вальтер, но развивать мысль не стал.
Хаусхофер слегка насторожился.
– Мне кажется, вы услышали нечто большее, чем измена фельдмаршала. И советую вам ничего не скрывать…
– Что услышал, изложил в докладной записке. – отпарировал Вальтер. – Все остальное – плод моих размышлений. Которые можно расценить, как пораженческие настроения. Русские не сдали ни одной своей святыни. И это их вдохновляет, когда мы терпим неудачи и откровенное предательство.
– Не горячитесь, мой друг. – профессор сел на весла. – Знания умножают печали, и в этом суть мужества всякого ученого. Наберитесь его и поезжайте на Тибет. Там вы принесёте истинную пользу Германии.
Последняя фраза профессора прозвучала двусмысленно. Однако углубляться в нюансы уже не осталось времени. Лодка ткнулась в берег, и стражник в форме СС примкнул ее к пирсу.
– Вас ждут в зале заседаний, господа.
3
Настоящие арестантские камеры в поселковом отделении погорели еще до войны, сами сидельцы и подожгли. Построить новые не успели, приспособили старую хомутовку и конскую парилку – в милиции до сих пор лошадей держали, причем, самых лучших. Ерему посадили в одиночную камеру, то есть, в бывшую парилку, где раньше коней от чесотки лечили, навечно пропахшую лекарством, до сей поры выедающим глаза. Поэтому в Потоскуе говорили, не в камере посидел, например, за хулиганство, если давали пятнадцать суток, а в хомутовке был, поскольку гоняли на принудработы. Если же по уголовной статье залетел, означало от чесотки лечат, и это надолго. Стены и потолок толстыми досками обшили, новые полы настелили, и все равно воняло. Юлианов сам ее осмотрел, проверил надежность двери, замков и остался доволен. Одиночка была по соседству с общей, поэтому за стеной стоял ровный гул пьяных голосов: день был субботний, в Потоскуе с золотых времен разгульный, и сидельцев хватало.
Только заполночь люди там угомонились, и Ерема, отчаявшись сегодня же выйти на свободу, страдал от голода и после таежных благостных ароматов никак не мог принюхаться к мерзкому запаху. Камера и совет особиста подумать встревожили его, и хоть ничем особенным пока не угрожали, однако заронили мысль о побеге… Если бы у капитана было что предъявить и чем припереть, давно бы уже припер, а он закидывал каверзные вопросы про злых духов наугад, верно, полагаясь на простодушие – вдруг проговорится?
Конечно, подозрительно, что Осягин закупил продукты, которые раньше не брал, потому и решил, чтоб задобрить духов. И про лампы к радиопередатчику почти в точку попал, но сделал это с прицелом на его одичалость в тайге – припугнуть хотел. Поэтому и аэродромную службу в Германии вспомнил, справки навел, про квартирную хозяйку узнал. Перед демобилизацией из армии его не так пугали, неделю в изоляторе продержали, и допросы в военной прокуратуре каждый день, а потом еще беседы в политотделе о моральном облике советского солдата. Он знал, что чист, ничего предосудительного не совершал, стоял на своем и выстоял. А тут почуял, Юлианов словно подкрадывается к нему, умышленно путает дурацкими вопросами, но в любой момент может задать конкретный, и тогда будет трудно отвертеться. А в нем чувствуется и хитрость, и сила одновременно: рот большой, а губы тонкие – верный признак коварства. Сейчас хоть пятьдесят пятый год, не прошлые времена, но все равно могут засадить.
Еще в юности они с отцом приводили сюда парить казенную лошадь, и в торцевой стене, где сейчас стояли нары, тогда была овальная дыра, куда конь высовывал голову, чтоб не дышать ядовитым лекарством. Сейчас вся стена оказалась зашита широкими и толстыми плахами: если не знать, сроду не догадаться. Ерема отодвинул нары, первую доску отодрал – точно, дыра на месте, слежавшимся тряпьем забита, а снаружи опять доски. В юности казалось, дыра большая, но тут ощупал, едва ли протиснешься. Однако если еще пару досок оторвать, ночью попробовать можно!
Ерема поставил доску и нары на место и лег: приятно сидеть, когда знаешь, что всегда есть надежда удрать. И почти задремал, но тут входит Володька Мефодьев, еще школьный приятель – дежурным заступил и узнал, что Осягина закрыли МГБешники по своей линии. Милиционеры их не любили, поэтому Мефодька выразил свое сочувствие, мол, тебя не первого сюда бросают, троих из Потоскуя уже сажали и потом выпустили. А чего добиваются, не понять, должно быть, дело у них секретное. Но говорят просто оперативное изучение обстановки в районе. Слово за слово, разговорились, школьные годы вспомнили, Ерема и попросился у него домой сбегать, перекусить, мол, с утра голодный. Мефодька поразмыслил и отпустил.
– Только не подведи, часа два хватит?
Пришлось побег отложить – у соржинских казаков все на доверии было. Прибежал домой, а у отца Лаврентий сидит, председатель райисполкома. Как Ерема из тайги вышел, они с братом еще не виделись и тут обнялись. Сразу стало понятно, встревожился Лаврентий, узнав, что Ерему посадили, как никак ответственная работа, а тут брат под следствием у МГБ.
– Отпустили? – обрадовался. – Или сбежал?
– Поесть отпустили…
Отец на стол собрал – Ерема сразу навалился на картошку с мясом и соленые огурцы.
– Ну и нервы у тебя! – понаблюдав за ним, восхитился брат. – Благотворное влияние природы! Ох, как я хочу обратно в Соржинский кряж! Кто бы только знал…
– Тебя день-то не покорми. – проворчал отец. – Небось, три раза в день лопаешь, в кабинет приносят. В соржинский кряж он захотел! Да тебя палкой не загонишь!… Ты ешь, ешь, Ерема!
– Смотри, сбежать не вздумай. – предупредил Лаврентий, проглотив отцовскую реплику. – Надо, чтобы сами отпустили. Сбежишь, сразу виноватым объявят розыск, вне закона будешь. Ты прокурора требуй!
Лаврентий уже давно привык к своему начальственному положению, однако френчей и галифе не носил, цивильно одевался, в костюм, хотя ездил в бричке и говорил всегда со смешком превосходства.
– Если МГБ дело ведет, ни один прокурор не указ. – заметил отец. – Делают, что хотят!
Брат рассмеялся:
– Сам-то как думаешь, за что упекли, поскребыш? Что такое натворил? Признавайся, как на духу!
Но чувствовалось, самому не до смеха, потому ночью и примчался – должно, отец сообщил, что Ерему закрыли.
– Не в чем признаваться-то, Лаврентий. – посетовал тот, уминая свининку, по которой соскучился. – Не понравилось ему, как говорил…
– Кому не понравилось?
– Да особисту этому, Юлианову.
– Слышал, говорят, въедливый мужик…
– Еще какой въедливый. – со стариковским кряхтеньем подхватил отец. – С меня подписку взял, о не разглашении, про что допрос был.
– Ты что, бать, даже нам не скажешь? – спросил Лаврентий.
– Ну вам-то скажу. – помедлив, сдержанно проговорил тот. – Начал поминать золото, что у китайца отнял. Прямо за горло берет! Говорю, в войну на танк сдал, так неделю проверял, шельмец. У него, видишь ли, подозрение имеется, будто я того хунхуа под мох спрятал. Или давай пытать, почему я промысел бросил! Какое ему дело, почему!
– Правда, бать, а почто бросил-то? – подхватил брат. – Сейчас бы героем труда ходил, никто бы не цеплялся…
– А ты почто? – сразу взъелся отец. – В начальство пошел? Свалил родовые угодья на поскребыша, и рад.
– Меня назначили. – увернулся тот. – Не мое желание, кому-то и управлять надо. У меня не угодья – целый район в руках, размером с Данию и Голландию. А вот, батя, почему ты тайгу бросил – вопрос.
– Я тоже не по своей воле. – вдруг признался отец и замолк.
После службы, отправляя Ерему на Соржинский кряж, он все же рассказал, отчего так скороспешно оставил промысел. В злых духов, пробужденных шаманами, сам он не верил, хотя старики говорили, и такое возможно, начнут преследовать всячески, пугать, пакостить и выживут из тайги. Лука Прокопьевич признался в сокровенном, считая, что у него от одиночества болезнь души приключилась, стали чудиться голоса. Пока идешь или чем-то занят, не слыхать, но отдохнуть присядешь или спать ляжешь, тут и начинается. Сначала будто далекие, не разборчивые, как эхо, но потом словно наплывают, и уже как по радио слышно. Иногда эти голоса одинокие, а чаще будто много людей разговаривают между собой или вовсе толпа гудит и понятны лишь отдельные слова. Жутко становится! Особенно если тебя окликать по имени начинают, или слышишь знакомые голоса, а еще страшнее – своих близких. Лука Прокопьевич много раз слышал, как его сыновья звали, бывшие тогда на фронте. Бывало, старший Иван аж ревет, как медведь:
– Помоги, батя! Помоги, пропаду!
И Лаврентий не раз взывал:
– Батя, спаси! – и не сдержанный на язык, матерился. – Ох, как мне хреново!…
Это, наверное, когда небо у них было с овчинку. Лука Прокопьевич поначалу не знал, что и думать. В первую очередь кажется, гибнут сыновья или вовсе погибли, вот и блазнится, но прибежит в Потоскуй – похоронок нет, напротив, бодрые письма, как врага добивают, медали получают и шагают по странам Европы. Тогда он и понял, что от одиночества и тоски болезнь с ним приключилась, вышел из тайги, и как рукой сняло.
А Ерема тогда послушал отца, ушел на самый юг Соржинского кряжа и скоро забыл про его откровения. Какие тут голоса, если в ушах только собственная кровь стучит, ну еще кухта снега с ветки сорвется да прошуршит или зимняя синица свистнет. В остальном белое безмолвие, как пишут в книжках. Год один в тайге прожил – ничего не слыхал, и только к концу второго ему не голоса стали чудиться, а женский смех. Началось с того, когда однажды Ерема на ходу в небо загляделся и упал. Тут впервые и услышал за спиной, да такой веселый заливистый, что вскочил, огляделся – никого! Думал, показалось, или птица какая-то завелась. Потом как-то днем сидел у окошка, шкурки с соболей снимал, и слышит, сквозь метельный вой опять тот же смех за дверью. Подкрался, прислушался, думал, ветер завывает – нет, точно, женщина смеется! Ерема резко так дверь распахнул и в это время ему снег на голову обрушился с крыши, наметенный заструг оторвался. А невидимая женщина еще громче и задористей хохочет.
С тех пор и началось, если не каждый день, то через день слышит: то веселый, то вкрадчивый, и все время неожиданно. Ерема и отпугивать пробовал, даже стрелял вверх, и разговаривал, просил, чтоб отстала, но сам-то понимал – от тоски и одиночества ему грезится. Как отцу голоса чудились, так ему смех – хоть промысел бросай и выходи к людям! Но потом обвыкся настолько, что стал себе воображать разные картины, но с одинаковым сюжетом. Хорошо бы было, если бы какая-нибудь девушка пошла в лес, заблудилась, а он бы ее нашел. Нашел и оставил в избушке – а куда ей податься? При этом Ерема понимал, что мечта эта вздорная, дикая, до ближайшего жилья больше ста верст, да и нет в округе таких девушек, чтобы осмелились в такую глушь пойти, да чтобы еще ему понравились. И все равно мечтал, рисовал в воображении эдакую скромную и прекрасную царевну-лебедь и думал о ней, как только слышал смех. Иногда во сне ее видел, но сказочная девица почему-то походила на немку Гретту или на Лиду Дербеневу, соседку, живущую в Потоскуе.
Лаврентий в тайге поработал мало, ничего этого не испытал, поэтому и прицепился к родителю.
– Я по воле партии промысел оставил. А ты по чьей?
Отец умел держаться при любых обстоятельствах – сказывалась работа в приискательской артели, где мужики были, палец в рот не клади. Поэтому он и поведал среднему сыну, что рассказал особисту историю про якутских шаманов и злых духов, которые выжили его с промыслового участка в Соржинском кряже. Да так убедительно, что Лаврентий даже головой потряс.
– Ты что, бать, правда в духов веришь?
– Посидел бы в тайге, как Ерема, – отпарировал тот. – И посмотрел бы я на тебя. Кто ближе к природе, к тому и духи являются. Они что, в райисполком к тебе пойдут? Туда другие духи ходят…
И перекрестился.
– Нет, оно конечно. – согласился Лаврентий. – Бога нет, но что-то есть такое…
И сам как-то смущенно замолк. Отец поерзал.
– Не знаю, правильно ли… Но я капитану про духов сказал. А он заподозрил, будто духи, это какие-то люди.
– У меня тоже такое впечатление. – согласился Ерема. – Только он впрямую не говорит, все намекает…
– Что ему надо от тебя-то? – уже озабоченно спросил Лаврентий. – Про что хоть речь ведет?
– Да у него не поймешь, что хочет. – отмахнулся Ерема, – Крутит, вертит. То почему я галет ящик взял, сгущенки и шоколаду, то про лампы эти…
Брат глаза вытаращил:
– Ты что, и впрямь шоколаду в тайгу купил?
– Купил, ну и что? Нынче меду-то нету.
– Меду нету. – загоревал отец. – Шесть семей за зиму отошло. Остальные слабые, едва живых выставил. Хорошо, верба раньше зацвела…
– А что за лампы? – спросил Лаврентий.
– К приемнику, хотел радио починить…
– Я же тебе дарил приемник! Новенький…
– Так он не берет на Сорже. Одни помехи ловит…
– Антенну надо поставить.
– Пробовал… Надо мощный приемник. Вот я и хотел собрать, лампы киномеханику заказал…
Отец послушал сыновей, повертел головой, верно, не понимая, о чем они толкуют и вдруг заявил:
– Ерема, женить тебя надо! Хватит жить отшельником. Не то в тайге совсем одичаешь, с ума сойдешь.
Это он на голоса, на свою болезнь намекнул. Или догадывался, что Ереме одному в тайге не сладко. Лаврентий за словом в карман не лез, подхватил со смешком:
– Женишься, будешь не радио слушать, а жену! Без всякой антенны.
– Ты не смейся! – оборвал его отец. – Казаку скоро три десятка, борода до колен, а все без всякой привязи…
– Не хочу я привязываться! – слабо воспротивился Ерема и ощутил жар на лице. – Еще успею…
– Верно, поскребыш! – вдруг поддержал брат. – Под юбкой насидишься. Погуляй, вольный казак…
– Хватит, нагулялся! – отрезал отец. – Не отпущу, пока не женю! Вот вам мое родительское слово.
Ерема еду отодвинул, бороду почесал, попробовал смоляной ошлепок вырвать – не получилось.
– И на ком ты меня женишь? – спросил задиристо.
– Теперь уж и не знаю, на ком. – сокрушенно вздохнул родитель. – Добрые девки давно замуж повыходили. Из армии пришел – первый жених в поселке был. А теперь что от тебя осталось? Одна бородища да глаза дикие… Ну, Дербеневская девка, может и пойдет…
– Да она же придурошная…
– Тебе умную подавай?
– Нет, бать, у Дербеневых лучше не брать. – осторожно заступился Лаврентий. – Ихняя Лидка в каждом классе по два года сидела.
– А кто теперь за него пойдет? – не сдавался отец. – За отшельника дикошарого? Лидка хоть и с придурью, но девка душевная, обходительная. И все про Ерему спрашивает, ждет, когда из тайги выйдет.
– Да какая женитьба? – решительно отмахнулся Ерема. – Не придумывай, батя… Меня вон от чесотки лечат! И когда вылечат – не знаю. Но это судьба такая, наказание мне.
– Наказание? – изумился Лаврентий. – Ишь ты, какой набожный стал!
– Какой я набожный?… Однако в судьбу верю. Если раз сплоховал, характера не проявил, потом обязательно аукнется. Жизнь заставит исправлять, даст мордой об лавку, запустит на новый круг.
– И что, запустила? – съехидничал брат.
– Запустила. – сдержанно признался Ерема. – Особист грозится вообще посадить!
– За что тебя садить-то? – возмутился отец. – Ты у меня всегда самый умный и смирный был…
И почему-то оборвался на полуслове. Зато брат папироску закусил и прищурился.
– А ты ничего не скрываешь? Юлианов не зря прицепился, что-то вызнать хочет.
– Подозревает, для злых духов продукты купил…
– Скажи-ка мне, сынок. – неожиданно встрял отец. – Это правда, что капитан про Германию рассказывает?
Ерема насторожился.
– Что он рассказывает?
– Будто у тебя там баба была, немка.
Лаврентий папиросным дымом захлебнулся.
– Слушай его больше! – огрызнулся Ерема. – Наврали все, оговорили. Ничего не было!
– Ну-ка, ну-ка! – прокашлялся брат. – И помалкивал?
– Что говорить-то?
– Так было или нет?! – застрожился отец. – Была немка?
– Немка была, квартирная хозяйка. – признался Ерема. – Когда увидел, так ее жалко стало. Ходит у ворот, плачет.
Последние слова произнес так, что Лаврентий рассмеялся – не поверил.
– Да ладно темнить-то! Дело прошлое. Ну, ты даешь, поскребыш. А на вид тихоня, интеллигент! Тебя за это и из комсомола турнули?… Всю карьеру себе испортил. Как тебя теперь в партию принимать? Как герой труда годишься, а как лисность?… Биография не проходит.
– На что мне это в тайге?
– Ничего, пригодится! – серьезно заверил брат. – Партия, это путь, это шанс стать большим человеком… Между прочим, я жду назначение в обком.
– Ох, не связывался бы ты с ними, Лаврентий. – простодушно посоветовал Ерема. – Наш дед не зря отказался.
– С кем это – с ними?
– С коммунистами.
– Чьи это ты слова повторяешь, поскребыш? – встревожился брат. – Что несешь? Да, подействовала на тебя Германия.
А отец понял по-своему.
– Он как покойный дед, в тайгу ушел – не выманить. – заключил он. – И жениться не хочет, умную ему подавай… По этой немке сохнешь?
У Еремы от обиды челюсть свело.
– Что вы пристали оба?… Я в прокуратуре оправдывался, в политотделе. Этот особист меня трепал. Теперь и вам доказательства надо? Слову не верите?
– Скрытный ты стал, Ерема. – заявил отец. – Я это заметил, как ты со службы пришел. Людей сторонишься, ничего не рассказываешь.
– Доверия у меня к людям нету. – признался он.
– И к родному отцу? – возмутился Лаврентий. – К брату?
– Я не про вас говорю. А так хочется жить нараспашку…
– Нараспашку, это как? – язвительно вымолвил брат. – Стоять и в небо пялиться? На звезды?
– Да при чем тут звезды? Хотя интересно, когда падают, можно желание загадать…
– Загадал?
– Обычно не успевал, – признался Ерема. – Да и желания были пустяковые. Нынче весной первый раз загадал. Долго звезда летела…
– Ну и что? Сбылось?
Конечно, как старший, Лаврентий имел право говорить с ним прямо и откровенно, однако это не значило – ехидно и уничижительно.
– Сбылось!
– Ерема, ты поскребыш, но ведь не дитя в самом деле! – стал выговаривать брат. – Хватит из себя блаженного корчить. Книжек начитался, что ли? Это в детстве можно небом любоваться, метеориты искать, желания загадывать…
Взаимоотношения с средним братом всегда были напряженными, Это со старшим, Иваном было просто, слушал, как отца, а Лаврентий все старался придавить, уязвить поскребыша с самого детства. И Ерема ловил себя на мысли, что все время старается его задобрить, чтобы избежать насмешек, и всегда вспоминал черное святилище злых духов. Особенно когда после каждого сезона трех вороных соболей дарил – его жене на шапку. Но она все ходила в шалях, утверждая, что теплее и привычнее. На самом деле, Лаврентий шкурки эти передаривал вышестоящему начальству – тоже злых духов задабривал.
– Много хоть насобирал? – продолжал потешаться брат. – Много звезд с неба нахватал?
– Сколько нахватал, все мои. – обидчиво проговорил Ерема и насупился.
– МГБист про твои привычки спрашивал. – вдруг вспомнил отец и насторожился. – Про увлечения… Я про книжки сказал, про звезды. Что ищешь, ходишь…. Может, зря?
Лаврентий прикурил новую папиросу.
– Да это же всем известно!… Не ты бы, так кто-то другой сказал…
– Он аж подскочил. – продолжал рассказывать отец. – И давай пытать, приносил ли Ерема домой эти звезды… Прямо взволновался! Ну, я сказал, камни какие-то находил, в хлеву прятал… А он – пойди и принеси! Покажи!… Говорю ему, да я хлев перебирал, так повыбрасывал. МГБист домой приходил, смотрел… может, он тоже звезды ищет?
– Ага, себе на погоны! – ухмыльнулся брат. – хотя бы майорскую. Сам подумай, на что госбезопасности метеориты? Если бы золотые падали, алмазные…
– Кто знает, у них ведь не поймешь, что в самом деле хотят…
Лаврентий никаких доводов слушать не пожелал.
– Пора Ереме за ум взяться! Перед людьми стыдно, честное слово. Ты же развитый парень, десятилетку окончил, отслужил. Портрет на районной Доске Почета висит! А ведешь себя, как подросток.