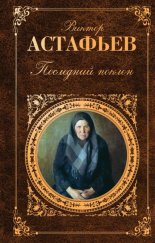Иерусалим Мур Алан
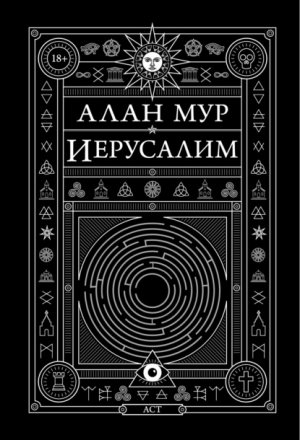
Он отмечал внутренне, что духота наваливается все сильнее, когда возвел глаза и узрел другого перехожего оборванца, поспешавшего навстречу ему, – не такого старика, как Петр, но внешности потешной из-за платья несообразного. На голове его уселась кепка, как перевернутый мешок для пудинга с краем для размазывания, а одеяние пестрило в глаза несходными предметами, словно выброшенными другими, – хотя чего Петр не мог взять в толк, так это их странный вид. Короткая куртка и широкие штаны из легкой ткани, тогда как на ногах незнакомца были маленькие кожаные туфли, скроенные на неизвестный Петру манер, – не виданные даже на лотках дубильщиков у восточных ворот Гамтуна. Столь несусветное убранство нес убогий путник, что монах не мог не улыбнуться при сближении. Хотя в человеке бросались в глаза бледность его и седина, не казался он злодеем, в отличие от возницы на телеге, что вознамерился умыкнуть ребенка несколько мгновений пред ними. Это бедняк, и может статься, на совести его немало проказ, но сердце его доброе, и, когда пути пересеклись, они ухмылялись один другому, хотя никто не мог сказать, то ли из дружелюбия, то ли из-за того, что оба полагали наряд второго смехотворным. Петр поздоровался первым и заговорил:
– Я как раз помышлял, что для гуляний днесь жарковато. Как живешь-поживаешь, честный человече?
Второй тут закинул голову и сузил глаза, прищурившись на Петра, точно бы думая, что тот его дразнит, но наконец уверился в обратном и отвечал доброжелательным тоном:
– Да, кажись, и в самом деле жарковато, а поживаю вроде что ничего. А ты что же? Мешок этот твой на вид та еще тяжесть.
Произнесено это было с плутовским подмигиванием и кивком на джутовый тюк на плече Петра, словно скрывались в нем краденые ценности. Улыбнувшись сей мысли, монах опустил ношу на разбитую колею у их ног. С превеликим облегчением вздохнул и покачал головой:
– Что ты, благослови тебя Боже, нет… а ежели и так, та тяжесть не тянет меня к земле.
Малый поднял одну бровь, точно бы с интересом или ожиданием продолжения речи, отчего Петр решил, что ему выдалась еще одна оказия узнать путь к месту, о котором помыслы его были. Прежде всем сретениям сего дня словно бы радели высшие силы – возможно, и эта их рук дело. Воодушевленный такими соображениями, он открылся и задал вопрос – на который, как думал, не суждено ответить никому, кроме него самого, – указуя при том на сложенный с плеч узелок.
– Мне велено принесть это в центр. Ведомо ль тебе, где он есмь?
Интерес Петра вызвал немало задумчивого мурлыканья и оглаживания губ, когда его новый знакомый заломил чудную кепку, обнажив редеющие волосы, и поглядывал горе то так, то эдак, точно надеялся узреть искомое место в выси небесной. После молчания, когда монах уж было думал разочароваться, Петр взял свой ответ. Странник поворотился от Петра и указал дальше по улице за своею спиною, куда и без того держал путь Петр. Там холм, куда он подымался, становился площе, так что ныне дорога вилась меж жилыми землянками и пастбищами на широкий поперечный проезд, что сбегал с севера на юг и кипел далекими телегами и животными невпроворот. На пересечении дорог возвышался толстый вяз, и к нему-то обращали внимание монаха.
– Если я верно понял, то тебе поворачивать направо у того дерева в конце, – втянув со шмыганьем соплю, мужчина цыркнул, словно бы сказанное подкрепивши. – Спускайся, пока не выйдешь на перекресток внизу. Если покатишь и дальше с холма, увидишь центр налево от тебя через дорогу, всего на полпути вниз.
Радость обуяла Петра и толико же удивление великому Божьему Промыслу и тому, что решение его загадки отыскалось столь легко и ловко. Стало быть, в конце пути от него истребовалось лишь спросить. Он с благодарностью воззрился на нищего в лохмотьях, даровавшего избавление, и только тогда впервой постиг, чем же поистине необычен был сей человек. Оказался он не сер и не блед, как мерещилось Петру на первых порах, но, вернее, бесцветен совершенно – образ, начертанный углем, нежели существо живое и теплокровное. Был он не только лишь бледен, но воде илистой обличьем подобен, так что когда монах пригляделся пытливее, обнаружил, что различает в фигуре ползучие темные пятна, принадлежавшие движению на дороге, пересекающей холм дальше, – словно бедолага сотворен был с тем умыслом, дабы смотреть сквозь него можно было, хотя и смутно. С холодком, напомнившим ручей пота по ноющему хребту, Петр осознал, что любезно беседовал с призраком.
Петр приложил все старания, дабы неожиданный испуг не отразился на лице и нимало не оскорбил того, кто по сию пору находился в расположении самом теплом и доброхотном. Опричь того, монах еще оставался неуверен, с чем именно завел он разговор, хотя не принял встречного за нечистую силу. Возможно, то заблудшая душа – ни благословленная, но и не окаянная, засим пребывающая в ином состоянии в облюбованных местах. Он задался вопросом, обречен ли дух вечно скитаться по земле или же знал дальнейшее направление, будь то рай или противное место, и по сей причине спрашивал, куда тот держит путь.
– Верю, твоя стезя лежит к праведной и богоугодной цели?
Привидение тотчас глянуло виновато, затем лукаво, а в конце концов спокойно. Петр про себя наблюдал, что выражения морока видны насквозь так же, как его тело. Существо несколько помялось вперед того, как дать ответ.
– Я… ну, сейчас я спешу проведать друга, если сказать как на духу. Несчастная живая душа, живет одна-одинешенька на углу улицы Алого Колодца без всяких родных и близких. Теперь спешу откланяться, отче, или как вас лучше звать-величать. Удачно дотащить вещмешок до центра.
На этом привидение прошло мимо Петра и дальше по холму, туда, где Петр только что укоротил стервеца на телеге пред девушкой. Монах стоял на месте и смотрел вслед – дивиться надо было, что за странная воля вела потустороннего оборванца к крофту одинокого фермера у красильного колодца, ибо, судя по речам, другого места в его мыслях быть не могло. С той самой поры как Петр вошел в Гамтун, ни одно из встреченных происшествий не казалось пустым случаем. Напротив, мстилось, что все события уже были расставлены по своим местам и временам, а их стыки и прикрасы давно условлены. Хотя вновь чувствовал он, точно на углу у колодца, что лишь пересматривает читаное повествование, теперь оно смотрелось скорее чертежом на пергаменте из-под руки плотника. Каждый шаг Петра следовал вдоль линий, служивших частью неведомого ему замысла. Блуждающий фантом, что соизволил способствовать в деле монаха, теперь был одаль, и разглядеть его становилось все трудней, так что Петр вновь поднял свое бремя и приноровил на спину, а затем оборотил стопы туда, где рос вяз. От него повернул к югу и зашагал вдоль широкой улицы, где водили табуны коней, – навстречу перепутью в нижнем ее конце, как было указано.
Жеребцы, кобылы и лошата всех мастей стояли вокруг в загонах у дороги или трусцой выходили из них, чтобы месить грязь на грязном косогоре, потому решил он, что здесь свои дела вели заводчики. Купный запах навоза был сладким или подобным фруктовой каше, хотя сладость та не услаждала нос и повсюду шепчущими грозовыми тучами роились черные мухи. От пахучего воздуха и растущей духоты по его ногам и рукам сбегали соленые потоки, а сердце и дыхание стали тяжелее – или так уж ему казалось. Возведя взгляд, он увидел, что облачный покров казался ближе и, хуже того, куда темнее. Петр чаял, что скоро его странствие будет окончено, чтобы скорее отыскать кров и не мыкаться на улице, если прольется дождь.
Перекресток, когда он до него дошел, снова прикинулся знакомым местом, а голова Петра теперь казалась легче, в ушах звенело эхо. При том, сколько он ссал и потел, губы его с самого рассвета не смочила и капля воды. Он стоял на северо-западном углу развилки и смотрел на восток повдоль новой улицы, на кромке коей замер. Тут он лицезрел вид дымный и слепящий и вмиг смекнул, где находится. То был дальний конец улицы с кузнями, чье начало он видел этим утром, когда только что прибыл и поднялся с моста. Ежели поблизости воистину находится центр Англии, тогда сколь же часов назад он был в считаных шагах от цели? А впрочем, приди он к нему сразу, не повидать ему ни древний храм на овечьей тропе, ни кровавый колодец, ни оказаться бы поблизости, чтобы уберечь дитя от зла. Он не сводил очей, точно умалишенный, с искрящейся и тлеющей улицы, и поражался тому, куда его завела судьба.
Петр видел перепачканных сажей мужчин, работавших с жидким золотом, и стариков, почти ослепших от своих лет, согбенных над серебряными украшениями. Мужчина размерами с карлу стоял, раздувая щеки и вытянув губы, сомкнув их на длинной трубе или горне, где с другого конца надувался пузырь, словно мыльный, но весь горящий, и Петр признал в растущем пузыре раскаленное стекло. Он видел улыбающихся купцов с глазами ярче, чем самоцветы в их калитах, которые они проливали сверкающими каплями на подставленную разверстую ладонь. Он видел богатства мира с пылу с жару из печи, и знал, что все эти чудеса не годятся в сравнение жемчужине в его джутовом мешке.
Петр отвернулся в противную сторону и всмотрелся на запад, вдоль улицы, куда теперь люди вели множество лошадей с холма за его спиною. На немалом расстоянии на своей стороне Петр завидел возвышенную над другими соломенную крышу и понял, что это тот дом общин, чей зад он успел повидать от удушающего двора торговца мелом. Противу дома общин над вершинами крыш виделась церковная башня. Быть может, великий зал под соломой и был тем поместьем, о котором он наслышан, где жил наместник и кровник Оффы, построивший на своей земле церковь. Добрая женщина, говорившая с ним на верхнем конце улицы золотарей, утверждала, что здесь есть церковь Святого Петра, – он верил, что теперь она и предстала его глазам.
Спускайся, пока не выйдешь на перекресток внизу, так велел ему призрак, затем двигайся прямо, где по левую руку, на другой стороне улицы, ежели все делать правильно, и будет поджидать место, что он искал. Все еще с колотящимся сердцем и в угасающем свете из-за дождевых туч, сбирающихся в небесах, Петр с заминками перебирался через оживленный прогон, избегая колес гремучих телег, покамест не оказался невредимым на другой стороне. С этой новой точки он с тревогой глянул вниз, на восток, – не подскажет ли какой знак, что там-де лежит центр, о котором сказала душа-бродяга. Но не было там ничего, опричь новых пастбищ и забранного оградой двора, откуда лязг оглашал всем, что он принадлежит ковалю, – хотя даже тот двор не стоял и близко к середине уклона, где, по уверениям, быть центру. С пускающим корни волнением Петр начал спуск, пока усталые глаза с ожиданием бегали по землям на соседней стороне.
Двор коваля, как он и думал, был ближе к подножию, тогда как у перекрестка в другом конце, на углу с улицей золотарей, стояла вторая кузница. Меж ними и их черными печами ничего не было, кроме пустой и неухоженной луговины, а теперь на щеке Петр почувствовал первую каплю дождя, жирную и холодную.
Дошед, как ему казалось, до средины спускающейся дороги, он стал на ее краю, и взглянул чрез нее на одни только заросли. Гром в груди становился сильнее, и Петр знал, что прибывал сюда уже один, другой или еще множество раз, чтоб не обрести ничего. Он вечно находился в потоке прибытия и обреченного поиска. Ничего, лишь только всадники и их кони сновали по широкой дороге под дождем, что лил все тяжелее. Ничего, лишь только человек слонялся без дела у двора кузнеца на углу пересечения с улицей мастеров золотых дел. Ничего, лишь только чертополох, дерево и голая земля там, где думал он найти престол души всей своей земли. Не ведал он, что сбегало по лицу его – слезы, пот иль дождь, – когда запрокинул лицо безнадежно к мрачному небу и вопрошал вновь то, что вопрошал на другом перепутье, но теперь голос его звучал зло, устало, словно Петру было едино, будет услышан он или нет.
– Это ли центр?
И в тот же миг все остановилось. Эхо в ушах его стало каким-то гулом, словно бы само замершее мгновение звенело и пело драгоценностями обстоятельств, из коих сложено было. Дождь неподвижно замер или падал совсем медленно, а жидкость его была сродни несметным опаловым камням и застыла повсюду в воздухе, и каждая щетинка на конских шкурах стала пылающей латунной нитью. Даже навоз излучал сияние, яко был великой наградой всей земли и даром полям, а мухи, облепившие его, всплеснули крылами-витражами, яко из окон великих церквей. На пустыре за пресеченным самоцветным селем улицы, промеж сорняков, возгоревших изумрудным пламенем, стоял человек, весь в белом, и в руке держал он полированный жезл, из светлого дерева выточенный. Волосы его молоку были подобны, как и риза его, и так он стоял, словно маяк сей сцены, будучи источником всего света, нарисовав изящный блеск в глазах всякого существа. Его добрые очи встретились с очами монаха, и Петр узнал в нем друга, что явился в Палестине, вверил задание и отправил в путь-дорогу. Альфа странствия стала его же омегой, а слышал Петр теперь лишь рев, биению великих крыл подобный, в котором Петр признал собственный убыстренный пульс. Сим оглашался ответ на его вопрос.
За волшбой всепокоя, заворожившей улицу, горящий силуэт в ликовании воздел руци горе, и с каждой стороны его раскрылось яркое и ослепительное крылие. Раздался могучий глас, восторженно вещаяй, аки середь кряжей великих, от коих отразился тысячекратно. То была речь чужестранная, кою Петру однажды довелось уже слышать, со словами, что лопались, точно выросшие на разуме мухоморы, сея новые идеи спорами по ветру.
– Дйааэстть.
Да! Да! Да, это я! Да, я есть! Да, здесь, на сем месте достатка да будет установлен крестом центр. Да, здесь исход твоей стези, которую мы с тобой пространствовали вместе. Да, да, да, до самых стен и пределов сути – да!
Теперь существо вскинуло закругленный жезл, словно указуя на Петра. Длинный и бледный, как если бы из сосны выточенный, – он увидал, что ближний конец его заострен, а набалдашник изукрашен голубым цветом васильков. Монах был сбит с толку, не зная, почему стал предметом для указания, затем узрел, что не на него пал конец посоха, а куда-то позади него. И обернулся он, и стоило ему сделать так, как чары спали. Грохот в ушах не улегся, однако мир вновь пришел в движение, и дождь сыпал споро там, где только что еле полз.
Позади, меж денниками и владением очередного коваля, Петр увидал каменную стену, где из трещин росли фиалки, а в ней – приоткрытый створ калитки деревянной с железной отделкой. За нею Петр увидал поляну с распухшими могилами и встающими из почвы надгробиями, а за ними – смиренное здание, сложенное из серого и щербатого камня, где подле стояли в мирной беседе два монаха. Он пришел к церкви. Женщина, носившая камень Тора и давшая ему советы, обмолвилась ранее, что есть другая церковь – ближе, чем церковь Святого Петра, – святому Григорию посвященная. Левая рука, в которой лежал мешок, уже ныла, и он переложил вес в правую, но не унялась боль. Точно громом пораженный, он ступил на двор в калитку церкви, чуть дальше от него по дороге, чрез обложной дождь, уже переросший в ливень. Священники прервали беседу и увидали его, и пошли к нему – сперва медленно, затем скоро, – с написанной на лицах тревогой. Петр повергся на колени, но не в благодарной молитве за избавление, а оттого, что его уж не держали ноги.
Два брата, что пришли к нему, принимали в нем участие и уводили с ненастья, как могли, но то были молодые и щуплые мужи, для них он оказался непомерно грузен. В споруке своей они сумели лишь опустить его на спину для удобства, к выпирающей стороне могилы голову прислонивши. Присели над ним, рясы расправивши, словно надеялись уберечь от дождя, хотя лишь стали похожи на воронов, а старание их было тщетно. Над ними Петр видал подбрюшье закипающей бури – точно темные жемчужины, что кипели и бурлили, и становились переливчатым и фантастическим потоком ряби.
В этот миг все озарилось, и затем загрохотал страшный гром, и монахи вскрикнули и торопились пытать его расспросами, вызнаваючи, откуда он и что привело его. Снова молнии выжимали небо досуха вспышками, и Петр воздел руку – но не левую, что онемела, – и указал на свою суму на мокрой траве.
Когда его поняли, то раздвинули джутовую горловину и достали то, что хранилось внутри, на ветер и ливень. Он был в полторы человеческих ладони вширь и ввысь, грубо выбитый из буроватого камня, так что человеку было не под силу поднять его одной рукой. С углов и граней скатывался серебрящий дождь, и теперь священники пребыли равно в недоумении и изумлении.
– Что сие такое, брат? Можешь сказать, где нашел ты сие?
Петр заговорил, но речь далась тяжело, и, по лицам судя, слова его принимали за лепет горячки. Они услыхали, что сей человек странствовал за моря и был у места черепов, где и нашел это закопанное сокровище. Когда он извлек камень на свет, ему словно привиделся ангел, промолвивший, что шественнику должно взять реликвию и доставить в центр своей земли. Им показалось, тот утверждал, будто теперь вновь видел ангела, и ангел заверил, что их маленькая церковка и есть назначение пилигрима. Многое из речей несчастного затерялось в рокоте небес, и тогда они наконец взмолились, чтобы отвечал он, из какого края явился, где то место черепов и где земля родила святыни.
Их голоса слились с наполнявшим его всемогущим трепетом, точно долетали издалека, и он едва их слышал. Петр умирал. Не увидеть ему Медешемстеда, и теперь он твердо знал это. Над головой вздымающиеся валы сырого неба стали черным восточным шелком, в растрескавшуюся сложносочиненную фигуру смятым, разломами и ползущими расщелинами изборожденную. Теперь видел он то, чего не видел раньше: что облака столь гротескных форм оттого, что их подоткнули в себя и хитро сложили. Теперь он видел, что сколь скоро они развернутся, как обретут тотчас более обычную, но и более сложную форму, не покоряющуюся человеческому взгляду. Он не мог взять в ум, ни что означает эта странная мысль, ни откуда явлено ощущение, но мнилось Петру, что все годы скитаний были ничем, кроме как единственным коротким шагом, который он завершил только что.
Ему казалось, что в последние мгновения он сомкнул глаза, однако все же видел – быть может, лишь грезы иль воспоминания, под трепетными веждами кроющиеся. Он возвел взгляд на присевших над ним перепуганных братьев и церковку за ними. Благодаря новообретенному пониманию клокочущей, неистовой тверди впервые он увидал, что углы здания сделано мудрено, что их возможно развернуть многоумным образом, отчего их внутренности окажутся вовне. То, что раньше принимал он за резьбу на карнизах церкви, людьми теперь предстало, маленькими, как водяной гнус, – однако знал он, что они столь же велики, как он сам, только полагаются вельми далеко. Они махали и тянулись к нему, эти коротыши. Ему казалось, что он знал их всегда. Больше Петр не видел монахов по сторонам себя, хотя слышал, как они говорили с ним, снова и снова спрашивали, откуда же он явился, принес сей совершенный знак.
Последнее слово, слетевшее с уст его, было «Иерусалим».
Новые времена
Сэр Френсис Дрейк привалился к стене с афишами у Дворца Варьете и примостил маслянистый родничок к гигантским именам красных и черных цветов. Согласно карманным часам, ему оставалось еще добрых минут тридцать, прежде чем придется замалевать лицо горелой пробкой для роли Пьяницы. До того момента он мог позволить себе побездельничать на углу и понаблюдать за телегами, велосипедами и юбками – быть может, с «Вудбайном» за компанию.
Прозвали его сэром Френсисом Дрейком в ламбетской школе, когда он был шестилетним мальчишкой. Мать как раз начинала скатываться в нищету, и ему приходилось носить ее красные сценические колготки, подрезанные, чтобы казаться чулками, хотя все равно ими не казались из-за плиссе и ярко-алого цвета, от которых и пошло прозвище. Во многом, если подумать, он еще легко отделался. Сидни, его старшему брату – или «старшо му», как звали братьев в Ханвелльской школе для бедных, – достался блейзер, ранее – бархатный жакет их матери, с рукавами в красно-черную полоску. Десятилетний и потому куда более застенчивый, чем младшенький, Сидни ославился под именем «Иосиф и его разноцветный плащ снов».
Стоя на перекрестке оживленных улиц, он поймал себя на том, что посмеивается над прозвищами, – по крайней мере, над прозвищем Сидни, – хотя в то время они смешными вовсе не казались. Все еще улыбаясь, он утешил себя мыслью, что Френсис Дрейк хотя бы слыл красавцем и лихим героем, тогда как Иосифа бросили в яму и оставили умирать братья, возмущенные его вкусом в моде. Так или иначе, сэр Френсис Дрейк – получше других прозвищ, которые он носил за годы и которые приставали надолго. Одно из них – Оатси, или же Овсень: просто рифмующийся сленг кокни, соединение овса и ячменя. Он это прозвище терпел, но восторгов не испытывал. Всегда казалось, что с ним он как деревенский дурачок, а вовсе не таким он желал представать перед людьми.
Направляясь на холм, к его углу подъехала пивная подвода в ливрее «Фиппс» – фыркающий тяжеловоз в яблоках с мохнатыми копытами размером с подносы, волокущий звенящую и гремящую телегу и вставший на перекрестке прямо перед ним. Побитая откидная доска на цепи удерживала на месте груз: старые ящики из сырого дерева, припорошенного зеленью из-за плесени, что выставлялись пустыми у пабов и в дождь, и в зной, чтобы их снова набили коричневым и поблескивающим содержимым и отвезли к очередной харчевне, очередному ветреному углу брусчатого двора пивной. Телега замедлилась у перекрестка в ожидании, пока поперек проедут неторопливый фургон и мальчуган на велосипеде, прежде чем тронуть дальше на холм. А сэр Френсис Дрейк, прислонившись к плакатам и разглядывая телегу, решил в шутку на миг войти в роль Пьяницы.
Он задрал глаза, приспустив веки, чтобы казаться полусонным, а рожу скривил в кривобокой ухмылке. Лицо пошло такими морщинами, что даже без пробки он казался лет на десять старше своего настоящего возраста – двадцати лет. Глубоко заклокотав горлом в нечленораздельном желании, он приковал мутный алчущий взгляд к фургону пивовара и пустился в вихляющий, но уверенный шаг забулдыги в его сторону, словно отчаянно пытался изобразить повседневную походку, но ноги едва слушались. Он скатился на три шага в сторону, вниз по склону, но оправился и снова нашел прищуром свою цель, соскочив с тротуара на почти пустую мощеную дорогу и приближаясь к пивовозу на проивоположной стороне. Протянув руки как будто к позвякивающим бутылкам, он промямлил: «Кажись, я в раю», – вслед за чем перепуганный возничий оглянулся и тут же принялся понукать лошадь, заворачивая за хвост еще не освободившего улицу фургона, и зазвенел вверх по холму так быстро, как только позволял транспорт. Вернувшись небрежным шагом через проезд обратно к своему посту у угловой стены, Овсень смотрел телеге вслед и испытывал в равных долях гордость за успех своего номера и стыд – по той же самой причине. Слишком хорошо ему давались пропойцы.
Конечно, всеми этими пропойцами был его отец. Чарльз, в честь которого и назвали Овсеня, помер от водянки десять лет назад, в 1899-м. Четыре галлона. Вот сколько жидкости откачали из колена его отца, и вот почему чем лучше удавался Пьяница, тем виноватее Овсень себя чувствовал. Он наблюдал, как лучи сентябрьского солнца косо падают на старые грязные здания Нортгемптона, сгорбившиеся на углах перекрестка, превращая кирпичную кладку с коростой сажи в рыжее пламя, и вспоминал последний раз, когда разговаривал с папой. Это было в пабе, отметил он без большого удивления. «Три жеребца», верно? На Кеннингтонской дороге? «Жеребцы», «Рога», «Кружка», где-то там. Примерно в тот же час – конец дня или начало вечера, по возвращении домой на Террасу Паунэлл, где они жили с Сидни и матерью. Проходя мимо паба, он вдруг ощутил необъяснимый порыв толкнуть болтающиеся двери и заглянуть внутрь.
Отец сидел сам-один в углу, и через щель приоткрытой на пару дюймов барной двери Овсень удостоился редкого шанса невидимым наблюдать за человеком, который его породил. Зрелище было жуткое. Чарльз-старший сидел на протертом диванчике и покачивал короткий стакан портвейна. Одна рука лежала за бортом пиджака, словно чтобы держать под контролем рваное дыхание, так что он по-прежнему смахивал на Наполеона, как всегда говорила мать, но опухшего, словно надутого велосипедным насосом. Раньше у него был лоснящийся, отъевшийся вид, но теперь он превратился в огромный булькающий бурдюк с водой, в котором захлебнулась и утонула былая обаятельность. Однажды он мог похвастаться гладким овальным лицом, как у Сидни, хотя отцом Сидни был совершенно другой мужчина, какой-то лорд-путешественник – по крайней мере, если верить уезжавшей за ним в Африку матери. Но даже при этом брат все равно больше походил на Чарльза-старшего, чем Чарльз-младший, – последний напоминал их мать, с ее темными кудрями и красивыми выразительными глазами. Глаза отца тем днем в «Трех жеребцах» глубоко запали в поднявшееся тесто лица, но они осветились – Овсень даже не сразу поверил – радостью, когда опустились на мальчонку, подглядывавшего через полуоткрытую дверь и ленивые волны дыма, висевшего между ними в воздухе.
Даже сейчас, в нижнем конце – как ее – Золотой улицы, у гиблого зала Нортгемптона, в ходе очередного разочаровывающего тура с «Ряжеными пташками» Карно, даже сегодня Овсень чувствовал волнение из-за того, как же ему обрадовался отец в тот последний раз. Господь знает, до того он не выказывал интереса к сыну, и Чарльзу-младшему исполнилось уже четыре года, когда он впервые осознал, что у него вообще есть отец. Но тем вечером в «Жеребцах» некогда сногсшибательный актер водевилей рассыпался в улыбках и добрых словах, расспрашивал о Сидни и матери, даже взял десятилетнего отпрыска на руки и – в первый и последний раз – поцеловал его. Уже через несколько недель старик умирал в больнице Святого Фомы, где этот чертов евангелист Макнил в качестве утешения предложил только «что посеешь, то и пожнешь», бессердечный ублюдок с песьей рожей. «Старик». Чарльз-младший горько усмехнулся и покачал головой. Его отцу было тридцать семь, когда он лежал в белом атласном ящике на Тутингском кладбище, с бледным лицом, обрамленным маргаритками, которые Луиза, его содержанка, выложила вдоль края гроба.
Возможно, отец знал, что там, в чаду и бубнеже «Трех жеребцов», держит своего сына в последний раз. Возможно, так или иначе это чувствуется заранее, словно все уже решено – каким будет твой конец. Овсень поднял взгляд на пестрое облачко птиц, нырнувших, взметнувшихся и рассеявшихся серым пламенем на фоне заката, порхая над местными тавернами и скобяными лавками перед возвращением в гнезда, и подумал: какая жалость, что нельзя наперед знать, как повернется твоя жизнь, и даже бог с ней, со смертью. В настоящем для него все может пойти как угодно, и фишки лягут так же непредсказуемо и случайно, как движения этих голубей. Если не повезет, его будет мотать по северным городишкам, пока он не сдуется, а все его мечты не окажутся всего лишь горячим воздухом. И тогда остается только воплотить мрачное предсказание матери, которое он слышал всякий раз, когда возвращался домой, дыша перегаром: «Закончишь свои дни в канаве, как твой отец». Скажем так, он знал, что стоит на перепутье во многих смыслах.
Теперь, когда город возвращался с работы на чай, по перекрестку торопилось больше телег с фургонами и больше пешеходов. Женщины с колясками и мужчины с вещмешками, шумные мальчики, увлеченные жестокой и болезненной игрой в кулачки в ожидании начала сезона каштанов [23],– все спешили по улицам, ведущим на все четыре стороны света, и переходили их пересечения, трусцой танцуя между угольными повозками, атоллами из лошадиного дерьма и – как раз сейчас – красным трамваем с рекламой перчаток «Аднитт» спереди. Трамвай появился с запада с надутым, проседающим солнцем позади него, и продолжал путь по железным рельсам направо от себя, чтобы гудеть вдаль по Золотой улице. Да уж, Овсень жил в новом мире, да только не всегда чувствовал, что он здесь на своем месте – в первые годы нового и ошеломительного века. Ему казалось, многие нервничали и чувствовали себя не в своей тарелке и что оптимистичные новые эдвардианцы существуют только в газетах. Оглядишься на прохожих – и по их лицам и одежде и не скажешь, что королева умерла восемь лет назад; впрочем, когда все вокруг бедные, они обычно выглядят одинаково в любую эпоху или правление. Бедность вечна, на нее можно положиться. Никогда не выходит из моды.
И никогда не выйдет – только не в Англии. Только вспомните дело с так называемым народным бюджетом, когда предлагали взять деньги из подоходных налогов и потратить на улучшения в обществе, а потом Палата лордов взяла и зарубила его. Их бы самих кто-нибудь зарубил, думал Овсень, копаясь в пиджаке в поисках сигарет. Англия катилась под горку, и он сомневался, что двадцатый век обойдется со страной так же ласково, как девятнадцатый. Для начала – немцы с их жуткими заявлениями и жуткими кораблями. В прошлом году они похвалялись, сколько произвели аммиака, а теперь так же хвалятся бомбами. Затем Индия, ропщет и требует реформ. Не то чтобы он винил индусов – только думал, что это знак и что в ближайшие годы в школьных атласах будет меньше розовых областей. Британская империя находилась в упадке, даже если это кажется немыслимым. На его взгляд, она уже умерла вместе с Викторией, а теперь лишь вошла в долгий медленный процесс смирения со своей кончиной, процесс тихого распада.
Задумавшись о старых временах, глядя, как мусорщик костерит сынишку бакалейщика, проскочившего на велосипеде перед лошадью и повозкой, он вспомнил первый раз, когда приехал в Нортгемптон. Ему стукнуло девять, значит, когда это было, в 1898-м? Достав из кармана пачку с десятком «Вудбайнов Уиллса», он извлек одну сигаретку из оставшихся шести и уложил на нижнюю губу, возвращая узкую упаковку в куртку. Тогда он выступал в том же самом театре, больше десяти лет назад, с труппой мистера Джексона из детей-чечеточников – «Восемь ланкаширских мальцов». Он стоял на этом самом углу с лучшим другом из труппы, Бойси Бристолем, и обсуждал двойной номер, который их прославит, – Миллионеры-бродяжки с фальшивыми усищами и большущими бриллиантами в кольцах. Тогда это место звалось Большой зал варьете, а управлял им еще Гас Левайн, но в остальном ничем не отличалось. И вот они вдвоем, Бойси и Овсень, сбегали с репетиций, чтобы убить время на этом пятачке и помечтать о славе и богатствах, что так и лежали у их ног, – так же, как сбежал сегодня он, столько лет спустя. Наперекор ощущению, что отец знал, как скоро умрет, теперь ему больше казалось, что люди только безнадежно гадают, что их ждет за поворотом. Хотя он не мог говорить за Бойси Бристоля, которого не видел уже пять лет, на свой счет он точно был уверен: какие бы новые роли ни таило будущее, Миллионера-бродяжки в их числе нет. Овсень достал из другого кармана коробок спичек, повернулся в сторону и поднял лацкан от ветра, раскуривая сигаретку.
Выпустил синий дым, и западный ветерок подхватил его и потащил за плечо, наверх по Золотой улице. Теперь Овсень смотрел на небольшой пустырь ниже по холму, через дорогу, и отвлеченно вспоминал «Восемь ланкаширских мальцов» – четверо из них родились не в Ланкашире, а один вовсе был короткостриженой девчонкой, но их и впрямь было восемь. Именно здесь они повстречали черного человека – первого, которого он видел в жизни, не считая картинок в энциклопедиях.
Они с Бойси околачивались тут, обсуждали логистику двойного номера, думая, что кольца с бриллиантами придется делать из пластилина, пока те, в свой черед, не сделают ребят миллионерами, как вдруг вниз по холму скатился он на своем смешном велосипеде, через перекресток им навстречу. Кожа у малого была черна как уголь, а не какого-то оттенка коричневого, а волосы и бороду уже припорошило сольцой, так что мальчишки решили, что ему под пятьдесят. Он ехал на прелюбопытном устройстве, которого ни один из них еще не встречал. Это был велосипед с привязанной сзади двухколесной тележкой, но больше всего в глаза бросались шины, две на самой машине и две на повозке позади. Они были из веревок. Железные ободья были обмотаны той же некогда белой бечевой, что тащила прицеп, но уже побывавшей в стольких лужах с сажей, что стала ненамного ярче самого наездника.
Негр, увидев, как мальчишки уставились на него, пока он катил через перекресток, улыбнулся и остановил велосипед с тележкой у тротуара чуть ниже по холму. Сделал он это с помощью деревянных брусочков, привязанных к стопам: снял ноги с педалей, чтобы они свесились и скребыхали по булыжной мостовой, пока таким манером транспорт не замер на месте. Водитель оглянулся через плечо, ухмыляясь двум мальчишкам, которые так беззастенчиво его разглядывали, и дружелюбно их окликнул:
– Надьеюсь, вы, малечышки, вэдете себья карашо!
Какой же чудной у него был голос, ничего подобного они еще не слышали. Они сбежали к нему по холму и рассказали, что ждут своей очереди выступать чечеточниками, что было почти правдой, а потом спросили, откуда он. Сейчас бы Овсень постеснялся спросить это у черного прямо, но в детстве ты просто говоришь все, что думаешь. У мужчины были черная кожа и заморский акцент. Вполне естественно, что они спросили, откуда он, и отреагировал он тоже естественно, без всяких обид. Рассказал, что родом из Америки.
Конечно, после этого мальчишки ударились в расспросы об индейцах и ковбоях, и правда ли дома в городах такие высоченные, как рассказывают. Он рассмеялся и сказал, что Нью-Йорк «бальшой-бальшой», хотя, оглядываясь назад, не сказать, чтобы его собственные корни впечатляли хотя бы вполовину так же, как мальчиков. Он рассказал, что уже живет в Нортгемптоне около года, «на Алом Калодэце», что бы это ни значило, а поболтав еще немного, объявил, что ему пора возвращаться к работе. Подмигнул и велел вести себя хорошо, потом поднял деревянные бруски с земли и покатился по склону туда, где на фоне неба стоял стоймя вычурный серый барабан газгольдера. Когда он уехал, они долго еще фантазировали об Америке, а потом изображали акцент, с которым говорил черный, и Бойси хватался за живот от его пародии. Потом они опять вернулись к своим золотым мечтам о Миллионерах-бродяжках, и с того дня Овсень больше ни разу не задумывался об этой удивительной встрече.
Он сделал такую затяжку «Вуди», что больше была похожа на глоток, затем выдул дым через нос – это он подсмотрел у других и считал очень стильным. Теперь по перекрестку сновало немало народу, как на колесах, так и на ногах, а он перебирал в памяти, что еще мог позабыть из тех времен. Явно не миссис Джексон с лицом-черепом, жену бывшего учителя из Ланкастера, организовавшего театральную компанию, которая кормила младенца грудью, наблюдая за репетициями танцевальной труппы. Уж этот вид он будет помнить, даже если доживет до ста. Если задуматься, хватало немало случаев вроде встречи с тем негром, которые он позабыл ненароком, но не меньше всего он позабыл, так сказать, нароком.
Не то чтобы он стыдился своих корней, но во многом его ремесло зависело от видимости. Придется следить за тем, как подавать события, если он все же чего-нибудь добьется. Выйти из бедноты – это еще неплохо: все любят истории «из грязи в князи». Но вот «грязь» – ее надо представить правильным образом, приукрасить и сделать презентабельной, закрасив всякие гадкие подробности. Никто бы и слезинки не пролил по Малышке Нелл, если бы она умерла при родах или от сифилиса. Публику привлекают печаль и сантименты, так называемый колорит бедных классов, но привкус нищеты не нравится никому. Пьяница будет идти на ура, только пока висит на фонаре в обнимку и беседует с ним, как с закадычным приятелем. Номер заканчивается куда раньше, чем Пьяница обосрет штаны или вернется домой и отправит жену в больницу, выпоров ремнем так, что она не сможет ходить.
Вот еще момент, от которого нужно избавляться, если хочешь представить свою историю бедности в правильном свете, – всякие драки и избиения. Если в какой-то неопределенный момент неопределенного будущего его попросят углубиться в воспоминания, поделиться чем-нибудь для журнала о театре, то он с превеликим удовольствием расскажет о «Ряженых пташках», расскажет о «Футбольном матче», где появлялся с Гарри Уэлдоном, и даже о «Восьми ланкаширских мальцах» расскажет. Но годы, когда они с Сидни были шутами и талисманами Пацанов из Элефанта, – они не заслужат упоминания. Ни паршивого словечка.
Внезапный порыв ветра с западной стороны перекрестка сдул сигаретный дым в глаза, так что на секунду они заслезились, и Овсень словно ослеп. Он переждал, затем утерся рукавом, надеясь, что прохожие не подумают, будто он плачет; что к нему так и не пришла девушка или еще что.
Когда он рос, в Лондоне, куда ни плюнь, везде были банды. Вступать в них было необязательно, а если хотелось держаться подальше от неприятностей, то лучше об этом и не думать, но все же надо отдать должное и преимуществам дружбы с бандой и стараний ошиваться на ее краю. Если выбрать шайку, заслужившую репутацию пострашнее, тогда, если повезет, другие банды постараются с тобой руки не распускать. Во всем городе и боро не было никого страшнее мальчишек из Элефант и Касла, потому Чарльз с Сидни и задружились с ними.
К этому возрасту они со старшим братом умели и петь, и танцевать, и по очереди устраивали представления на улицах ради пенни-другого, когда их матери не везло с заработком, что случалось часто. Пацаны из Элефант, которые, не моргнув глазом, увечили или грабили взрослых мужиков, остались от него с Сидни под впечатлением, прозорливо заметив очевидный сценический талант братьев. На них смотрели как на дрессированных мартышек, либо как на средство заработать пару медяков, если мелел общак, или поднять мораль до и после какой-нибудь кровавой стрелки с соперничающей подростковой бандой, например Кирпичниками из Уолворта и прочими. Специальностью Овсеня было впихнуть ноги в ручки крышек от уличных урн, а затем отбивать чечетку на металлических решетках с оглушающим грохотом. Он буквально прогремел со своей Чечеткой Овсеня. На самом деле, если подумать, именно Пацаны из Элефанта первые прозвали его Овсенем.
Кошмар во плоти. Он отбивал свою Чечетку Овсеня, а Сидни вступал на ложках, гребне или бумаге – да всем, что попадалось под руку, пока самые здоровые мордовороты банды, сидя на тротуаре, скрупулезно затачивали крюки рыночных грузчиков и свистели или хлопали, если думали, что они со Стечкой выступают особенно хорошо. Стечкой – или Стейки – называли в те дни его брата, в честь стейка и почек. И вот они на пару, Стечка и Овсень, прятались за углом, наблюдая за стычкой или побоищем, а потом выходили на победный танец с лицами, побелевшими от всего увиденного – мальчишки, бегущие домой с болтающимся на нитке ухом, вопящий паренек четырнадцати лет со струящейся по ногам кровью от крюка, подцепившего за задницу, – и все мысли Чарльза были только об этом, пока он топал по железным стокам с крышками помоек на стопах, поднимая тарарам, как на Судный день, высекая горячие искры лязгающим металлом до самых голых коленей. И сколько ему было, лет семь-восемь?
Если он чему-то после всего этого и научился, так это что не выносит мысли о боли, о том, чтобы с его телом и особенно лицом сделали что-то страшное. Только на них и оставалось надеяться, только они и могли вытащить из этой гнусности и заработать на хлеб с маслом. Случись что с ними, тут и конец всему. Ему. Однажды он стоял и смотрел, сгорая от стыда, как Сидни лупил старший член банды, которого раздосадовали какие-то слова Сида. Овсень знал – и Сидни позже его заверил, – что ничем не мог помочь, и все же чувствовал себя последним трусом. Можно было хотя бы что-то сказать – но так он лишь стал бы следующим, и потому просто стоял и смотрел, как Стечке рассекают щеку. Если – хоть в это и трудно поверить – он когда-нибудь напишет мемуары, ничего из этого в них не просочится.
Споры или свары – это еще куда ни шло, но он пойдет на все, чтобы избежать драки. Шоумены постарше, с которыми он терся в одном цеху, говорили, что дела между Англией и Германией совсем разладились, рано или поздно быть войне. В следующем апреле ему исполнится всего двадцать один, и, как поется в песенке, «двадцать один бывает только раз, все двери открываются тотчас», но вот начнись что – а он как раз призывного возраста. Идти в армию ему нисколько не улыбалось, и он еще надеялся, что если и когда что-то начнется, то найдется какой-то способ отлежаться в безопасности в другой стране. Ранее в этом году его на месяц ангажировали играть в Folies Bergre у Карно, и ему так понравилось, что даже не тянуло возвращаться домой. Там он повидал больше красавиц, чем мог мечтать, а это что-то говорило о его мечтах. Там он повстречал мсье Дебюсси, композитора, и единственный раз в жизни по-настоящему подрался с бойцом Эрни Стоуном у того в гостиничном номере, перебрав абсента. Конечно, Стоун победил, но и Овсень был не лыком шит, и сдался только тогда, когда боксер легкого веса заехал ему по зубам так, что он уж думал, совсем останется без них. После такого возвращение к старым номерам «Ряженых пташек» и гастролям по мрачным северным городишкам оказалось настоящим разочарованием, и он надеялся, что уже скоро вернется за границу – и лучше не в каске призывника. Карно все болтал об Америке, но Фред Карно много о чем болтал, а плоды его разговоры приносили редко. Овсень скрестил пальцы и верил в лучшее.
Он легко затянулся еще пару раз, потом бросил окурок и раздавил ботинком, прежде чем пнуть с тротуара. Канавы полнились пустыми пачками – «Вудбайнами», «Пассинг клаудс» – и неаппетитным салатом опавших листьев. Пришлось поозираться, прежде чем он нашел деревья, с которых, очевидно, налетели эти листья, – некоторые стояли дальше на запад от перекрестка, так что виднелись только кроны, золотые в заходящем солнце. Приглядевшись, он заметил и молодые деревца, растущие из пары ближайших дымоходов, пустив корни в грязную кладку, – например, на крыше питейного заведения через улицу, «Вороне и Подкове». Заметив знак, прикрученный на противоположном углу и почти нечитаемый из-за сажи и ржавчины, он узнал, что стоит на Подковной улице – это объясняло хотя бы вторую половину названия паба. А если деревья, верхушки которых он заметил вдали, росли на кладбище, то это, пожалуй, объясняло и первую. Он представил пухлых падальщиков, рассевшихся и каркающих на надгробиях, чьи имена поросли мхом, и тут же пожалел об этом.
В конце концов, ему всего лишь двадцать. Еще долго не придется думать о мрачном – хотя в Бурской войне убивали ребят и куда моложе. Да что там, в Ламбете некоторые мальцы не дожили и до десятого дня рождения. Ему бы хотелось поверить в Бога так же, как той ночью в подвале на Оукли-стрит, где он выздоравливал от лихорадки, пока мать на разные лады исполняла самые драматичные сцены из Нового Завета, чтобы занять его мысли. Она вложила в игру весь талант из сценической карьеры, брошенной только недавно, и даже перестаралась – он в итоге надеялся, что у его болезни случится рецидив и он умрет, чтобы встретиться с этим самым Иисусом, о котором столько рассказывают. Она пропускала притчи через себя с такой страстью, что он ни на миг не сомневался в их правдивости. Впрочем, это все было до того, как они вместе с ней и братом прошли работный дом, и до того, как ее ненадолго положили в психиатрическую лечебницу. Сегодня он уже не был так уверен в рае, который ему расписывали той ночью в красках столь живо, что не терпелось к нему прикоснуться.
Но теперь он в целом занизил ожидания, и если и думал о том, что его ждет после смерти, то только с той точки зрения, как его запомнят и скоро ли забудут. Ему хотелось, чтобы его имя осталось жить – и не просто имя завсегдатая пабов Уолворта и Ламбета, чего посмертно заслужил его отец. Ему хотелось, чтобы после смерти о нем хорошо думали и отзывались, как о ком-нибудь вроде Фреда Карно. Ну, ладно, это малость амбициозно, учитывая положение Карно в бизнесе, но хорошо было бы оказаться где-то рядом, пусть даже пониже. Он мог представить, что в будущем, когда людей везде будет намного больше, жанр мюзик-холла станет куда важнее, чем сейчас, и Овсень надеялся, что за вклад в становление традиции где-нибудь скромно упомянут и его – если, конечно, он умудрится не погибнуть на войне до прихода славы.
Из-за этих мыслей он заметно пал духом. Скользнул девчачьими из-за длинных ресниц глазами по толпе прохожих в надежде отдохнуть взглядом на внушительном бюсте или красивом личике и отвлечься от мыслей о смерти, но ему не повезло. Приличных женщин хватало, но примечательными никого не назовешь. Да и с грудями та же история. Ничего выдающегося, и пришлось вернуться к тяжелым думам.
Больше всего в смерти его пугало то, что из-за нее он как будто заперт в трамвае, который идет строго по одному маршруту, что рельсы впереди уже выложены, что все неизбежно, – впрочем, это, по размышлении, пугало его и в жизни. Иногда жизнь казалась прописанной репризой с припасенной заранее шуткой. Остается только следовать всем поворотам и твистам, пока тебя тащит сюжет, сцена за сценой. Ты родился, твой отец сбежал, ты пел и танцевал на сцене, чтобы спасти семью от работного дома, но она все равно там оказалась, брат выбил тебе место у Фреда Карно, ты ездил в Париж, вернулся, упустил из-за ларингита бывшую звездную роль Гарри Уэлдона в «Футбольном матче», застрял в «Ряженых пташках» и вернулся в Нортгемптон, а потом через какое-то время – если повезет, долгое, – умер.
Его тревожило это сплошное «а потом, а потом, а потом», сцена за сценой, когда одно событие предопределяет, как развернутся следующие акты, – прямо как долгая падающая череда домино, и словно ничего нельзя поделать с тем, как упадут костяшки, с подготовленной их точностью, отлаженной как часы. Как будто жизнь – какой-то большой безличный механизм, как всякие штуковины на фабриках, которые крутятся себе несмотря ни на что. Родиться – как угодить полой куртки в шестерни. Жизнь затянет – и готово дело, тебя перемалывает во всех ее обстоятельствах, шестернях, пока не протащит до другого конца и не сплюнет – если повезет, в красивый ящик. Как будто не было места выбору. Полжизни диктовала финансовая ситуация семьи, а другую половину – его собственные хотения, потребность в том, чтобы его обожали так же, как обожала мать, паническая спешка чего-то добиться и кем-то стать.
Но это же еще не все, правда? Овсень знал, что так о нем про себя думают все – все так называемые приятели в бизнесе: что они считают его за честолюбца, будто он вечно за чем-то гонится – за женщинами, за любой халтурой, которую учует, за славой и богатством, – но он же знал, что они ошибались. Конечно, он всего этого жаждал, жаждал отчаянно, но ведь жаждали и остальные, и вовсе не погоня за признанием подтлкивала его в жизни, а рокочущий позади огромный черный взрыв происхождения. Мать, что сошла с ума от голода, отец, что раздулся до размеров вонючей водяной бомбы, все картины, что мелькали под перкуссию кулаков по мясу и помоечных крышек по решеткам, гремящих и дребезжащих в снопах искр. Он знал, что не стоит на месте не потому, что гонится за судьбой, а потому, что убегает от рока. Другие думали, что он хочет залезть повыше, но на самом деле он пытался не сорваться.
Поток транспорта и людей на перекрестке скользил, как челнок на ткацком станке: сперва с шумом с севера на юг, вниз и вверх по холму перед ним, затем с грохотом с запада на восток вдоль дороги, на которой были «Ворона и подкова» и Золотая улица. На углу, где стоял Овсень, вихрились все запахи, подогретые не по сезону солнечным днем и с закатом опускающиеся одеялом, повисшим над перепутьем. Довлел в компоте ароматов конский навоз, составляющий основание букета, но вмешивались в него и другие эссенции: слабо пахнущая перцем и электричеством угольная пыль, выдохшееся пиво, занесенное из таверн, и какой-то другой сладковатый, но тлетворный дух, что-то среднее между смертью и грушевым монпансье, который он сперва не признал, но в итоге списал на множество дубилен Нортгемптона. Как бы то ни было, все это он тут же выкинул из головы, потому что как раз в эту минуту сбоку на Подковной улице показалось то, от чего он точно не собирался воротить нос.
Ее бы никто не назвал классической красавицей – не такой, на каких он насмотрелся на Champs-lyses, это было понятно даже на расстоянии, и все же она словно бы вся лучилась. Вверх по склону навстречу ему прогуливалась девица, в которой он отметил пухлость, что с годами наверняка станет заметнее, но пока что проявлялась неотразимыми пропорциями ладных и пышных изгибов. Ее контуры были щедрыми и приятными глазу, как пышный сад, – несколько напоминали о саде или сквере и ее походка под дешевой тонкой тканью хлопающей летней юбки, и толстые бедра, сужающиеся к крепким икрам и изящным фарфоровым ступням, выглядывающим в ленивом шаге из-под трепещущего подола, пока она, никуда не торопясь, взбиралась по холму.
Платье ее было невзрачным и в основном коричневым, но зато гармонировало с палитрой ландшафта, где она дефилировала: листья, забившие канавы пламенем и шоколадным крошевом, афиши цвета поблекшей сепии, что шуршали обрывками на фасаде старинного театра-конкурента в основании Подковной улицы. Выбивались из композиции волосы женщины. Насыщенно-рыжие, как миска полированных каштанов, и как лава там, где ловили предвечерний свет, ее кудри ниспадали на розовые щечки пружинистыми горстками кремовых трубочек. Чуть выше полутора метров – карманная богиня, – она полыхала, как огонек в лампе: слабый, но все же озаряющий прокопченные закоулки, которые она миновала.
Когда эта молодая услада глаз подошла ближе, он разобрал, что она несет что-то у левого плеча, поддерживая рукой снизу и положив на полную грудь, а второй рукой прижимая сверток к себе, – на манер, как ходят с продуктовыми сумками, у которой оторвались ручки. На полпути по крутому холму от Овсеня она остановилась, чтобы поудобнее перехватить кулек и поднять повыше. Пушистое окончание предмета вдруг зашевелилось и обернулось прямо к нему – тогда он и осознал, что это малышка.
А если точнее, не просто малышка, а, несмотря на размер и возраст, наверное – нет, не наверное, совершенно точно самое очаровательное создание, что он встречал. На вид ей было не больше года, ее локоны белого золота струились водопадом обручальных колец, а огромные глаза были уютного голубого цвета полицейских фонарей в опасную ночь. Этот ангелок с печатки встретил его взгляд не моргая, удобно устроившись в объятиях приближающейся женщины. Может, Овсень и мечтал, что из болота происхождения поднимется только благодаря своей красоте, но сейчас он удостоился встречи с великолепием, о котором однажды заговорят с тем же придыханием, что о Елене. Ничто не помешает этому чаду стать бриллиантом своего века с этим личиком – стоит лишь раз поймать его взгляд с плаката, оно будет преследовать тебя вечно. Ей не грозит остаться в жизни без уважения или любви – уже в таком возрасте это читалось в ровном, непритязательном взгляде, в неколебимой уверенности небесной орхидеи, выросшей средь клеверов и сорняков. Если на что-то в этом мире и можно рассчитывать, так это что имя крошки стяжает такую славу, какая не светит ему с Карно, вместе взятым. Это неизбежно.
Если девочку несет эта фигуристая дамочка, это еще не значит, что они мать и дитя, думал он с неугасающим оптимизмом, хотя даже с такого расстояния нельзя было не заметить сходства. И все же оставался шанс, что эта краля приходилась юному видению тетушкой, которая присматривает за ребенком, пока родители на работе, а значит, несмотря на внешность, может быть свободной. В долгосрочной перспективе это даже было не важно, ведь все, чего ему хотелось, – провести десять минут в приятном флирте, а не подорваться с ней в Гретну, – но ему отчего-то всегда было неспокойно, если он заигрывал с замужней женщиной.
Взбираясь по холму, женщина смотрела на противоположную сторону и пустырь, мечтательно созерцая запущенную буддлею, прорывавшуюся из обломков старого кирпича, и как будто не замечая существования Овсеня. Впрочем, он уже привлек внимание деточки, так что решил работать с тем, что есть, и плясать от этого. Опустил подбородок, коснувшись им воротника и толстого узла галстука, затем вскинул глаза на младенца из-под страусиных ресниц и угольно-черных дефисов бровей. Одарил смертельно серьезную красу своей самой бесовской улыбкой, сопроводив ее коротким, застенчивым трепетом век. И вдруг ударился в профессиональную чечетку на потертых бежевых булыжниках, не продлившуюся и трех секунд, после чего замер как вкопанный и отвернулся к вершине холма с невозмутимым видом, будто танцевальной интерлюдии и не было.
Далее он время от времени скрадывал робкие взгляды через плечо, словно чтобы убедиться, что херувимчик смотрит на него, хотя сам в этом не сомневался. Всякий раз, наталкиваясь на ее глаза, теперь повеселевшие и заинтригованные, он прятал лицо, словно от стыда, и миг подчеркнуто таращился в противоположном направлении, прежде чем позволить взгляду, хотя и с заминками, подкрасться для очередной встречи, как в игре в «ку-ку». На третий раз он увидел, что красавица заметила лопотание малютки и тоже поглядывала на него со знающей улыбкой, которая казалась и одобрительной, и в то же время какой-то испытывающей, словно Овсеня мерили по не знакомой ему мерке. Теперь, когда день остывал, ветерок задувал сильнее, разбивая циферблаты одуванчиков на свалке и разнося по улице их невесомые шестеренки. Он же встрепенул кудри женщины, словно глянцевые сережки на березе, пока она изучала его и решала, одобряет ли увиденное.
Похоже, что одобряла, пусть и не без оговорок. Будучи уже всего в нескольких шагах, она приветливо окликнула Овсеня.
– А у тебя есть почитатель, – очевидно, она имела в виду ребенка.
Забавно, но ее голос тек, как варенье из черной смородины, от которого Овсень в те дни просто не мог оторваться. Одновременно уютный в своей обычности и фруктовый от полунамеков-полутонов, он отличался сладостью с обещанием темного густого наслаждения и – куда без этого – намеком на колкую остринку. Но акцент ее оказался без той странной нортгемптонской интонации, которой он ожидал. Если бы он не знал, мог бы поклясться, что она родом из Южного Лондона.
К этому времени она дошла до угла, где и остановилась всего в футе от него. Вблизи, где он смог подробнее разглядеть женщину и ребенка, они нисколько не разочаровывали ожиданий. Будь дитя еще прекраснее или совершеннее, Овсень бы возрыдал, тогда как старшую спутницу, на которую он положил глаз, словно окружали сияние и тепло – они, если уж на то пошло, только усилили первое впечатление, произведенное на расстоянии. Выглядела женщина одних лет с ним, а подходившее к концу жаркое лето вырастило на лице и руках урожай веснушек, казавшихся миниатюрными версиями пятнышек на лилиях. Овсень поймал себя на том, что откровенно пялится, и решил что-нибудь отвтить.
– Ну, главное, чтобы моя почитательница знала, что я стал ее почитателем намного раньше, – речь не обязательно шла именно о малышке, но он был только доволен двусмысленностью. Женщина рассмеялась – и он услышал музыку: правда, больше пианино в пабе в пятничную ночь, нежели Дебюсси, но тем не менее. Когда она отвечала, западное небо уже обмакнули в новые краски – меланхолия золотых куч, словно просыпанной казны, над газгольдером, пастельные мазки палево-лилового и мятой мальвы по краям.
– Ой, ну тя. Расхвалишь ее – она избалуется, и больше никто не захочет с ней водиться, – тут она сменила хватку, переместив вес младенца в другую руку, так что теперь Овсень ясно видел ее левую руку и простое кольцо на третьем пальце. Ну что ж. Он понял, что все равно получает удовольствие от компании, и не расстроился, что встреча ни к чему не приведет. Сменил прицел комплиментов, чтобы теперь направлять их исключительно на детку, и, освободившись от необходимости произвести впечатление на женщину, Овсень с удивлением обнаружил, что хоть раз для разнообразия говорит их от всей души.
– Ни за что не поверю. Чтобы ее испортить, одной лести мало, и ставлю пять фунтов, что вокруг нее и без того увиваются толпы, куда бы она ни пошла. Как ее зовут?
Здесь брюнетка обратила лицо к девочке на руках, чтобы мягко соприкоснуться с ней лобиками с гордой и доброй улыбкой. Над газовой станцией полетели гуси.
– Звать ее Мэй, как и меня. Мэй Уоррен. А тя как? И че торчишь на углу Дворца Винта с бесстыдными глазищами?
Овсень так поразился, что у него отпала челюсть. Еще никто не отзывался так о взгляде, который он по-прежнему считал огненным. Впрочем, после мгновения оторопелого молчания он рассмеялся с неподдельным восхищением проницательностью и беспощадной честностью женщины. Оскорбление казалось тем смешнее, что, когда его произнесли, малышка повернулась и воззрилась прямо на него с вопросительным и участливым взглядом, словно присоединяясь к вопросу матери и интересуюсь, чего это он торчит на углу с бесстыдными глазищами. От этого он смеялся только дольше и пуще прежнего, а к нему с удовольствием присоединилась и девушка, и наконец вступила ее дочурка, не желая показаться непонятливой.
Когда все замолчали, он осознал с каким-то удивлением, как же приятно после месяцев и лет загодя продуманной комедии по-настоящему, произвольно рассмеяться, особенно над шуткой в его же адрес. Шуткой, которая напомнила ему, что он задирает нос и что серьезные переживания из-за карьеры, донимавшие его не далее пяти минут назад, скорее всего, такие же раздутые и преувеличенные. Все встало на свои места. Для того-то, наверно, и нужен смех, решил он.
Он кивнул, как можно менее самодовольно, на свое имя на плакате, к которому привалился, но просил называть его Овсенем. Так делали все его друзья, к тому же ему казалось, что имя «Чарльз» прозвучит для такой простой девушки слишком заносчивым. Когда они с Сидни были маленькими, их мать еще жила на широкую ногу и выводила своих мальчишек прогуляться по Кеннингтонской дороге в таких костюмах, которые, знала она, никто в округе не мог позволить даже в самых ярких мечтах. Оттого-то, конечно, падение в нищету и к плиссированному алому трико вместо колготок стало еще невыносимее, и с тех самых пор он всегда боялся, что его принимают за воображалу, потому что в случае нового падения не перенес бы излишней жестокости. Сойдет и «Овсень», подумал он. В их именах даже звучали отголоски от праздничного стола в честь урожая – Овсень и Май.
Женщина присмотрелась к нему, вопросительно сузив глаза, у уголков которых раскрылись и сомкнулись миниатюрные веера декоративных морщинок.
– Овсень. Овес и ячмень. Да ты никак с Лондона.
Она склонила голову чуть назад и набок, смеряя его как будто с глубоким подозрением, так что на минуту он забеспокоился. Девушке чем-то не угодил Лондон? Затем ее лицо снова расслабилось в улыбке, только у этой улыбки было какое-то хитрое, кошачье свойство.
– С Ламбета. Западная площадь, у дороги Святого Георгия в Ламбете. Как, угадала?
Малышка уже потеряла интерес к Овсеню и развлекалась, хватая в маленькие кулачки медные пряди волос ее матери – судя по виду, довольно больно. Он же почувствовал, как роняет челюсть уже второй раз на второй же минуте, хотя в этот раз не в прелюдии к смеху. Если честно, эти слова нагнали на него страху. Кто эта женщина, откуда она знает то, чего знать не может? Цыганка? Все это только сон, который снится ему в шесть лет, о странном мире, что ждет в будущем, пока сам он беспокойно мечется, а бритая головка шуршит по грубой ткани подушки в работном доме? В этот миг он почувствовал, словно мир ускользает из пальцев, на него нашло мимолетное головокружение, так что дороги перекрестка чуть не завертелись, как иголка сломанного компаса, а дым из труб и золоченые облака завихрились в километровых кольцах, пойманные центрифужным бегством горизонта. Он больше не знал, где он и что происходит между ним и этой пугающей молодой матерью. Даже издали он понял, что она окажется интересной женщиной, но реальность превзошла все его ожидания. Она сбивала с толку и с ног – и она, и ее неземная дочка.
Увидев в его глазах панику и смятение, она снова рассмеялась – горловое журчание, лукавое и одновременно несколько распутное. Он почувствовал, что ей нравилось время от времени пугать людей, как ради смеху, так и чтобы показать свою силу. Хотя его уважение росло с каждой секундой, желание, которое он испытал при ее виде, съеживалось в противоположном направлении. Этот человек, несмотря на скромное сложение, был больше его самого. Эта девчонка, подумал он, может его слопать, сыто отрыгнуть и отправиться дальше по своим делам как ни в чем не бывало.
Наконец она его пожалела. Выпутывая колечки волос из пальчиков девочки, пока юная Мэй как раз отвлеклась на проплывающий и позвякивающий трамвай, она доказала, что никакая не профессиональная фокусница, объяснив, как сумела прочитать мысли.
– Я сама с Ламбета, с Регентской улицы у Ламбет-уок – маленькой такой террасы. Верналл. Это я по матушке. Помню, как наши мамка с папкой гуляли со мной по округе, когда я была совсем маленькой. Они там ходили в один паб на Лондонской дороге, а домой мы срезали через Западную площадь. Там-то я тя и видала пару раз. С тобой был еще старший братец, верно?
Он почувствовал облегчение, но и не меньшее удивление. Цепкая память женщины, хотя и куда более впечатляющая, чем его собственная, была вполне типична для тех, кто рос в тесных кварталах, где все знали имена всех в радиусе двух миль, а также имена их детей и родителей и запутанные капризы и нити обстоятельств, связывающих поколения. Так и не выучившись этому трюку, – Овсень всегда надеялся, что не задержится в тех местах надолго, – он был застигнут врасплох, когда трюк провернули с ним, в этом маловероятном месте, захолустном городишке. В отличие от девушки, он, хоть убей, не помнил никаких детских встреч.
– Да. Ты права, у меня был брат Сидни. Собственно говоря, до сих пор есть. А когда ты там была? Сколько тебе лет?
В этот момент она с укоризной подняла бровь из-за отсутствия манер – негоже спрашивать девушку о возрасте, – но все же ответила:
– Как тут у нас грят, молодая, как мой язык, но старше й, чем зубы. Мне двадцать лет, если так уж интересно. Родилась десятого марта 1889 года.
Чем больше она убеждала, что в том, как она узнала его адрес, нет ничего загадочного, тем более жуткой казалась их случайная встреча. Эта удивительно внушительная женщина родилась с ним в один месяц и все детство жила, наверное, всего в двухстах ярдах. И вот они оба здесь, в шестидесяти милях и двадцати годах от места, где начинали, стоят на одном из сотен углов в одном из сотен городов. Он снова задумался о предыдущих сомнениях по поводу судьбы и того, могут ли люди предугадать свой путь. Теперь он видел, что это два разных вопроса, которые требуют двух разных ответов. Да, возможно, за тем, как складываются события, стоит заблаговременно очерченная схема, или на худой конец иногда так кажется, но в то же время если подобный замысел есть, то он слишком великй и неземной, чтобы прочесть или понять его, так что никто не может предсказать, чем разрешатся все его завитушки, разве что по случайности. С тем же успехом можно пробовать предсказать все формы фиолетового закатного облака, которые оно примет перед тем, как догорит, или какая телега кому уступит дорогу при встрече на перекрестке. Слишком сложно, чтобы охватить, что бы там ни говорили всякие пророки или знатоки кофейной гущи. Он тряхнул головой и ответил ей, пробормотав невпопад какую-то нелепость про тесный мир.
Очаровательная крошка теперь беспокойно ерзала, и Овсень испугался, что мать воспользуется этим поводом, решив забрать ее домой и закончить разговор, но та только спросила, что он делает у Дворца Варьете, или Дворца Винта, как она продолжала его называть. Он рассказал, что в общем занимается всем понемногу, но сегодня выйдет с «Ряжеными пташками» Фреда Карно в роли Пьяницы. Она сказала, что это наверняка смех да и только, и добавила, что всегда хотела познакомиться с кем-нибудь из театра.
– Это все наш пострел, наш Джонни. Ток и твердит, как ему неймется на сцену. Эт мой младшенький братец. Мнит, что попадет в театр или музыкальную группу, да ток это все пустозвонство. Учиться не хочет, да и на какие шиши. Слишком это тяжко.
Он кивнул в ответ, глядя, как на свой склад в конце улицы, у подножия за ее спиной, торопится молоковоз. С места Овсеня он казался всего в дюйм высотой – унылая крошечная кобыла тащила телегу по правому плечу девушки, затерявшись на какое-то время в осеннем лесу ее волос, прежде чем снова показаться слева и устало уплестись из виду.
– Да уж, если твой брат не хочет попотеть, на подмостках он недалеко пойдет. Впрочем, он еще может стать управляющим или импресарио, а там пусть ленится, сколько захочет.
На это она посмеялась и сказала, что откажется от совета. Он воспользовался паузой, чтобы поинтересоваться, почему она называла зал Дворцом Винта.
– О, его как ток не звали. Семья нашего папы жила в Нортгемптоне, скок себя помню, вечно болталась между домом и Ламбетом, вот и следили за переменами. Попервоначалу он был мюзик-холлом «Альгамбра», как говорил папка, потом, как я родилась, название поменяли на «Гранд-варьете». Немного погодя, если верить папе, началась черная полоса, когда и театра никакого не было. Пять лет тут каждый месяц открывалось что-то новое. То бакалея, то велосипеды продавали. Был паб под названием «Ворона», потом переехал через улицу и стал «Вороной и подковой», а еще помню, как десять лет назад здесь стояла кофейня. Туда ходили все вольнодумцы, как они ся звали, и могу те сказать – были среди них те еще герберты. А в год, когда умерла королева, его освежили и окрестили Дворцом Варьете. Старый мистер Винт – год назад он купил заведение, но вывеску так и не сменил.
Овсень кивал, рассматривая старое здание в новом свете. Из-за того, что он выступал здесь «Ланкаширским мальцом» столько лет назад, казалось, ничего не изменилось и варьете стояло как было, что оно всегда было одно-единственное и, скорее всего, таким и останется. Небрежное перечисление девушкой назначений, для которых употребляли помещение за годы, его покоробило, хотя он бы и не смог объяснить, чем именно. Овсеню показалось, это потому, что мир, где он вырос, хотя и ужасный и душный, стоял неизменным из года в год, а часто и из века в век. Даже в этом занюханном углу Нортгемптона, таком же нищем, как Ламбет, где он родился, – даже тут можно видеть, что в большинстве зданий до сих пор находятся те же заведения, что и сотню лет назад, даже если у них сменялись названия или руководство. Вот почему рассказ о переменчивой судьбе зала вывел его из душевного равновесия: потому что, хотя подобная история еще была редкой, с каждой неделей она слышалась все чаще. А что будет, спросил он себя, когда эти второразрядные театрики-однодневки станут правилом, а не исключением? Если он вернется, скажем, через сорок лет и обнаружит, что здесь продают – он даже не знает – электрические пушки или еще что-нибудь такое, а варьете нет и в помине? Вдруг тогда вообще не останется жанра варьете? Ну ладно, это он, конечно, махнул, но именно так себя почувствовал из-за бесцеремонного повествования Мэй – беспокойно из-за порядка новых дней, нового мира. Овсень сменил тему, спросив о ней самой:
– Ты так говоришь, словно все здесь знаешь. Сколько ты уже тут живешь?
Она задумчиво воздела глаза к обрывкам сиреневых перистых облаков на темно-синем поле, пока ее поразительно воспитанная и терпеливая дочь сосала блестящий палец и смотрела, как будто бы безразлично, на Овсеня.
– Кажись, в девяносто пятом, когда мне было шесть, мы сюда и приехали, хотя наш папа – он-то всегда мотался туда-сюда в поисках работы. Ходит пешком всю дорогу до Лондона и обратно, старый черт. Частенько мы не видали его по шесть недель кряду, ни слуху ни духу, и вдруг он заявляется с гостинцами, пустячками для всех и каждого. Не, здесь не так уж скверно. Здешние места – как тот же Ламбет, люди те же. Иногда кажется, будто и вовсе не переезжали.
Теперь некоторые узкие лавки на той стороне Подковной улицы зажигали огни – тусклый свет, подернутый зеленым по краям, между редкими и темными витринами. Опустив взгляд от дымоходов, старшая Мэй с гордостью посмотрела на младшую, стиснутую в крепких руках цвета тигровой лилии.
– Кажись, я тут надолго. Во всяком случае, на то моя надежда, а еще на то, что малая тож будет жить тут. Тут народ открытый, и бывают совсем старомодные особы. Тут я познакомилась со своим милым, Томом, и мы венчались в Гилдхолле. У него все местные, все Уоррены, и с нашей стороны Верналлов тут живут многие. Нет, тут ничего, в Нортгемптоне. Свиной пирог пекут на славу, и парки один другого краше – Виктории, Беккетта и Абингтонский. Ток-ток свою туда сейчас и водила, к речке. Смотрели лебедей и гуляли по островку, да, уточка моя?
Это было адресовано ребенку, который наконец начал проявлять беспокойство в открытую. Ее мать выпятила нижнюю губу и сложила брови домиком, передразнивая плаксивое выражение дочки.
– Голодная, значит. Как в парк шли, заглянули к Готчеру Джонсону, взяли две унции радужных конфет [24], но я тож перекусила, вот надолго их и не хватило. Пора нам уж с ней домой на улицу Форта, на чай. Там и тушенка в консервах ждет, ее любимая. Славно было познакомиться, Овсень. Удачи те с номером.
На этом Овсень раскланялся с обеими Мэй и сказал, что ему было не менее приятно встретить их обеих. Взял влажную крошечную ладошку малышки и заявил, что надеется однажды увидеть ее имя на большой афише. Матери он только сказал: «Присматривай за ней», – а когда женщина усмехнулась и ответила, что это уж преобязательно, сам задумался, зачем такое ляпнул. Какая глупость, как можно не присматривать за такой деточкой. Воспитанница и родительница подождали, когда дорога освободится, затем пересекли основание Золотой улицы и поднялись по холму на север. Он стоял на своем углу и наслаждался видом на зад женщины, плывущим под болтающейся юбкой, представляя ягодицы в виде прижавшихся друг к другу лиц танцоров, скачущих в жарком тустепе. Или, быть может, двух мускулистых борцов в ближнем бою, и стоит одному отвоевать дюйм, как второй тут же отбивает его обратно, так что они только покачиваются в клинче. В этот момент он заметил, что ребенок, удаляясь прочь, серьезно смотрит на него через плечо девушки. Почувствовав неожиданный стыд из-за того, что девочка поймала его за любованием прелестями ее матери, он быстро отвернулся к заросшему пустырю ниже по холму, а когда всего через минуту поискал глазами, их уже не было.
Овсень посмотрел, который час, затем выудил из убывающей пачки очередную «Вуди» и закурил. Если подумать, разговор вышел тот еще. Произвел на него такое впечатление, которое в полную силу почувствовалось только сейчас. Эта женщина, Мэй, родилась всего через несколько недель после него и выросла меньше чем в полудюжине улиц, – а встретились они на углу в другом городе двадцать лет спустя. Кто бы мог поверить? Один из тех случаев, что, думал он, обязаны время от времени происходить вероятности вопреки, и все же каждый раз казались необыкновенными. В том, как устроен мир, всегда чувствуется какая-то подоплека, которую можно почти что угадать, но стоит только попытаться вычленить значение или смысл, как они просто затухают, и ты остаешься в тех же потемках, что и раньше.
А возможно, единственный смысл таких событий – тот, что налагаем мы сами, но даже если знать, что так наверняка все и обстоит, то помогает это, честно говоря, слабо. Не мешает нам гоняться за смыслом, носиться, как хорькам, в лабиринте нор своих мыслей и иногда теряться впотьмах. Овсень не мог не думать о женщине, которую только что встретил, как их разговор взбаламутил двадцатилетний осадок на дне памяти, какие чувства вызвал. Суть его волнения, думал он, – как на фоне сходств между его и ее историями не менее резко выдавались различия.
В первую очередь, он был на грани побега – по крайней мере, надеялся на это, – из затхлой от копоти тюрьмы их общего происхождения, из бедноты, малоизвестности и таких вот улиц, где небо уже нарезано на насыщенно-синие ромбы железными опорами газгольдера. Побега даже из Англии, если удастся. В случае грядущей стычки с Германией сэр Френсис Дрейк надеялся валяться в гамаке где-нибудь в тысяче миль отсюда. А у полной жизни молодой матери, Мэй, – у нее такой оказии не было. Без талантов, унаследованных или усвоенных у родителей из мира развлечений, ее жизнь была ограничена как в плане ожиданий, так и возможностей, а ее горизонты, к которым она вовсе не стремилась, были куда теснее, чем его собственные границы. Она сама сказала, что думала прожить в этом районе всю жизнь и желала того же своей прелестной дочери. Она не гналась ни за надеждами, ни за мечтами, знал Овсень. В подобных кварталах это попросту непрактично – только отягощающие и мучительные слабости. И эта бойкая девчушка, похоже, обречена жить и умереть в маленькой клетке своих обстоятельств, даже не зная, что она в клетке, и не замечая грязных прутьев. Он благодарил своего ангела-хранителя, если он был, за дар хотя бы призрачного шанса избежать пожизненного заключения, в котором обреталась она. Каждая женщина, мужчина или ребенок, проходившие мимо в пропахших дубильнями трущобах, были во всех отношениях каторжниками, мотающими срок в суровых условиях без всякого шанса на снисхождение или помилование. Они пылились в шкафу, где тепло и мухи не кусают.
Но Мэй казалась довольной, а вовсе не обреченной. Мэй казалась довольнее жизнью, чем Овсень.
Он задумался над этим, выдувая дрожащий сизо-серый папоротник дыма красивыми губками, сложенными в трубочку. Некоторые экипажи, ползущие через перекресток, уже засветили фонари, а ляпис небес постепенно углублялся в оттенках. Улитки с люстрами ползли вверх по холму и искрили в тупике сумерек.
Он увидел, что в бедности – в том, чтобы не иметь ничего, даже амбиций, – было две стороны. Да, правда, у Мэй и других вроде нее нет его напора, его талантов или возможностей добиться лучшей жизни, но нет у них и его сомнений, страхов перед неудачей или гложущей вины. Эти люди, опустив головы и хрустя осенней облицовкой брусчатки, ни от чего не бежали, особенно от улиц, с которых были родом, а значит, не приходилось им и чувствовать себя все время дезертирами. Они знали свое место – во многих смыслах. Да, они отлично знали, где полагались относительно всего общества – на дне, – но самое главное – знали свое место: знали кирпичи и цемент вокруг так близко, что почти любили. Он понимал, что многие из несчастных душ, лившихся через шлюзы перекрестка, происходили из семей, которые проживали в этих краях поколениями, просто потому что расстояние для путешествий до появления железных дорог было сильно ограничено. Они топтали тротуары, зная, что сотни лет назад то же самое делали их деды и прадеды, топили беды в тех же пабах, затем изливали их в тех же церквях. Каждая грубая и ничтожная деталь района была у них в крови. Эти спутанные переулки и покосившиеся пекарни были разжиревшим телом, из которого они появились на свет. Они знали все заплесневелые подворотни, все дождесборники, где краны проржавели до толщины бумаги. Все запахи и изъяны округи были им знакомы, как родинки матери, а если лицо у нее и перепачканное, и морщинистое, они не могли просто ее бросить. Даже если она давно лишилась разума, они…
В его глазах стояли слезы. Овсень сморгнул и сделал три короткие затяжки, прежде чем стереть лишнюю влагу кончиками пальцев, притворившись, что его ослепил дым. Все равно никто из пешеходов на него не смотрел. Он вдруг разозлился на себя за то, что по-прежнему хранил сопливые сантименты, и за то, как легко рассиропился. Он уже мужчина, ему двадцать, а иногда он чувствовал себя на все тридцать, и нечего хлюпать носом как мальчишка. Ему не шесть лет. Он плачет не по остриженным кудрям в ламбетском работном доме, сейчас не 1895 год. И хотя он понимал, что еще не осмыслил это целиком, но на дворе двадцатый век. И этому веку нужны умные, идущие в ногу со временем и дальновидные люди, а не те, кто льет слезы над прошлым. Если он собирался чего-то добиться в жизни, лучше взять себя в руки – и в темпе. Глубоко затянувшись сигаретой, Овсень задержал дым и оглянулся на медленно темнеющем перекрестке, пытаясь взглянуть на него с современной, реалистической точки зрения, а не плаксивой и ностальгической.
Да, в этой торчащей вкривь и вкось куче выветренных остовов можно увидеть мать, он мог это представить. И в то же время, как и мать, эти дома не будут вечны. Возраст разъел их переменами и не собирался сбавлять аппетиты. Как он только что думал о предыдущих поколениях, ограниченных в возможности перемещаться, так же он понимал, что в этом новом, просвещенном веке все должно быть иначе. Паровой двигатель изменил мир, на улицах Лондона уже можно встретить безлошадные экипажи, и надо думать, со временем их будет только больше. Сообщества, простоявшие бессчетные десятки лет, как вот это вокруг, окажутся не такими спаянными, когда арестантам дадут шанс легко и дешево сбежать, отправиться туда, где работа лучше и не надо идти шестьдесят миль пешком, как папе этой девушки. Даже если не будет войны, истребляющей молодежь, он сомневался, что узы, привязывающие людей к таким местам, выдержат еще сотню лет. Подобные районы отмирают. И это никакое не предательство – желать выскочить из них на твердую почву, пока они не пошли ко дну. Любому, кто повидал мир, кто почувствовал, что волен отправиться куда захочет, – зачем ему сидеть взаперти в такой дыре, таком городишке, да даже такой стране? Любой здравомыслящий человек с возможностями вылетит отсюда пулей, как только выпадет шанс. Их здесь ничего не держало, и…
В сгустившейся темени внизу холма показался черный человек на велосипеде с веревками вместо шин, тащивший прицеп с такими же колесами, дребезжа по булыжникам, как скелет из страшной сказки.
Овсень второй раз за полчаса спросил себя, не спит ли он. Это был тот же самый человек на том же самом несуразном костотрясе, как и двенадцать лет назад, когда он стоял с Бойси Бристолем здесь, на том же самом углу, и говорил: «Да, но вот зачем миллионерам вести себя как бродяжки?»
Негр остановил странное изобретение наверху Подковной улицы, на углу напротив Овсеня, ожидая, пока поперек пройдет конка. Конечно, минувшие годы взяли свое, волосы и борода стали белыми пучками, но это, вне всяких сомнений, был тот же самый человек. Он же на сей раз не заметил Овсеня, но остался сидеть верхом на велосипеде, ожидая, пока конка уступит дорогу, чтобы продолжить свой путь на холм. На его сильном широком лице было отсутствующее и несколько озабоченное выражение, он явно пребывал не в том же общительном настроении, как когда они встречались в последний раз – когда еще не умерла старая королева, а мир был совсем иным. Даже если бы Овсень по-прежнему оставался тем же ретивым и изумленным мальчишкой восьми лет, он сомневался, что черный бы его заметил, таким меланхоличным и отстраненным он теперь казался.
К этому моменту омнибус прогрохотал мимо, и мужчина поднял ноги – на них по-прежнему были привязаны деревянные бруски. Он уперся ими в педали, привстал и наклонился вперед, натужно покатив вперед, постепенно набирая скорость, которая перенесла его с тележкой через перекресток на вершину холма, в опускающуюся темноту, где он скоро и потерялся из виду.
Глядя, как исчезает черный малый, Овсень пососал сигарету, не замечая, как сильно та прогорела, так что она обожгла пальцы, и он вскрикнул, бросив дерзкий уголек на землю и растоптав в гневном возмездии. Даже чертыхаясь и размахивая пальцами, чтобы ветер остудил ожог, он испытывал удивление из-за того, что сейчас случилось, из-за всей атмосферы этого необычного места, где подобное как будто происходит все время. Подумать только: весь десяток лет с тех пор, как он был здесь в последний раз, пока Овсень колесил Англию вдоль и поперек и участвовал в парижском приключении, во все разные вечера в разных городах и селах, – все это время черный был здесь, каждый день ездил взад и вперед по одному и тому же маршруту. Овсень сам не знал, почему это казалось таким удивительным. А что, он думал, будто люди исчезают, если от них отвернуться?
С другой стороны, этот человек уже повидал Америку, по которой тосковал Овсень, и все-таки решил остаться здесь… может, это и не диво, но уж точно загадка. Подняв одновременно брови и плечи, чтобы, не обращаясь ни к кому в особенности, театрально выразить переигранное изумление, Овсень бросил последний взгляд на перекресток, тонущий в индиго, затем поднялся по ступенькам к крошечной парадной двери Дворца Варьете. Толкнул и вошел туда, где было ненамного теплее, миновал кассу с кивком и хмыком безразличному тучному типу внутри. Он задумался, прибыльный ли будет вечер, много ли они соберут народу, но такое не предскажешь. Прежде чем подняться в рай зрительского признания, сперва надо заполнить раек.
Побеленный сарай, который служил ему гримеркой, стоял за короткой, но запутанной серией коридоров из голых досок на тесном и древнем дворике, где протекал туалет и блестели стоячие лужицы, занявшие непоколебимую позицию в углублениях проседающих горбатых плит. Овсень уже заскакивал в примерочную, чтобы занести реквизит, но не успел по-настоящему осмотреться. К его немалому удивлению, в нежилом на вид помещении на середине облупившейся стены был газокалильный фонарь, который он тут же запалил спичкой, чтобы пролить свет истины на окружение.
Видал и хуже. Желтая каменная раковина в углу, с латунным краном, свернутым наперекосяк, и с жидкими венами медянки цвета шпината, отчего кран был похож на испорченный сыр. Овсень нашел треснувшее зеркало размером с книгу, висящее на двери в деревянной раме на гнутом гвозде, и встал перед ним, нашаривая в нагрудном кармане пробку. Отыскав, он зажег очередную спичку и подержал и без того почерневший конец затычки, чтобы она обуглилась заново и черный цвет видели даже с галерки. Отмахнувшись от дыма и пережидая миг-другой, пока импровизированный грим остынет, взглянул в разбитое стекло. Не обращая внимания на черный разлом, пробегающий крутой диагональю по лицу его отражения, он расслабил свои черты в мешковатой, бладхаундовской осоловелости Пьяницы, его испитой скособоченной ухмылке со слезящимися глазами, что так и норовили закрыться.
Сперва Овсень раскрошил пальцами жирный пепел пробки в пыль, затем начал накладывать ее под подбородком, размусолив черную пудру вокруг сжатого рта и по щекам под самыми скулами, где та превратилась в грязно-серую щетину запойного гуляки, что не один день не мылся и не брился. Самим огарком пробки он подчеркнул складки второго подбородка, ради которого поджал челюсть, затем поработал у глазниц, добиваясь помятого вида, прежде чем перейти к тяжелым, лихо вскинутым бровям. На верхней губе, где ничего не росло, нарисовал обвисшие квелые усы, концы которых кривыми линиями сбегали у уголков рта. Практически удовлетворенный новым лицом, он втер уголь с пальцев прямо в жирные волосы, нарочно взъерошив их торчком, чтобы кудри раскинулись всюду, как маслянистые гребни на бурном море.
Он смерил взглядом облик в расколотом зеркале, выдержав собственный взгляд. Решил, что почти закончил. Приступил к мелким деталям, углубляя морщины у уголков рта и глаз. Из-за щедрых мазков пробкой его лицо стало приобретать пепельную бледность. Иногда это пугало – сидеть в тихой, пустой, незнакомой комнате и смотреть в собственные глаза, превращаясь в кого-то другого. Осознаешь, что вся личность, все, что ты считаешь собой, в основном написано на твоем лице.
Овсень наблюдал, как исчезает из виду образ, который он аккуратно создал для себя. Живой взгляд, привлекавший симпатию женщин или передававший энергию и ум, скрылся в тумане хмельного прищура. Аккуратность, с которой он следил за своими выражениями, чтобы сообщать легкомысленную самоуверенность молодого человека в молодом веке, – заштукатурена, заляпана чумазым пальцем, стала сальной усмешкой викторианского Ламбета. Все вехи окультуривания и прогресса, которых он достиг, работая над собой, тяжело выбредая из трясины родословной, – стерты. На разделенном лике, что взирал на него из-за растрескавшегося стекла, его стесненное настоящее и большое будущее уступили место засасывающей, цепляющейся жиже прошлого. Его отцу и тысяче барных дверей, куда Овсень заглядывал в детстве, когда посылали найти отца. Лопнувшим кровяным сосудикам на щеках выпивох, прижавшихся к холодной подушке тротуара. Крови, смытой с крюков в лошадиных лоханях. Все это так и поджидало, чтобы он только расслабил свою озорную, задорную улыбку всего на миг, всего на полдюйма.
В комнате висел запах сырости и ветхости. В бессильном неровном свете у лица под размазанным и растертым пеплом больше не было красок. На серебристо-серой коже выделялись черные волосы и глаза. В рамках зеркала оказалась поблекшая фотография человека, навек застрявшего в определенном времени, определенном месте, в характерном персонаже, от которого нельзя сбежать. Навсегда застывший в бледной эмульсии портрет родственника или театрального кумира из затерянных времен, когда родители были молоды.
Овсень надел мятый пиджак на размер больше, который носил в роли Пьяницы, и наполнил из-под крана бутылку «Сан-Диего» из зеленого стекла. Где-то недалеко, надеялся он, ждет публика. Фонарь прошипел дурное предвестие.
Был слеп – и вижу свет
Знак великого человека, как думалось Генри, – это то, как он поступает при жизни и какую славу оставляет по себе после смерти. Вот отчего Генри не удивился, когда узнал, что Билл Коди предстанет перед вечностью украшением крыши из грязного камня, на котором свои дела птицы делают.
Когда он глянул вверх и увидал выпуклый лик на оранжевых кирпичах крайнего дома в ряду, вырезанный на какой-то табличке под самой крышей, то принял его сперва не иначе как за Господа. Налицо и долгие волосы, и борода, и даже, как сперва почудилось, нимб – только потом он понял, что это ковбойская шляпа, когда смотришь на поля снизу, как если мужик закинул голову. Тогда он и раскумекал, что это Буффало Билл.
Перед рядом домов – здесь их прозывали террасами, – шла улица, а позади лежали акры зеленого поля, где устраивали скачки и все такое прочее. Сам Генри стоял в коротком переулке, что вел за дома и на ипподром, и вот сюда-то и глядело лицо, вырезанное на стене. Он слыхал, будто «Шоу Дикого Запада» Коди приезжало на ипподром в Нортгемптон – где-то за пять-десять лет до того, как Генри самого принесло в город, а это было в девяносто седьмом. Рассказывали, выступала и Энни Оукли, и индейские воины. Видать, кто-то из местных жителей побогаче проникся шоу Коди и решил, что ему самое место в углу под крышей. Ну и пожалуйста, на здоровье. Если спросить Генри, пусть люди делают, что вздумается, лишь бы ничего худого.
Резьба при всем при этом не очень-то походила на Коди – по крайности, не на того Коди, как его помнил Генри по одной-двум встречам. Конечно, было то давным-давно, в Маршалле, штат Канзас, в подсобке прачечной у Эльвиры Конли. Это, значится, семьдесят пятый, семьдесят шестой, что-то такое, когда Генри еще ходил юным красавцем двадцати лет – хоть только он один так и считал. Штука в том, что тогда он не очень-то присматривался к Буффало Биллу, потому как не отводил глаз от Эльвиры. И все равно Генри сомневался, что Уильяма Коди, которого знавал он, можно было спутать с Иисусом Христом, Господом нашим, как там ни приглядывайся снизу вверх, пока он будет стоять, задрав нос. Правду сказать, пустой он был человек – или так уж показалось Генри. И Генри сомневался, что Эльвира хоть бы слово сказала Биллу, не будь важно, как на нее все посмотрят в Маршалле. У цветных женщин много знаменитых белых друзей не бывает.
Генри толкнул велосипед с тележкой по мощеному переулку от ипподрома, и веревки, намотанные на обода колес, захрустели листьями, сваленными в канавах. Бросил последний взгляд на полковника Коди, у которого из-за дыма от ближайшей трубы как будто горела шляпа, затем взгромоздился в седло с брусками-тормозами на ногах и пустился по боковым улочкам на большак, что уходил в самый Кеттеринг и что приведет его обратно в центр Нортгемптона.
Сегодня ему не хотелось мотать сюда крюк, а думал Генри просто объехать деревни на юго-восточной стороне города. Но по пути повстречал одного малого, который сказал, будто бы у ипподрома на дворе с железным забором, где обвалился сарай, найдется хорошая черепица, да только он оказался дурак, а вся черепица лежала побитая и не стоила ни гроша. Вздохнул Генри, несолоно хлебавши, да и покрутил педали прочь с улицы Худ и вниз по холму к городу, но потом подумал, что лучше взять себя в руки и не хныкать. Не весь же день прошел зазря. Солнце на востоке большое и алое, низко висело в молочном тумане, который мигом прогорит, стоит сентябрьскому утру как следует продрать глаза и заняться делом. Еще вдоволь было времени поворотиться туда, куда душа желает, и обернуться к Алому Колодцу задолго до вечера.
Вдоль по Кеттерингской дороге в город крутить педали не пришлось. Генри надо было только катиться под горку да касаться тут и там тормозными брусками улицы, чтобы не лететь сломя голову и не растрясти вдребезги на ухабистых булыжниках волочившийся позади прицеп. По бокам рекой протекали дома и лавки со всяческими вывесками и витринами, а он дребезжал себе к центру. Вся дорога досталась ему одному, в такую-то рань. Чуть дальше в город шла попутная конка, а по холму навстречь поднимался малый, толкавший перед собой тележку, доверху полную щетками для дымоходов. Окромя них, окрест были еще человек-другой, шли по ихним делам по тротуару. Одна старушка, которая оченно удивилась, когда мимо проехал Генри и два мужичка в кепках, как будто по пути на работу, которые на него выпучились в оба глаза, но он прожил в округе довольно, чтоб не обращать внимания. Впрочем, все же на улице Алого Колодца ему больше по душе. Там народ, по большей части, даже бедней его, так что никто не смотрел на него сверху вниз, а когда встречали в округе, только кричали: «Эй, Черный Чарли! Как везет, что везешь?» – и всякое такое.
Поднялся небольшой ветерок, наигрывал на проводах трамваев над головой, покуда он катил себе под ними. Объехал церкву на углу Гроув-роуд справа и вильнул, чтобы не угодить в конское дерьмо, лежавшее на улице дорогой к площади. Еще один поворот он заложил, когда объезжал унитарную часовню с другой стороны, а там уж сплошняком пошли лавки, питейные заведения и большой старый кожевенный склад, что позади статуи мистера Брэдлоу. Кожа в местной торговле была большим делом, так сыздавна повелось, но в остальном у Генри до сих пор было невдомек, как это город сделан из одних баров да церквей. Никак пошив обуви сидел у всех в печенках настолько, что оставалось проводить досуг либо за выпивкой, либо за молитвой?
На огороженном острове слева, где на подставке стояла статуя, посапывал какой-то пьянчужка. Генри сомневался, что мистер Чарльз Брэдлоу такое одобряет, если смотрит с небес, до того он был непреклонный в вопросе алкоголя, но, обратно, раз мистер Брэдлоу не верил в Господа Всемогущего, вряд ли он и небеса одобряет. Этого у Брэдлоу Генри не мог ни понять, ни принять. Так посмотреть – этот господин был атеист, а если спросить Генри, так это только другое название для дурачка. А этак посмотреть – он вот был строжайше против крепких напитков, что Генри мог только уважать. Или еще как Брэдлоу защищал цветной народ в Индии, когда даже думать не думал о бедняках у себя дома. И все же, по всему видать, он говорил, что у него на душе, и делал то, во что верил. Брэдлоу был хороший человек, и Господь наверняка простит атеизм, если взять в расчет все остальное, потому и Генри не след об этом переживать. Этот господин заслужил себе красивую белую статую, которая кажет пальцем на запад – на Уэльс, Атлантический океан и Америку за ним, и точно так же можно сказать, что Буффало Билл заслужил свой покоцанный камень под крышей. Пусть этот Брэдлоу говорил, что не христианин, а вел он себя как есть по-христиански – и, хоть мысль была неприятная, Генри понимал, что нередко бывает и ровно навыверт.
Он проехал мимо магазина, где был шоколад «Кэдбери», а наверху стены нарисован знак с бальзамом «Лангворт» от Стортона. В последнее время Генри начал подкашливать, и уже подумывал, может, что ли, попробовать и эту штуковину, коли не слишком дорогая. Дальше был магазин с женскими вещичками, потом заведение мистера Брюггера с часами всех мастей на витрине, настенными и наручными. Впереди Генри чуть-чуть не нагнал трамвай – теперь он видел, что это шестой, который ходил до Конца Святого Джеймса, что еще прозывали Концом Джимми. На заду трамвая была оплаченная реклама увеличительных очков, с двумя большими круглыми глазами под названием предприятия, отчего казалось, будто у вагона на хвосте лицо. Тот доехал по рельсам до ближайшего перекрестка и со звоном колокольчика миновал его, таращась на Генри, словно в удивлении или со страху, отправился себе книзу по Абингтонской улице, тогда как велосипедист свернул налево и помчал с ветерком по Йоркской дороге в направлении больницы, то и дело шаркая брусками по булыжникам, чтобы замедлиться.
Близ больницы был еще перекресток – с дорогой, что уходила в Грейт-Биллинг. Он его прокатил и продолжал ехать прямо по холму, как и ехал. На углу больничного двора, пока он проезжал мимо, у тамошней статуи головы Короля какие-то ребятенки посмеялись над евойными колесами с веревкой. Один еще крикнул, что по Генри баня плачет, но тот сделал вид, будто это не об нем, и дул себе до парка Беккетта – это который Коровий Лужок, по-старому. Невежды они, и растили их невежды. Если не слухать, они пойдут себе дальше и найдут другую глупость, чтобы посмеяться. Зато, думал Генри, они его не вздернут и не подстрелят, а раз так, то пускай себе кричат любую чепуху, что на ум взбредет. Раз ему хоть бы хны, то они только себя выставляют полудурками, вот и весь сказ.
У подножия он взял налево, объезжая старую стену из желтого камня и попав на Бедфордскую дорогу от парка, где опустил деревянные бруски и подтащил велосипед с тележкой к питьевому фонтану, что был в тамошней нише. Генри слез с седла и приставил машину к обветренным старым камням, между которых росли одуванчики, а сам подошел к фонтану и напился. Не то чтобы его замучила жажда, но коли он бывал здесь проездом, то любил сделать пару глотков, на удачу. Тут, говорят, утолил жажду святой Томас Беккет, когда проезжал через Нортгемптон много веков назад, и Генри этого было достаточно.
Нырнув в альков, Генри нажал бледной ладонью на захватанный латунный кран, а второй ловил в пригоршню изогнутую серебряную струйку и подносил к губам – так он повторил три или четыре раза, прежде чем промочил горло как полагается. Вода была что надо и со вкусом камня, латуни и евойных собственных пальцев. По мысли Генри – как есть святой вкус. Вытерев мокрую ладонь об блестящую штанину, он выпрямился и залез обратно на велосипед, привстал, чтобы привести его в движение. Генри понесло на юго-восток по Бедфордской дороге, сперва с парком и деревьями через дорогу, а потом пустыми полями до самого аббатства в Делапре. Стены и углы Нортгемптона отвалились назад, как ноша со спины, и между Генри и игрушечными деревнями в дымке на горизонте легла лишь плоская трава. Облака нашлепали, как картофельное пюре в синюю подливу, и Черный Чарли поймал себя на том, что насвистывает на ходу что-то из Сузы.
Марш снова вернул в мысли Буффало Билла – таким же он был надутым и важным, – а это навело на воспоминания о Канзасе и Эльвире Конли. Господь Бог ты мой, а не робкого десятка была эта женщина – открыла прачечную в Маршалле куда раньше массовой миграции и неплохо поживала. Она и Билла Хикока знавала, но Хикок под конец 1870-х уже лежал в могиле, когда Генри с родителями попали на Средний запад. Так Эльвира отзывалась об этом малом – нельзя не подумать, что в Диком Билле было немало доброго и свою репутацию он заслужил. Хотя, конечно, по-тихому, промеж своих она признавала, что Бриттон Джонсон, которого она тоже знавала и который к тому времени тоже был покойник, мог хоть штаны сострелить у Дикого Билла Хикока. Чтобы одолеть Бриттона Джонсона, понадобилось аж целых двадцать пять команчей, а не какой-то одинокий забулдыга и удачный выстрел в салуне. И все же даже малые дети знали о Буффало Билле и Диком Билле Хикоке, а о Бриттоне Джонсоне ни одна душа не слыхивала, и тут не надо долго думать, почему. Выглядел он – ну есть фараон, так говорила Эльвира. Без рубашки – настоящий красавец, вот ее точные слова.
Выше и левее, за огороженным пастбищем и черными лесными просторами, Генри едва различал верхушки крыш красивой больницы, которая там была для тех, у кого с головой не в порядке, но хватает денег на лечение. А кому не хватает, тем прямая дорога в работный дом в старом приходе Святого Эдмунда, на дороге Уэллинборо, или же в лечебницу в Берри-Вуд за поворотом на пути в Дастон. Оставив здание позади, Генри навалился на педали, когда мост вздыбился над речным притоком, и почувствовал щекотку в животе, будто ничегошеньки не весил, когда на другой стороне слетел вниз навстречу Большому Хафтону. Мыслями он еще был с Эльвирой, восхищался ею на понимающий и уважительный манер, не то что в юные деньки.
Так-то, конечно, она была только одна из многих выдающихся дам в тех краях и в те времена, но все же оказалась первой, кто в шестьдесят восьмом поднялся в Канзас, и Генри казалось, многие добрые женщины потом только шли по пути, проложенному Эльвирой, – хотя это ни в коей мере не преуменьшало их подвиг. Была там мисс Сен-Пьер Раффин – помогала людям деньгами со своей Ассоциацией облегчения. Была миссис Картер, супружница Генри Картера, – она уговорила мужа проделать с ней весь путь от Теннесси, пока он нес инструменты, а она – одеяла. Как подумать, так все переселение – женских рук дело, а мужья только плечами пожимали да делали вид, будто им и у себя неплохо. Нынче Генри видел, чего не видал раньше: это все потому, что тяжче всего на юге приходилось женщинам, из-за тамошних снасилий и того, как приходилось взводить детей. Мамка самого Генри тогда сказала евойному папке, что коли он не мужик и не могет перевезти жену с сыном туда, где безопасно и прилично, то она возьмет Генри и отчалит в Канзас самолично. Сказала, что если придется, то и пешком туда дойдет, как Картеры, – хотя, когда папаня наконец уступил, поехали они ладком на фургоне, как и все люди. От мыслей о тех временах у Генри, как обычно, раззуделось плечо, так что он оторвал руку от руля, чтобы почесать через куртку и рубашку, как получится.
Справа прошла водяная мельница, где вовсю расшумелись утки, поднимаясь с близлежащего пруда, от которого так отражалось утреннее солнце, что глаза режет. Шеридан, окрест Маршалла, – вот где обосновалась Эльвира Конли, когда рассталась с мужиком из армии, за которым была замужем в Сент-Луисе. В те деньки Шеридан считался хуже Доджа из-за картежных игр, смертоубийств и распутных женщин, но Эльвира стала там как королева – с высоко поднятой головой, статная, черная как смоль. Когда она пошла в гувернантки к старому богатею мистеру Булларду и евойной семье, детки Булларда хвалились, что она не меньше как родня каких-то африканских царей, а Эльвира знай себе помалкивала и слова поперек тому не говорила. Последнее, что дошло до Генри, – что она живет в Иллинойсе, да добра наживает, надеялся он.
Он продолжал путь с взбирающимся солнцем за спиной и придорожными лужами, сверкающими в глазах. По мохнатым полям понемногу ползли тени от гор облаков, словно лето уже валилось с ног, ковыляло, небритое, как бродяга. Бурьян в канавах вскипел и пролился на дорогу или целиком проглатывал заборы, где в умирающей жимолости болтались умирающие пчелы, стараясь растянуть сезон подольше и не дать ему ускользнуть. Справа он миновал узкую дорогу, которая завела бы его в Хардингстоун, и поднажал вдоль верхнего края Большого Хафтона, где встретил пару ползущих в другую сторону фермерских телег, груженных сеном. Мужик на козлах первой отвернулся от Генри, словно видеть его не хотел или не мог, но второй телегой правил краснолицый фермер, что знал Генри по прошлым заездам в эти края, и он натянул поводья, с улыбкой остановившись, чтобы поздороваться.
– Эй, Чарли, черный ты чумичка. Снова к нам воровать пожаловал? Эх, чудо, что у нас хоть два кола осталось, так ты нас ужо разорил.
Генри рассмеялся. Ему нравился этот малый, который звался Боб, и он знал, что сам в обратную нравился Бобу. А подначки – так в округе просто показывали, что ты человек свойный и с тобой можно посмеяться, так что отвечал он на тот же лад.
– Как же ты это не знаешь, что я давно приглядываюсь к твойному золотому трону – здоровому, на котором ты восседаешь, покуда слуги подают тебе оленину с разносолами.
Боб так зареготал, что спугнул кобылу. Когда он успокоился, оба узнали друг у друга, как поживают их жены с семьями и все прочее, затем пожали руки и каждый пустился своей дорогой. В случае Генри – до ближайшего поворота направо на верхнюю улицу Большого Хафтона, мимо школы с кустами ежевики, нависающими над забором. Проехал мимо деревенской церквы, затем загнал велосипед в карман у флигеля священника, где тамошняя старушка, что вела хозяйство, иногда отдавала ему что-нибудь негодное. Слезая с седла, Генри подумал, как красиво выглядел флигель – свет лежал на грубых коричневых камнях и плюще, раскинувшемся зеленым крылом над входом. Вся площадка пряталась в тени дуба, так что солнце падало через листья горящими детальками мозаики, разбросанными на булыжниках и тропинках. Кругом по веткам скакали пташки, что нисколько не испугались и не оборвали песню, когда он поднял железный молоточек с головой льва и опустил на большую дверь, крашенную в черный.
На стук ответила женщина, что звалась миссис Брюс и привечала его с радушным видом. Она пригласила Генри – главное, чтобы оставил башмаки на пороге, – и подала ему в зале чашку слабого чая и тарелку с бутербродами, покуда сама разыскивала мелочишку, отложенную впрок к евойному приезду. Он сам толком не знал, почему принимал миссис Брюс за старушку, хотя она не могла быть сильно старше самого Генри, – а значит, ей где-то лет под шестьдесят. Волосы у нее были белые, как снег, но так и у него такие же, – так что он был уверен, что это все из-за ейного поведения: имелось что-то у нее в манерах от матери Генри. Наливая ему чая, она улыбалась и, как водится, спрашивала всякое-разное про религию. Она часто ходила в церкву, как и он, – только еще миссис Брюс пела в хоре. Покуда она хлопотала по комнате и собирала для него нестаточную одежду, пересказала все свои самые любимые гимны.
– «Окончен день, что даровал Господь» [25]. Этот мне тоже весьма угоден. А поют ли гимны там, откуда вы родом, мистер Джордж?
Опуская кукольную фарфоровую чашечку от губ, Генри подтвердил, что еще как.
– Да, мэм. Но церквы у нас и в помине не было, потому мои родители пели за работой или еще у костра ввечеру. Ох и любил я эти песни. Мне их напевали на ночь.
Приглаживая кружевные тряпицы на подлокотниках, или как бишь они называются, миссис Брюс вгляделась в него с сочувствующим выражением на лице:
– Бедняжка. А вам нравились какие-нибудь больше других?
Генри кивнул, посмеиваясь, отставляя пустую чашку на белое блюдце.
– Мэм, как по мне, так одна обходила все другие напрочь. Милей всех мне была «Изумительная благодать» – не знаю, слыхали вы про такую?
Старушка просияла улыбкой:
– О-о, да, замечательная песня. «О, благодать, спасен Тобой я из пучины бед». О-о, да, знаю-знаю. Замечательная.
Она подняла взгляд к планке с ейными фотографиями, чуть ниже потолка, и наморщилась, будто о чем задумалась.
– А знаете ли, кажется мне, словно тот, кто ее написал, жил неподалеку отсюда, если только я не путаю с кем-либо еще. Джон Ньютон, ведь так его звали? Или же Ньютон срубил яблоню и говорил, что не может врать?
Переварив все это и распутав, он объяснил, что, по евойному разумению, человек по имени Ньютон сидел под яблоней и разгадал, почему все падает книзу, а не кверху. А малый, что сказал, будто не могет врать, это президент Джордж Вашингтон, и насколько знал Генри, срубил он вишню. Она, кивая, слушала:
– Ах. Вот где я ошиблась. Его семья тоже отсюда родом, этого генерала Вашингтона. А автор «Изумительной благодати», стало быть, мистер Ньютон. Насколько я помню, он был приходским священником выше по дороге, у Олни, – впрочем, поклясться в этом не могу.
Генри это взбудоражило так, как он сам не ожидал. Он искренне сказал, что это его любимая песня, а не просто потрафил пожилой даме. Генри вспомнил, как женщины пели ее в полях, вместе с евойной мамкой, и в припеве как будто было пол евойной жизни. Он слышал песню с самой колыбельки и с давнишних пор думал, будто это песня черных, будто она есть испокон. От слов об этом самом пасторе Ньютоне у Генри аж голова пошла кругом – подумать только, как далеко он прошел с той поры, как впервые услыхал песню, только чтобы оказаться по случаю у порога того, кто ее написал.
Ему и самому было невдомек, откуда они с Селиной взяли в голову поселиться в Нортгемптоне и растить тут детей после того, как прибыли сюда с большим гуртом овец из Уэльса, пробираясь в сером живом море животных; о таких огромных стадах Генри даже не слышал в тех краях, откуда был родом. Жизнь помотала его по всему свету, но он не тужил и всегда думал, что это промысел Божий и что не дело Генри – знать Евойную цель. И все же чувство, что нашло на них с Селиной, когда они впервые увидали Боро – с Овечьей улицы, куда прибыли и откуда перешли к улице Алого Колодца, что и стала им родным домом, – когда они увидали низенькие крыши, им почудилось, будто что-то в этом месте да есть, теплилась какая-то душа под дымом из труб. Теперь для Генри все складывалось, стоило услыхать о мистере Ньютоне, «Изумительной благодати» и прочем. Может, это какое святое место, раз отсюда вышел такой святой народ? Он сам понимал, что, обычным делом, раздувает из мухи слона, словно круглый дурачина, – но от этих вестей Генри воспарил душой, как не воспарял с самого детства, и не сойти ему с этого места, коли не так.
Они с миссис Брюс еще поболтали о том о сем в зале, доканчивая чаи с хлебом, пока в свете из-за тюля блестели пылинки, а в углу по-кладбищенски тикали напольные часы. Как закончили, она всучила ему отобранное шерстяное тряпье, а потом проводила до двери, где он все сложил в тележку, волочившуюся за велосипедом. Он тепло отблагодарил ее за одежду, а еще за чай и беседу, и сказал, что обязательно наведается, когда будет здесь проездом другим разом. Они помахали друг дружке и пожелали самого лучшего, затем Генри погрохотал назад по верхней улице на своих обернутых веревкой колесах, а за ним в кувыркающихся листьях и ярких лучах полудня тянулся не в лад мотив «Изумительной благодати».
Выехав с большой улицы и воротившись на Бедфордскую дорогу, он направился вдоль по ней на восток. Солнце теперь было без малого у него над головой, так что по пути он почти не отбрасывал тень, пыхтя, когда налегал на педали, и припеваючи, когда катился сам по себе. Справа, когда он отбыл из Большого Хафтона, виднелось деревенское кладбище с белыми надгробиями, горевшими на солнце ярко, как подушки на одеяле из дремлющей зелени. Через какое-то время слева он миновал дорогу, которая привела бы в Малый Хафтон, но там ему делать было нечего, так что он отправился дальше, подчиняясь изгибу дороги на юго-запад, к Брэфилду. Вдоль пути Генри поднимались стоймя живые изгороди, порою такие высоченные, что когда он спустился в лощину, то ехал в их тени. Низко в зарослях орляка тут и там виднелись прогалины, которые наверняка вели в логовища – то ли зверей, то ли деревенских мальчишей, то ли еще какой дикости. Как ни крути, а кого-то с кровью на рыле и черной грязью на лапах.
Земля здесь была по большей части сельскохозяйственными угодьями, и до того плоской, что должна бы напоминать Канзас – но так, да не так. Примерно сказать, в Англии куда зеленей и всяких цветов будто бы куда больше, просто пропасть – может, из-за того, как местные любят разводить сады, даже жители улицы Алого Колодца в свойных маленьких кирпичных двориках. А еще у местных прошло куда больше времени, чтобы стать дошлей и смекалистей в самых простейших делах: если собирали ометы, то умели уложить солому сверху, чтобы сделать крышу, а стенку из камней без цемента умели построить так, что она три сотни лет простоит. Он видал такое на всем просторе страны – всяческие пустяки, которые смекнул чей-то прапрапрадед, когда на троне еще сидела какая-нибудь королева Елизавета. Мосты и колодцы, и каналы с запорными шлюзами, где мужики в сапогах до колен бредут по глине, чтобы заняться чинкой. Всюду налицо хитрая наука, даже там, где человека будто и в помине нет. Одинокие деревья по пути, что на вид будто росли по одному только хотению слепой дикой природы, на самом деле насадили много лет назад по каким-то нарочным причинам, не сомневался Генри. Может, защита от ветра для полей, которых там уже не было, или для урожая твердых кислых дикушек, чтобы кормить свиней мешанкой. Окрест раскинулось лоскутное одеяло полей, и каждый неровный стежок был неспроста.
Он проехал через Брэфилд, когда на церкве Святого Лаврентия раз ударил колокол, обозначив час дня, и задержался на несколько минут на выезде из-за овец, заполонивших дорогу, так что пришлось ждать, пока их отправят по прогону на пастбище. Человек, который гнал блеющий скот, с Генри не заговорил, но как бы кивнул и малость приподнял козырек кепки, поблагодарив за долготерпение. Генри улыбнулся и кивнул в ответ, словно говоря, что ему не в тягость, как оно по правде и было. Пастуху следить за скотом помогал английский колли, и Генри подумал, что они всегда были приятны его глазу. Ничего не поделать, к гончим у него неровно лежала душа с тех самых пор, как он впервые увидал их в Уэльсе в девяносто шестом. Его поражало, какие у них голубые глаза и как они всё-всё понимают, что ты им ни скажи. Там, откуда Генри приехал, – а это Нью-Йорк, а перед тем Канзас, а еще раньше Теннесси, – таких собак и в помине не было. Он почесал плечо, глядя, как последние овцы волочат свои вонючие задницы через калитку на пастбище, где им и место, и затем продолжал путь. В Брэфилде не жило никого, кого бы он по-хорошему знал, и вдобавок ему была охота ехать в Ярдли долгой дорогой – куда лучший путь, покуда день не пошел к концу.
Облака над головой плыли, как корабли, будто ты ехал на велосипеде с прицепом по дну прозрачного океана, не нахлебавшись воды. Генри слушал звенящий ритм колес и мерное умиротворяющее щелканье кривой спицы. Дорога шла напрямки мимо Дентона, так что думать о пути было без надобности, только знай себе слушай сплетни деревьев или воронье в отдалении, хохочущее над чем-то скверным с голосами, как ружейные выстрелы.
Ему не понравилось путешествие по океанским волнам, на борту «Гордости Вифлеема», отчалившей из Ньюарка в Кардифф. Генри уже тогда было под пятьдесят, а в таком возрасте в море не тянет. Покуда мамка с папкой были живы, он оставался в Маршалле – провел там, можно сказать, лучшие годы, приглядывая за ними, хоть и не жалел ни об едином дне. Но когда они скончались, больше его в Канзасе ничего не держало, раз не осталось семьи или близких людей. Эльвира Конли – она тогда уже работала у Буллардов, проводила с ними много времени в отпускных разъездах, так что Генри ее почти не видал. Его понесло на восток, на побережье, в скрипучих трясучих железнодорожных вагонах, а когда подвернулась оказия отработать проезд на старом грязном пароходе с грузом стали, уходящем в Британию, он схватился за нее обеими руками. Безоглядно – хотя это не из-за какой великой смелости, а просто потому, что он и думать не думал, как далеко окажется эта самая Британия.
Генри не знал, сколько целых недель провел на воде – может, не больше парочки, да только казалось, что это тянется целую вечность, и временами ему так плохело, что он уж думал, помрет, так и не повидав снова твердой земли. Сколько мог, он держался на нижних палубах, чтобы глаза не видели бесконечных железных бурунов, – швырял уголь лопатой в котельной, где белые кочегары все спрашивали, как это он не снимает евойную рубашку, как они, хотя стоит такая жара и духота? А Генри только улыбался и говорил: нет, сэр, ему не жарко, он видал места и потеплее, – хотя, очевидно, взаправду не это была причина, отчего он не работал наголо. Кто-то пустил слух, будто он стыдится третьего соска, и Генри казалось, пусть уж лучше так говорят, раз это кончало все расспросы.
На «Гордости Вифлеема» везли листовой металл, а заместо балласта – что угодно, от конфет до детских книжек и грошового чтива. Тогда Соединенные Штаты выпускали больше стали, чем Британия, так что и продавать могли дешевле, даже с ценой отправки через море. Вдобавок на возвратном пути они везли домой шерсть из Уэльса, так что владельцы имели замечательный куш с обоих концов маршрута. Когда он не трудился в поте лица и не лежал с дурнотой, Генри проводил время за чтением баек с Дикого Запада на уже пожелтевших страницах брошюр, предназначенных для пятилетних и десятилетних детей. Во множестве историй героем был Буффало Билл – стрелял бандитов и защищал караваны от ренегатов, хотя взаправду был всего лишь клоуном в странствующем цирке. Уильям Коди. Если и есть другой какой человек, достойный каменной рожи с одними только трубами в соседях, что пускают дым в глаза, то Генри о нем не слыхивал.
Черные поля справа от него, на которых совсем недавно жгли стерню, принадлежали Грэйндж-Фарм, что будет впереди. От одного обугленного корешка к другому скакали белые птицы, и Генри принял их за чаек, хотя эти края так далеко от моря, как только могет быть в Англии. Впереди проезд разваливался надвое – к деревенской площади Дентона уходила дорога, что прозывалась Нортгемптонской. Дентон – славное местечко, но много там не соберешь. Генри туда лучше наведываться раз или, могет быть, два в год, чтобы не проездить впустую, и теперь он выбрал правую тропу, чтобы объехать деревню с юга и продолжать к Ярдли – до местечка, что прозывалось Ярдли-Хастингс. У самого Дентона его застал грибной дождик, но накрапывал так слабо, что, проехав наскрозь, Генри не почувствовал и двух капель на лбу. Теперь в облаках над ним стояла пара башен из гладкого серого мрамора среди белизны, но все одно по большей части небо оставалось ясно-голубым, и старьевщик сомневался, что дождик соберется во что пострашнее.
Далеко слева Генри различал темные лоскуты лесов вокруг Касл-Эшби. Он бывал там раз, когда повстречал местного, который все уши прожужжал об этом селе и о том, как, когда в древнем Лондоне хотели поставить у ихних городских ворот двух деревянных великанов по имени Гог и Магог, деревья завезли именно из Касл-Эшби. Тот малый гордился родиной и ейной историей, как и многие в округе. Он говорил Генри, что, мол, это священный край, потому-то в Лондоне и хотели деревьев отсюда. Генри сомневался насчет святости Нортгемптона, что тогда, что сейчас, даже прослышав о преподобном Ньютоне и «Изумительной благодати». Вестимо, место особенное, но «священное» – у Генри так язык не повернется сказать. Перво-наперво, когда что-то священное, оно малость почище, чем было на улице Алого Колодца. Но, с другой стороны, думалось ему, малый хоть в чем-то прав: если что здесь и есть священного, то это деревья.
Генри помнил, и как впервые прибыл в эти края со своей новой женой, и то дерево, что они тогда увидали, когда он прожил в Британии уже больше шести месяцев. Сойдя с корабля в Кардиффе и твердо порешив, что обратного морского путешествия нипочем не снесет, Генри нашел себе кров в местечке под названием Тигровая бухта, где жили и цветные. Но оказалось, к этому душа Генри не лежала. Он как будто вдругорядь оказался в Канзасе, где все цветные сгрудились в одном районе, который гнил, покуда в Канзасе не стало прямо как в Теннесси. Да, свой народ он любил, но не когда их отмежуют от всех прочих, словно они в чертовом зоопарке каком. И Генри пешком пустился в глубь Уэльса, и там-то на пути в одном местечке – Абергавенни, что на речке Уск, – повстречал Селину. Они так скоро влюбились и без промедления женились, что от одной мысли голова кругом. И еще от того, как тут же отправились в Билт-Уэллс, на перегон скота. Не успел Генри и глазом моргнуть, как понял, что женат на белой красавице вдвое младше его, лежит в поле под растянутым брезентом с ней под боком, а в ночи снаружи кричали и ворочались сто тысяч овец, что они оба пособляли гуртовать в Англию. В дороге они провели не меньше, чем «Гордость Вифлеема» шла в Британию, но в конце концов перешли, как он теперь знал, через Спенсеровский мост, потом поднялись по Журавлиному Холму и Графтонской улице на Овечью, и там-то увидали дерево.
Генри пробрел через отару, что кишела на широкой улице, и встретил старшего погонщика в воротах церквы, что прозывалась церковь Храма Господня, – самая древняя и страховидная церковь, что он видал в жизни. Начальник выдал ему расписку и велел отнести в место, что прозывалось Валлийский дом, на рыночной площади, где Генри и выдадут жалованье. Они с Селиной отправились по Овечьей улице в центр города, и на открытом дворе справа и стояло то дерево: здоровый бук, да такой огроменный и древний, что они замерли и дивились ему, раскрыв рот, хоть расписка жгла карман Генри из-за мешканья. Оно было таким широким, то дерево, что его бы только четверо или пятеро человек охватили, вытянув руки, и позже он слыхал, что ему семьсот лет возрасту, а то и пуще. Коли видишь такое старое дерево, как тут не задуматься, чего оно успело насмотреться за все время. Рыцарей на конях, как здесь раньше были, и всякие битвы, как в английской Гражданской войне, что разгулялась сильно раньшей американской. Как тут не стоять с распахнутыми глазами, как они тогда с Селиной, и не задуматься, откуда взялись все отметины и шрамы – от пики ли, а то и от мушкетной пули. Поглядели они недолго, а затем забрали оклад Генри, походили по городу и нашли себе местечко на улице Алого Колодца, что и сама была видами видная, но только Генри верил, что то дерево не хужей всяких разумных доводов сыграло важную роль в том, как они с Селиной порешили тут поселиться. От него весь город казался прочным и глубоко пустившим корни. И на ветках никто не болтался.
Было уже за два часа дня, когда он добрался до Ярдли. На первом повороте налево он поднялся на север – по дороге под названием Нортгемптонская, прямо как в Дентоне, – и въехал на деревенскую площадь, где стояла школа – красивый дом из камней цвета масла и со славной аркой, что вела на игровую площадку. В окнах школы виднелись детишки, занятые уроками – что-то вырисовывали на листах оберточной бумаги за длинным деревянным столом. У Генри было дело до смотрителя школы, так что он остановил велосипед напротив главного корпуса, рядом с местом, где тот жил. Генри опережал этого малого на несколько годков, но тому не повезло лишиться почти всех полос, так что он казался старше Генри. Он ответил на стук, но внутрь не приглашал, хотя уже имел под рукой заготовленный мешок с негодными вещичками, который и вынес на порог, прибавив, что Генри могет их забирать, коли хочется. Там нашлись пара пустых фоторамок – Генри стало дюже интересно, что же в них было раньше, – пара старых башмаков и штаны из рубчатого плиса, рватые сзади почти до половины. Он вежливо отблагодарил смотрителя, сложив все в телегу вместе с тем, что забрал в Большом Хафтоне, и только было собирался пожимать руки да отбывать, как ему пришло в голову спросить, далеко ли до Олни.
– Олни? Это рукой подать.
Смотритель смахнул пыль с рамок о комбинезон, потом показал через деревенскую площадь налево.
– Видишь там Малую улицу? Тебе нужно проехать по ней до Верхней, которая вернет на Бедфордскую дорогу. Держи по ней, пока не выедешь из Ярдли, и уже скоро увидишь по правую руку проселок от большой дороги. Сворачивай – это дорога Ярдли, прямиком вниз по холму до Олни. Но надо сказать, путь выйдет в три мили туда – и пять миль обратно, учитывая, какой крутой склон.
Это и в самом деле казалось совсем близко, знаючи, что сюда он подоспел мигом. Генри был признателен за подсказку и ответил, залезая обратно на велосипед, что повидает смотрителя еще раз до Рождества. Они распрощались, а он с силой встал на педалях и покатил по Малой улице между лавками, по которым сновали женщины – с темными узлами под чепчиками, на золотых тротуарах полудня.
Он свернул направо, на Верхнюю улицу, и она вернула его на Бедфордскую дорогу, как и обещал смотритель. Он покинул деревню, миновав таверну «Красный лев» у поворота, куда с полей уже стягивались фермеры с сухими глотками и молча поглядывали на него, проезжавшего мимо. Но косые взгляды могли быть и от евойных веревочных шин, а вовсе не от цвета кожи. Генри потешало, как местные со всякими учеными способами ложить стены, вязать изгороди и всем таким вечно делали вид, будто веревка на ободах – самое дивное диво, что они видали. Он так мог бы вместо шин накрутить на колеса дрессированных гремучек, чтобы послушать соседские пересуды. А ведь Генри всего-то подсмотрел этот трюк у других цветных в Канзасе. Веревки дешевше, не сносятся, как резина, и не прокалываются, а Генри только того и надо. И ничего другого он не задумывал.
За Бедфордской дорогой, ровнехонько напротив съезда с Верхней улицы, земля проваливалась книзу, а за ней следовал и речной приток, так что получался водопад. Разлетавшиеся брызги ловили скошенный свет и светились чахлой радугой, зависшей в воздухе, с такими бледными красками, что они то и дело пропадали из глаз. Генри свернул налево на большак и проехал от Ярдли с четверть мили, прежде чем нашел крутую дорожку, убегающую направо, под знаком с надписью «Олни», да только сказать, что дорожка была крутая, – ничего не сказать. Он понесся по ней как ветер, поднимая стеклянную пелену воды, когда не мог объехать лужи на трети пути донизу, где кругом были целые разливанные пруды с мошкарой в парящей скверной мари. На такой-то скорости и пяти минут не прошло, как он уже видел впереди деревенские крыши. Генри скользил деревянными брусками по проселку, мало-помалу замедляясь, чтобы не сверзиться, прежде чем доберется по назначению. Задним умом уже думал, как много тяжче будет карабкаться назад, но отбросил такие мысли заради большого приключения, когда мчался, как бутылочная ракета, а веревочные шины шипели в высохших коровьих лепешках.