Энциклопедия мифов. А-К Фрай Макс
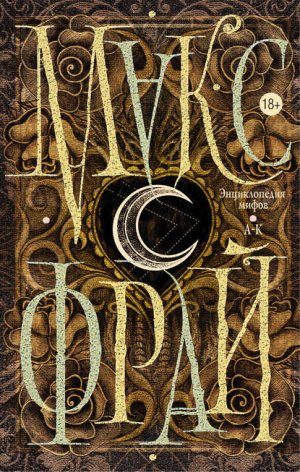
– Празднуем? А, ну да, у нас «последний звонок» с утра был.
– Вот оно что. Ну, удачи!
Я помахал им рукой и отправился дальше. Встряска пошла мне на пользу: настроение исправилось, давешний страх перед всем на свете куда-то подевался, метафизическая неопределенность моего положения кружила голову. Сейчас я, пожалуй, не отказался бы от приключения-другого. Слова Оллы: «У тебя все будет в порядке, лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать», – вдруг проявились в памяти и теперь звенели в ушах. Жизнь определенно налаживалась. Я даже замурлыкал что-то себе под нос: фальшиво, но задушевно.
18. Аск и Эмбля
В скандинавской мифологии первые люди, которых ‹…› бездыханных и «лишенных судьбы» нашли на берегу моря боги…
До улицы имени мумии я в эту ночь так и не добрался.
Все потому, что мне на глаза попалось симпатичное кафе, где часть столиков была помещена не на тротуар у входа, а выставлена на открытой веранде под полосатым (зеленое, розовое, белое, опять зеленое) тентом. Кафе имело наглость именоваться «Венским»; такое самозванство скорее подкупало, чем раздражало. Вероятно, сей островок европейского уюта открылся совсем недавно: этот переулок я пересекал чуть ли не ежедневно и твердо знал, что до сих пор единственным увеселительным заведением здесь мог с некоторой натяжкой считаться магазин детского питания, где по утрам тусовались юные мамочки, изнывающие от тягостного однообразия своего нового образа жизни. А вот кафе, ни «Венского», ни «Парижского», ни даже «Урюпинского» какого-нибудь, тут до сих пор отродясь не было.
Я люблю обживать новые забегаловки; в последнее время деньги, которые мне удавалось заработать, уходили почти исключительно на поддержку нарождающегося кооперативного общепита. К тому же настроение у меня после давешнего столкновения с «луноходами» было приподнятое, хвала отечественной космонавтике! Ясное дело, я обосновался на пустой веранде, возле открытого окна, из которого сочились аппетитные запахи и приглушенные голоса. Достал из кармана сигареты, приготовился ждать барышню с меню.
Я расположился таким образом, что декоративная ажурная ставня скрывала меня от посетителей, устроившихся в полутемном зале кафе. Я, впрочем, тоже их не видел, зато акустика здесь была прекрасная.
Это – одно из моих хобби: обожаю подслушивать болтовню незнакомых людей, которые не подозревают о моем присутствии. Не то чтобы я действительно интересовался чужими делами, да и что можно уяснить об этих самых делах, суммируя случайные обрывки фраз? Увлечение мое скорее сродни безобидному коллекционированию: вырванные из контекста беседы, фрагменты разговоров порой оказываются уморительно забавными или причудливо переплетаются с моими собственными сиюминутными размышлениями, а иногда звучат чуть ли не пророчески.
Вот и сейчас я прислушался к голосам, долетавшим до меня из помещения. Почти сразу же выделил два, мужской и женский. Их обладатели сидели совсем рядом со мной, вероятно, возле самого окна или в нескольких шагах от него. Уши мои затрепетали: это явно была не деловая беседа, не светский гон и, тем паче, не любовное воркование. Это было… это было так странно!
– Ты же знаешь, Франк обожает таскать за собой непосвященных, – вкрадчивым шепотом говорила женщина. – Просто людей с улицы. Уводит на ту сторону и там бросает на какое-то время. Затаится и наблюдает исподтишка: выплывет, не выплывет…
– Но это же свинство, – резко констатировал мужчина.
– Свинство? Не знаю. Может быть. Но… С другой стороны, это прекрасно. Это – шанс.
– Угу. Шанс умереть более экзотическим способом, чем это обычно случается. Шанс угодить в психушку. Ты была когда-нибудь в нашей Катерининке? Найди предлог, зайди, полюбуйся. Это пострашнее, чем Тупиковый Путь… Наверняка там полно приятелей Франка. Возможно даже, их собрали в одном отделении, по принципу схожего бреда…
Тут мне пришлось ненадолго отвлечься, поскольку мое присутствие было наконец обнаружено некими загадочными повелителями местных материальных благ. Из темноты выпорхнула юная официантка, состоявшая, кажется, почти исключительно из ног и ресниц: и то, и другое радовало глаз фантастической длиной. Молча протянула меню – неужели почувствовала, что я страстно желаю оставаться незамеченным?
Впрочем, содержание толстого тома в твердом зеленом переплете заставило меня на время позабыть о странном диалоге за окном. Цены здесь были более чем щадящими, а выбор потрясал воображение. В списке коктейлей обнаружился даже джин-тоник – по нынешним временам это нормально, но в начале девяностых, да еще и на расстоянии чуть ли не полутора тысяч километров от Москвы, о джин-тонике можно было разве что почитать в переводных детективах. Там его, конечно, были моря разливанные, хватало не только на центральных персонажей, но и эпизодическим доставалось. Теперь в шкуре такого «эпизодического персонажа» мог оказаться я сам. С ума сойти!
Я молча показал длинноногой фее открытое меню, выразительно постучал пальцем по строчке, сулящей мне прохладную смесь хининовой горечи и хвойного аромата. Она понимающе кивнула и ушла, оставив меню на столе, дабы я мог в уединении наслаждаться содержанием этого выдающегося литературного произведения. Я открыл его наугад и прочитал: «Салат из авокадо с креветками». Креветки всегда казались мне пищей богов, но вот «авокадо» – что за зверь такой? Я озадаченно покачал головой. Однако знакомый голос оторвал меня от приятного чтения: теперь снова говорила женщина, взволновано, а потому довольно громко. И не хотел бы я ее слушать – пришлось бы. Но я-то как раз хотел…
– А ты представь себе на минутку, что ты – обычный человек. Живешь словно в скучном сне, ходишь туда-сюда по кругу, как цирковая лошадь, самое мистическое событие в жизни – чтение ксерокса «Камасутры», а жить тебе осталось всего-то лет тридцать-сорок, не больше, хотя тело уже сейчас можно бы выбрасывать на помойку, не глядя… Но примерно раз в год ты случайно поднимаешь глаза к небу, видишь там полную луну и едва сдерживаешь желание завыть по-собачьи от тоски, а о чем тоскуешь – и сам не знаешь, да и не узнаешь никогда…
– Ну тебя, – почти сердито откликнулся мужчина. – Ты сначала думай, а потом говори. Я же все-таки ем…
– А я хочу, чтобы тебя проняло. Чтобы ты вспомнил, как люди живут. Чтобы на шкуре своей это прочувствовал.
– Считай, что уже прочувствовал.
– Да? Ладно, поверю тебе на слово. А вот теперь представь, что в одну из таких редких ночей, когда твое сердце оплакивает несбывшееся, а глупая голова предпочитает думать, будто это обычная депрессия, появляется наш Франк и говорит: «Ну что, пошли на небо?» Он ведь силой никого за собой не тащит, не забывай. Сами идут, как миленькие. И ты бы пошел, и я бы за ним пошла, даже если бы знали, чем это все может закончиться… А сколько таких несчастных всю жизнь ждут своего Проводника! Но Франк один, да и стих на него нечасто находит… А жаль.
– А с какой стати ты меня вообще уговариваешь? Ты же знаешь, я Франку не владыка, мешать я ему не стану, да и невозможно ему помешать… Это спор ради спора? Все еще хочешь меня победить? Но ведь мы уже давно не соперники.
– Не соперники, – соглашается женщина, и я чувствую, что она улыбается. – И это не спор ради спора. Ты меня невнимательно слушал. Все было сказано лишь затем, чтобы завершиться фразой: «Жаль, что Франк один такой».
– Ты собираешься заняться тем же? Таскать за собой непосвященных? Дело хозяйское, конечно, но…
– Не говори ерунду. Я не подхожу для этой роли; общеизвестно, что я – скверный Проводник. Мое дело – ходить туда, где никто из наших еще не бывал. И хожу я туда одна или с тобой, ты ведь знаешь… Ты все про меня знаешь.
Моя фея вернулась, принесла длинный узкий стакан. В прозрачной жидкости плавали кубики льда, соломинку венчала лимонная долька. Она бесшумно поставила стакан на столик, рядом положила чек. Я полез в карман за деньгами, но она уже ушла: видимо, я не был похож на человека, способного удрать, не расплатившись. По большому счету, впечатление сие обманчиво, но из этого кафе я убегать не собирался – еще чего! Я был твердо намерен стать его завсегдатаем.
Я сделал первый в своей жизни глоток джин-тоника и вознес хвалу щедрым небесам, которые наконец потрудились излить на меня концентрат благодати. Это было здорово: найти свой напиток почти так же трудно, как встретить свою женщину. С пунктом номер два у меня пока ничего не получалось (впрочем, я не сетовал на судьбу: в таком деле процесс поиска весьма увлекателен сам по себе); зато пункт номер один был, наконец, осуществлен. Только что. Я расплылся в блаженной улыбке, закурил… и обругал себя последними словами. Теперь эти загадочные ребята в зале обнаружат мое присутствие и умолкнут. Или просто пересядут подальше: я сам на их месте именно так бы и поступил.
Голоса их, впрочем, умолкли несколько раньше, чем вспыхнула моя спичка: я машинально это отметил, хоть и был чрезвычайно увлечен дегустацией. А через несколько секунд стало понятно, почему мои загадочные незнакомцы замолчали: они просто закончили ужинать и собрались уходить. На пороге появилась парочка: миниатюрная белокурая женщина и мужчина средних лет, очень бледный, худощавый, с длинным лошадиным лицом и коротко подстриженной бородкой. Я посмотрел на них, и у меня перехватило дыхание. Впервые в жизни я был совершенно уверен, что встретил своих. «Голос крови» – так, что ли? Описать это ощущение невозможно: оно не было похоже ни на влюбленность, ни даже на симпатию, которая, случается, вспыхивает мгновенно между совершенно незнакомыми людьми. В организме бушевала адреналиновая буря, сердце буравило ребра, огненные молоточки охаживали виски, но на фоне столь экстремальной физиологической реакции я оставался спокойным и счастливым, каким на своей памяти не был никогда. Через несколько секунд стало полегче, однако твердая уверенность в том, что передо мной – свои, оставалась при мне. Странно вообще-то: к людям, особенно незнакомым, я, как правило, отношусь с равнодушной настороженностью – это в лучшем случае. Однако сегодня все было странно…
– А этот как тут оказался? – наконец спросил мужчина у своей спутницы, бесцеремонно тыча в мою сторону перстом. – Или он тоже из наших? Но я его не знаю.
– И я не знаю. Может, из наших, может, – нет. Так сразу и не разберешь.
Она подошла ко мне, лучезарно улыбнулась и уставилась на меня с нескрываемым любопытством. В ее манерах было что-то детское, и это «что-то» действовало на меня обезоруживающе. Я не только терпел ее изучающий взгляд, но и был готов по первому требованию встать, покрутиться и даже раздеться, чтобы ей было удобнее производить осмотр.
– А как вы сюда попали? – наконец спросила она. Никаких там «извините, пожалуйста», «позвольте полюбопытствовать» или «не-мог-ли-бы-вы-мне-ска-зать», – однако ее манеру обращаться нельзя было счесть невежливой, столько в ее голосе было неподдельной доброжелательности.
– Просто шел по улице, – растерянно объяснил я. – Вижу: новое кафе появилось. Поднялся по ступенькам, сел на веранде. Ничего особенного. А почему вы спрашиваете? – тут меня осенило, и я понимающе выпалил: – Вы – хозяева этого кафе, и вам интересно, как работает реклама?
Сказал эту чушь вслух и сам понял: идиот. Нет ничего глупее, чем объяснять невозможные вещи, цепляясь за обыденные конструкции: только ногти сорвешь, ерундой занимаясь. Прекрасная незнакомка, однако, не стала меня высмеивать, хоть и следовало бы.
– Да нет, – говорит, – как работает реклама, мне как раз не слишком интересно. Мне интересно, как вы смогли зайти в кафе, которого не существует. Оно могло бы быть, если бы некоторые обстоятельства сложились иначе. Но они сложились как сложились, поэтому никакого кафе тут нет. А это – она сделала плавный жест рукой, как бы лаская воздух в метре над полом веранды, – всего лишь неосуществленная вероятность. Одна из. Это… Ну, собственно говоря, это и есть несбывшееся.
– Не морочь человеку голову. Для начала ему надо отсюда выбраться, – вмешался ее бородатый спутник. – У тебя есть идеи?
– У меня? У меня нет никаких идей. Но все как-нибудь образуется… Помнишь, кто-то, то ли Рон, то ли Анна, говорил, что человек, лишенный судьбы, способен на все… мы еще тогда никак не могли взять в толк, о чем речь, помнишь?
– Это говорила Анна, – кивнул мужчина. – Но она у нас с приветом…
– Ну и что? В этом ее сила, – пожала плечами женщина. – Эй, а может быть, ты тоже лишился судьбы? – теперь она обращалась ко мне, легко сменив официальное «вы» на невесомое «ты». – Как думаешь, могло такое с тобой случиться?
– Со мной сегодня могло случиться все что угодно, – вздохнул я. – Не далее как час назад я распутывал нитку, символизирующую мою прежнюю жизнь; в это время под дверью скулили демоны, но дух-хранитель дома, принявший облик старого толстого алкаша, их обезвредил, а потом улегся на мой потолок и велел мне убираться прочь из этого города… И это только десятая часть всего, что со мной сегодня случилось.
Сам не знаю, как меня угораздило все это им выложить. Впрочем, оно словно бы само собой рассказалось, без моего деятельного участия. Потому ли, что я был уверен, будто оказался наконец среди своих, потому ли, что исповедь помогает бороться со стрессами, или просто джин-тоник мне язык развязал – но даже умолкнув, я не испытал смутного сожаления о своей болтливости. Напротив, радовался, что у меня хватило духу заговорить о вещах, которые казались мне тогда чрезвычайно важными.
– Ну вот видишь? – белокурая женщина торжествующе подмигнула своему спутнику. – И так бывает.
– Какая у людей жизнь интересная! – его ирония была очевидна, но я не обиделся. Я не смог бы на них обидеться, даже если бы очень захотел.
– Я знаю, что тебе надо делать, – женщина, кажется, испытывала ко мне искреннюю симпатию. – Мы сейчас уйдем, и этого кафе не станет… по правде говоря, я просто не знаю, что будет с этим местом после того, как мы уйдем. Но, скорее всего, оно просто исчезнет, поскольку существует лишь потому, что мы выяснили: оно могло бы быть… впрочем, ладно, это слишком сложно…
– А я куда денусь, когда все исчезнет? – сколь бы диковинными не казались мне ее речи, но мой инстинкт самосохранения – это нечто. Он работает, даже когда я сам не гожусь ни к черту.
– Хороший вопрос. Ответ на него можно получить лишь экспериментальным путем. Но я бы не советовала – без подготовки-то… Нет, ты сейчас сделаешь вот что. Ты закроешь глаза и побежишь, и…
– И грохнусь мордой на асфальт не позже, чем через полторы секунды. Тут же ступеньки, – укоризненно заметил я.
– Прежде, чем давать столь экзотические инструкции, следует предупреждать, что их точное исполнение – единственный шанс выжить, а промедление смертельно опасно, – бесстрастно заметил мужчина. Он демонстративно обращался к своей спутнице, но, ясное дело, рассчитывал, что я его услышу. И не ошибся в расчетах: я обмер и заткнулся.
– Ну вот, – спокойно продолжила женщина. – Сейчас ты закроешь глаза и побежишь изо всех сил, так, словно за тобою гонится толпа голодных духов. Впрочем, в некотором смысле, так оно и есть… Ты будешь бежать до тех пор, пока тебя не остановит некое внешнее препятствие. Это, конечно, может быть и фонарный столб, в который ты врежешься, но некоторым везет, и они попадают в дружеские объятия… В момент остановки ты обретешь новую судьбу взамен утраченной. И имей в виду: этот трюк можно проделывать всякий раз, когда пожелаешь сменить судьбу. Он очень эффективный, ты еще удивишься, когда обнаружишь, что судьбу можно менять, как одежду… а можно и чаще.
– Когда я захочу изменить свою жизнь, я могу… побежать? И все? Как это может быть? Слишком просто.
– Просто, да не слишком. Тут требуется безлюдное место, темнота и особое настроение, которое позволит тебе мчаться, сломя голову, с закрытыми глазами, не заботясь о ближайшем будущем, и выкинув из головы эту глупую конструкцию: «мордой об асфальт»… Сейчас-то все просто: ты будешь убегать из зачарованного места. В обычных обстоятельствах тебе нелегко будет решиться, а еще труднее – поймать правильное настроение. Но ты уж постарайся, ладно?
– Океюшки, – согласился я, невольно улыбнувшись.
– Ну, тогда вперед. Выполняй мою инструкцию, закрывай глаза и беги, пока тебя не остановят. Марк редкостный зануда, но он был прав, когда говорил о смертельной опасности. Он вообще всегда прав, таково ужасающее свойство его организма.
– А… мне нельзя просто пойти с вами? – неожиданно для себя самого брякнул я. Понял, что отступать некуда, и торопливо объяснил: – Когда я вас увидел, я понял, что вы «свои», что я должен каким-то образом быть рядом, или просто заодно с вами… хотя до сих пор был уверен, что я всегда сам по себе, и это правильно, но тогда я не подозревал… – тут я окончательно запутался в собственных словах. Некоторые вещи не поддаются вербальной обработке, хоть головой о стенку бейся!
– Можешь не продолжать, мы понятливые. Может быть, ты прав, и мы «свои». А может быть, тебе померещилось, так тоже бывает… В любом случае сейчас тебе нельзя с нами. Тебе бы отсюда ноги живым унести, – сочувственно сказал бородатый.
– Если нам следует быть «заодно», ты встретишь нас в другое время и в другом месте, – добавила женщина. – А если не встретишь – что ж, значит, тебе по дороге не с нами, а с кем-нибудь еще, или ни с кем не по дороге, как ты и подозревал с самого начала. Все само устроится, потому что все всегда устраивается само. А теперь беги… нет, погоди-ка, обернись сначала, на дорожку. Чтобы лучше бежалось.
Я послушно оглянулся. Здания кафе уже не было. Веранда отчасти тоже канула в небытие: от столика, за которым я сидел, осталось меньше половины, неровный треугольный кусок полосатого тента трепетал над нашими головами; плавная кривая линия среза наводила на дурацкое предположение, что реальность была слизана языком некой гигантской коровы; однако на месте исчезнувшего фрагмента не просвечивало ночное небо с дежурным набором созвездий. Там копошилась живая тьма – не знаю, как еще можно описать то, что я увидел. По сути, там не было ничего, и в то же время более очевидную, плотную, динамичную и глубокую субстанцию, чем это самое «ничего», вообразить невозможно.
– Хватит любоваться, беги отсюда. Уноси ноги, пока тьма добрая. Беги. Беги же! – последние слова взвились пронзительной визгливой нотой, огненными буквами отпечатались перед моим внутренним взором, тонкими иглами вонзились под ногти; я зажмурился и рванул вперед, как пришпоренный скакун.
Пока бежал, я не сомневался, что занят не более и не менее как спасением своей шкуры и прочих упакованных в нее сокровищ. Не то чтобы я обдумал эту идею и счел ее правдоподобной, я просто знал, что смерть рядом… жизнь, впрочем, тоже была рядом, а я – между ними, как младенец, которому лишь предстоит родиться.
Наверное, поэтому я совершенно не удивился тому, что остановили меня именно женские руки. Впрочем, одна из них держала нож, и каким образом я умудрился не нанизать свою тушку на его влажное от чужой крови лезвие, мы оба впоследствии так и не смогли уразуметь…
19. Ата
…божество и олицетворение заблуждения, помрачения ума.
Ада услышала, как далеко внизу хлопнула дверь подъезда. По лестнице поднимались двое. «Они, – с облегчением подумала Ада, – наконец-то! Они, больше некому! Полночь еще когда была… Все уже дрыхнут».
Полночь действительно миновала. У Ады не было хронометра (приборы, измеряющие время, внушали ей суеверный страх), но ее тело, с наступления темноты пребывающее в напряженной неподвижности, само отмеряло минуты, подобно огромным песочным часам. Холодный песок времени медленно тек по ее позвоночнику, и она сама была сейчас сродни времени: невидимая, неумолимая и неотвратимая. Нечасто ей, нетерпеливой, как младенец, и подвижной, как ртуть, доводилось так долго томиться ожиданием, но игра стоила свеч, овчинка – выделки, дебет сошелся с кредитом, бухгалтерия дала добро, да и таможня не возражала…
Шаги приближались, чуткие ноздри Ады затрепетали от аромата свежей сирени. «Так они цветочки собирали! – с равнодушным сарказмом изумилась она. – Кустики ломали, твари! Любовь у них великая – ну так лежали бы и трахались спокойненько – а растения зачем калечить?!» Впрочем, возмутиться по-настоящему ей так и не удалось: сила была на ее стороне, ситуация – в ее руках, а возмущение – удаль слабого. Шаги тем временем оборвались у двери – у ТОЙ САМОЙ двери, к которой было приковано внимание Ады на протяжении этой непереносимо длинной весенней ночи.
Она выждала еще несколько секунд, позволила юной женщине вставить ключ в замочную скважину, ключу – совершить два полных оборота против часовой стрелки, а дверной ручке – мягко уплыть вниз, повинуясь влажной ладони. Потом времени пришлось сжаться. Ада сумела одолеть девять ступенек за столь ничтожную долю секунды, что влюбленным показалось: она возникла не из темноты лестничной площадки, а из небытия, примерещилась, и сейчас исчезнет, и можно будет войти в дом и выпить чаю с мелиссой, а может быть, даже поговорить об испугавшем их видении… хотя нет, говорить на эту тему, пожалуй, все-таки не стоит…
Прыжок из темноты завершился ударом ножа, который вошел в тело мужчины с упоительной легкостью: отличная точка в конце удачно сформулированной фразы. Ада задохнулась от ликования, когда мужчина ошеломленно прошептал: «Что за дурость!» – и начал медленно оседать на пол. Она засмеялась почти беззвучно: испустить дыхание со словом «дурость» на устах – вот участь, достойная графомана, все бы они так умирали! Теперь оставалось разобраться с его перепуганной сукой: баловалась она стишками или нет, это ее проблемы. Сука влипла в историю. Просто влипла, так бывает.
«Сука» (сказать по правде, Нина была милой, застенчивой девочкой из хорошей семьи, с классическим консерваторским образованием; жизнь ее до нынешней ночи походила на черновик романа, написанного лишенным воображения, зато добрым и сентиментальным ремесленником) очень хотела закричать, но голос ей отказал, и пошевелиться не удавалось, как в ночном кошмаре – с той только разницей, что не было ни малейшего шанса проснуться.
Существо, появившееся из темноты, ранило (она ни за что не согласилась бы признать, что не «ранило», а «убило») ее «Басика». Именно так она называла красивого, немного меланхоличного (пока дело не доходило до постели) мужчину, полгода назад поселившегося в ее доме, сердце, теле, снах и размышлениях.
Только несколько тягостных секунд спустя Нина поняла, что «существо» было женщиной… и глаза этой женщины обещали продолжение ужаса. По всему выходило, что видеокассеты с ужастиками, стопка которых и сейчас лежала на тумбочке под телевизором, следовало считать длинным-длинным эпиграфом к сегодняшней ночи, а не развлечением, придававшим некоторую остроту спокойному бытию. (Нина и сама сознавала, что встречает каждое утро любопытной улыбкой ребенка, проснувшегося в свой день рождения: ну, какие подарки ждут меня сегодня? – и никак не могла понять, почему жизнь, немилосердная к прочим, столь великодушна к ней. Хотя одно подходящее, как ей казалось, объяснение все-таки существовало: в глубине души Нина полагала, что она «хорошая девочка», а с «хорошими девочками» не случается ничего, кроме ежедневных походов за мороженым.)
– Давай, заходи домой, соска, – спокойно сказала женщина. – Нефиг топтаться в подъезде.
Нина не обратила внимания на грубое обращение; она почему-то испытала облегчение, решила, будто слова означают, что дела на сегодня закончены, а значит, ужаса не будет, по крайней мере, не будет настоящего ужаса. Они просто поговорят, и пускай эта женщина говорит ей все, что захочет, любые гадости, если ей так нужно. Может быть, она потом успокоится, или еще лучше: поймет, что натворила, и расплачется, и позволит вызвать врача, который спасет «Басика», а потом она, Нина, будет ходить к нему в больницу, а квартиру они быстро сменят, или даже вовсе уедут в другой город, и эта ужасная женщина никогда их не найдет; ее, сумасшедшую, вообще посадят в тюрьму за покушение на убийство или запрут в клинику, где ей и место, и все будет хорошо…
Эти размышления почти успокоили Нину, по крайней мере, она поняла, что уже вполне может закричать, позвать на помощь соседей; голос послушается ее, и рот не будет открываться беспомощно и бесшумно, как у аквариумной рыбы, пожизненной узницы человеческих представлений о домашнем уюте.
Ада почувствовала перемену в ее настроении и коротко сказала:
– Квакнешь – убью сразу. Пока соседи будут решать, стоит ли выглядывать на твой вой, я успею не только на другой конец города уехать, а пешком в Париж уйти. А так… Может, и выживешь, я пока не решила. Давай, заноси его в дом.
– Как? – тупо переспросила Нина. Собственный голос испугал ее: это был надломленный голос женщины, попавшей в беду, а не тихий мелодичный голосок «хорошей девочки», которой ей так нравилось быть…
– Херак! – передразнила незнакомка и небрежно пнула Нину носком тяжелого армейского ботинка (Нина недолюбливала такие ботинки и не доверяла людям, которые их носят, а уж женщины в подобной обуви всегда вызывали у нее отвращение, смешанное с испугом, – выходит, не зря). Удар был не слишком болезненным, он скорее походил на повелительный жест, чем на начало избиения. Нина подумала, что такими беззлобными, но рассчитанными ударами мясники загоняют свиней на бойню… мысль оказалась настолько дикой и точной, что разум почти оставил ее, она не могла (не хотела, не решалась) бороться, и склонилась над телом своего любимого мужчины, чтобы перетащить его в коридор их общей уютной квартиры, как велела эта ужасная женщина.
Ада молча наблюдала за ее попытками сдвинуть мертвеца с места. Минуту спустя, она с досадой констатировала, что сцена затягивается, и тихо сказала:
– Ты давай, шевелись, а то я решу, что проще уложить тебя рядом. Жить-то хочешь, небось, сука тупая?
Нина послушно заторопилась, напряглась и втащила тело в коридор.
– Как же вы все… цинично предсказуемы! – усмехнулась Ада, входя следом.
«Все кончено, – подумала Нина. – Все кончено, потому что меня сейчас будут убивать. Здесь, прямо на этом половичке. Убивать. Меня. Будут. Сейчас», – твердила она себе, и вдруг обнаружила, что страх покинул ее, осталась лишь растерянность, но и та понемногу проходила. Терять-то больше было нечего. Жизнь закончилась, уже закончилась, и единственное, что можно было сделать… впрочем, сделать нельзя было ничего в любом случае.
20. Аушаутс
Бог целостности, неповрежденности, ‹…› он отгоняет болезни и даже грехи.
А потом случилось нечто невероятное. Дверь в глубине коридора распахнулась настежь, и из Нининой спальни выскочил незнакомый мужчина. Растрепанный, в застиранной добела джинсовой куртке, глаза зажмурены, словно он собирался безотлагательно сыграть с ними в «слепого кота», – а истекающие кровью тела, убийства и прочие скучные вещи могут немного подождать, не так ли?
Нина видела его впервые; впрочем, это как раз неважно: сейчас она, пожалуй, не узнала бы и бывшего однокурсника; она и на родителей своих смотрела бы, наверное, с ласковым недоумением, тщетно пытаясь понять, кого напоминают ей эти славные люди. Все пустое, значение имело только одно: из ее спальни, словно по волшебству, выскочил посторонний человек. Он оказался в коридоре именно в тот момент, когда ей стало окончательно ясно, что помощи ждать неоткуда – и вот, вдруг… Нина умиротворенно сказала себе, что это явился ангел-хранитель, чтобы спасти ее жизнь; спустился, наконец, с небес, пусть даже с изрядным опозданием, и теперь ответственность за дальнейшие события – на нем. А она, Нина, умывает руки.
Терять сознание было чертовски приятно, приятнее даже, чем пробуждаться от кошмарного сна. Ее тело обмякло, но губы напоследок растеклись в торжествующей улыбке. Она знала, что придет в себя только после того, как за кошмарной женщиной закроется дверь. В этот последний блаженный миг перед наступлением тьмы Нина знала и многое другое: все как бы (словно бы, будто бы – ах!) уладится; скорая помощь приедет по ее вызову вовремя, и врачи будут удивляться чудесному спасению раненого; а она, главная свидетельница преступления, не сможет вспомнить, как выглядела нападавшая: в памяти не останется ничего, кроме тяжелых ботинок, но и о них Нина почему-то промолчит, не решится рассказать седому усатому следователю с глазами больной дворняги – вот так-то… «У девочки шок», – да, именно. Шок. А потом она будет круглосуточно дежурить у постели своего любовника, поставит на уши полгорода, но добудет все необходимые лекарства, импортный перевязочный материал, греческий коньяк для хирурга, итальянскую косметику для сестер милосердия и еще кучу какой-то жизненно важной муры, но когда он (уже не «Басик», а просто Богдан) встанет на ноги, Нина поспешит от него отделаться, уйдет к другому, первому, кто подвернется. Не потому даже, что с прошлым связаны такие уж невыносимые воспоминания (невыносимых воспоминаний вообще не бывает, невыносимым может стать только настоящее), просто – теперь она знала и это – для того, кто попробовал смерть на вкус, былые привязанности не имеют никакого значения, что бы он сам об этом ни думал. И еще Нина знала, что с «хорошей девочкой», которой она была до сих пор, покончено. Именно эта девочка погибла сегодня от руки убийцы, а больше – больше никто. Что ж, она еще дешево отделалась. Как там говорила красивая Терехова в пьесе Лопе де Вега, которую чуть ли не еженедельно крутят по телевизору: теряют больше иногда…
Вот именно.
Что же до незнакомца, он достался Аде. Та не успела опомниться, как мужчина оказался в ее объятиях, еще немного, и они оба грохнулись бы на пол; при этом затылку Ады грозило опасное соприкосновение с порогом. Но Ада устояла. Она была очень сильной, хотя никогда не старалась закалить свое тело. Просто таким уж оно родилось на свет: жестким, упругим и мускулистым. Повезло.
Пока Ада удерживала равновесие и поспешно решала, что делать со свалившимся на нее свидетелем убийства (его не могло тут быть, потому что его быть тут не могло!), он открыл глаза, посмотрел на нее и улыбнулся. Улыбка эта, столь неуместная в данных обстоятельствах, показалась ей чудом. Поэтому Ада безвольно опустила руку с ножом и тихонько спросила:
– Ты откуда здесь взялся?
– Из одной несбывшейся вероятности, – он говорил нараспев, как сомнамбула. – Я был лишен судьбы, а меня научили, как найти новую. Надо просто бежать, бежать с закрытыми глазами…
– Стоп, – решительно сказала Ада. – Это меняет дело. Ничего не попишешь, пошли отсюда. Только быстро и очень-очень тихо.
Когда они вышли на улицу, ее новый знакомый встрепенулся. «Понимаю, – бормотал он, – теперь понимаю, почему я тут оказался. То кафе, оно было в этом самом переулке, на месте твоего дома…»
– Это не мой дом, – сухо перебила его Ада. – Мой дом далеко отсюда. Очень далеко. Зато машина – вон за тем углом. Поедешь со мной.
– Конечно, – легко согласился незнакомец. – Ты ведь, можно сказать, моя новая судьба – взамен утерянной…
– Да уж. Повезло тебе с «новой судьбой», – ухмыльнулась Ада, отмечая, однако, что ухмылка эта почти помимо ее воли превращается в сочувственную улыбку, а рука сама собой ложится на плечо незнакомца – нежный, дружеский, покровительственный жест. «Хотела бы я знать, от чего именно я его спасаю, – думает она. – Но спасаю, это точно…»
21. Афина
Мощная страшная совоокая богиня архаики…
Ада, Ада… Глаза серые, круглые, волосы взъерошены как перья, острые локти, тяжелые бедра. Рот кривится улыбкой: правый уголок вверх, левый – вниз. Ходит кругами по комнате, ступни утопают в тумане, словно бы невидимом, но для меня почти осязаемом почему-то… Голос резкий, каждое слово рыболовным крючком вонзается в виски. Невыносимое существо!
– Все просто: я убиваю тех, кто уничтожает дух поэзии. Поскольку, выбирая жертву, я не могу полагаться на собственные пристрастные суждения, я убиваю лишь тех, кто пишет стишки на заказ, будь это любитель, рифмующий корявые строчки ко дню рождения тещи, или профессионал, слагающий оду на восшествие очередного мудака к вершинам государственной власти… А этот идиот дал рекламное объявление в газету: «Пишу стихи к свадьбам, юбилеям и другим торжественным событиям. Качественно, недорого». Домашний телефон прилагался к объявлению; выяснить адрес – проще простого. Такие дела, Макс, такие дела…
22. Ахтиа
В иранской мифологии злой волшебник, задающий 99 запутанных и каверзных вопросов.
– Почему ты его убила, мне более-менее понятно, – вздохнул я. – Девушку-то зачем было мучить?
Она молчала. Внимательно рассматривала свои маленькие, почти детские руки с коротко остриженными круглыми ноготками. Наконец подняла на меня глаза, мрачные, как дождливый Апокалипсис.
– А вот не знаю. Противная она была какая-то. Блеклая, сладкая, никчемная. Настоящая Хорошая девочка, с большой буквы «хэ»… Наверное, мне просто нравится мучить людей. До сих пор не нравилось, а теперь вдруг понравилось. Что, конечно, хреново. Думаю, это была моя последняя охота.
Я вопросительно поднял брови.
– До сих пор я вела бессмысленную и безнадежную, но священную битву. Я не получала никакого удовольствия от этих убийств. По природе своей я не убийца и тем более не садистка. Вернее, не была таковой прежде. Теперь все иначе. Значит, пора остановиться. Потакать своей жестокости, прикрываясь интересами духа поэзии, – что может быть омерзительнее?!
Бред. Трижды бред. «Дух поэзии», понимаете ли…
Теоретически все, что она говорит, – ужасно, и мне бы положено не нежиться, свернувшись калачиком под леопардовым пледом Ады, а судорожно обдумывать план побега. Но мне не хочется никуда бежать. Мне хорошо в ее квартире-студии под крышей черт-знает-сколькоэтажного дома на северной окраине города. Я слаб, как новорожденный котенок, которого к тому же еще и топили – неумело, в несколько приемов, – но так и не довели дело до конца. Я знаю себя: теперь мне нужны, как минимум, сутки, чтобы оклематься. А здесь, у Ады, тепло, уютно, спокойно, мой папа сказал бы «как у бога за пазухой». Именно то место, где можно медленно, с наслаждением приводить себя в норму. И еще…
И еще. Меня не покидает ощущение, что в моей жизни теперь все правильно – наконец-то! Рядом сидит серийная убийца, только что отмывшая в кухонной раковине лезвие своего ножа, а я ничего не могу поделать с ощущением, что эта кошмарная женщина – самый близкий и родной мой человек, потому что нас всего двое сейчас на этой планете, а больше и нет никого. И это прекрасно.
Она все чувствует. Знает, что я – не враг, но и не жертва. Больше Ада обо мне пока не знает ничего. Но для начала вполне достаточно.
– Думаю, тебе надо выпить, – тоном лечащего врача сообщает она. – Мне, впрочем, тоже. Сейчас будет грог. С лимоном. Это клево, вот увидишь.
На плите свистит изумрудно-зеленый чайник гэдээровских кровей – неземной красоты вещь. Ада рыщет среди кухонных полок. С одной берет пакет с чаем, с другой – две большие стеклянные кружки; откуда-то извлекает бутылку – ух, ни фига себе! – кубинского темного рома. Заваривает чай, наполняет чашки, щедрой рукой доливает туда ром. Лимон режет пополам (ага, тем самым ножом, но мне плевать), выжимает сок – напиток богов готов.
Пробую грог. Свежеприобретенная судьба нравится мне все больше.
– Приготовление такого напитка приравнивается к спасению жизни. Теперь я твой должник.
Она серьезно кивает, усаживается на корточки перед диваном, обремененным моим, обмякшим после трудного дня, телом, внимательно рассматривает мое лицо.
– Все бы хорошо, – говорит, – но знаешь, Макс, ты похож на привидение. Какой-то ты… ненастоящий. Выдумка, не человек. Но не моя выдумка. Чья же? Ты кто вообще?
Господи, и эта туда же!
– Мне сегодня уже говорили то же самое, – вздыхаю я. – И мне до сих пор кажется, что это – полная ерунда…
– Кто тебе такое говорил?
И я рассказываю ей про Оллу. Медленно, вспоминая мельчайшие детали, которые я вообще-то не склонен замечать. Про маки на чайнике, про лазурный цвет и необъятные размеры доставшейся мне чашки; кажется, я даже наш диалог с гадалкой воспроизвожу наизусть, слово в слово.
Ада уселась на пол по-турецки, спину держит прямо, руки неподвижно застыли на бедрах – скульптура, не человек. Она слушает меня – боже, как же она слушает! Алчно впитывает слова, так пересохшая земля поглощает скудную милостыню дождя.
– А потом ты ушел от нее. И что было дальше? – взволнованно спрашивает Ада, когда отчет о моем визите к гадалке подходит к концу. Ее глаза сияют, как у ребенка, которому рассказывают – не сказку, нет – чудесную, но подлинную историю из жизни взрослых; историю, которая когда-нибудь, возможно, случится и с ним.
Я рассказываю дальше, все по порядку. Я говорю долго, очень долго, но за окном по-прежнему чернильная гуща неба, и никаких перемен. Часов в этом доме, кажется, нет; да и мои остались дома, а рассвет все не наступает, хотя пора бы ему… И тут я понимаю, что рассвет не наступит, пока мы не наговоримся. Потому что на рассвете нам следует заснуть: увидеть друг друга при свете дня мы оба еще не готовы (почему, бог весть, но солнечные лучи опасны для юной тайны, заложенной в фундамент наших отношений). Я откуда-то знаю, что здесь, в комнате Ады, течет наше время, ручное, послушное, готовое если не исполнить все пожелания, то, по крайней мере, считаться с насущной необходимостью. Я не удивляюсь. Принимаю это знание как должное – почему нет? Чем это чудо хуже прочих?
История моя наконец иссякла. Я опускаю голову на руки, с благодарным изумлением понимаю, что сейчас, наверное, засну, и буду спать… Сутки, не меньше. Этот срок подсказывает воображению измученное тело.
Но откуда-то издалека доносится до меня вкрадчивый голос Ады:
– И как ты теперь собираешься жить – после всего, что сегодня случилось?
– Это нечестно, – бурчу. – Слишком каверзный вопрос для спящего.
– Я спрашиваю не затем, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы ты сам его услышал. Сон – хорошее место для того, кто ищет ответ на каверзный вопрос. Потому что там можно найти все, что угодно, – назидательно говорит она.
Я уже не могу отвечать, я только думаю на митьковский манер: «Ада, сестренка, дык елы-палы!»
Она, вероятно, может теперь читать мои мысли: ее тихий смех настигает меня на шатком мостике между сном и бодрствованием. Я бы и рад обернуться, но сон уже устал меня ждать, и сам движется мне навстречу…
23. Ах-пуч
В мифологии майя один из богов смерти. Обычно изображается в антропоморфном облике с черепом вместо головы, черными трупными пятнами на теле.
Я сплю, и мне снится давешняя поездка на троллейбусе с улицы Маяковского. Это один из тех настораживающих снов, когда, с одной стороны, отдаешь себе отчет, что спишь, а не бодрствуешь, но с другой – прекрасно знаешь, что это, в сущности, не имеет значения: опасности здесь не менее реальны, чем наяву, да и проблемы столь же неразрешимы. Просто логика немного иная, а бэкграунд куда более пластичен и переменчив, чем статичный контекст повседневности – вот и все.
В текущем сновидении, например, я знаю, что троллейбус следует в Нижний Город. Сейчас мое сознание словно бы загрунтовано толстым слоем невнятной, но достоверной информации о конечной цели маршрута – в точности так же наяву я знаю о существовании любой из городских окраин. То есть я в общих чертах представляю, куда еду, и само по себе это место не является для меня чем-то фантастическим.
За окном темно, но и это меня не смущает. Не потому, что я привык к ночным прогулкам (это наяву я к ним привык, а здесь – еще неизвестно, как обстоят дела), а просто потому, что сейчас для меня само собой разумеется, что все поездки в Нижний Город всегда происходят в темноте. Это – нормально. Хуже другое: я знаю, что прежде, чем мы достигнем цели, будет остановка под названием «Мастерские». Очень важно не выйти на этой остановке по рассеянности или повинуясь внезапному порыву, потому что Мастерские – опасное место. Здесь меня уже однажды убили (наяву я об этом не помню, а сейчас вот вспомнил), и смерть эта была не слишком похожа на безобидный ночной кошмар. Если бы в момент моего рождения похмельная акушерка не брякнула в ответ на беспокойные мамины расспросы, что у мальчишки, дескать, как у кошки, девять жизней (еще одна подробность, которой я не знаю наяву), сейчас, пожалуй, некому было бы смотреть этот мой сон. Но старая ведьма нечаянно сделала мне царский подарок. Девять жизней – не так уж много для человека, которому снятся сны, подобные моим, но лучше, чем одна. Гораздо лучше.
Опасения мои тем временем сбываются. Троллейбус не просто подъезжает к остановке «Мастерские» (даже сейчас, в этом сне, я не знаю, что там мастерят, и боюсь об этом задумываться); он тормозит у столба, на котором прибита самая обычная табличка с номером маршрута и расписанием движения, только вот надписи эти давным-давно истерлись до состояния петроглифической ряби. Бесстрастный голос в динамике сообщает, что троллейбус дальше не пойдет. Меня просят освободить салон. Я содрогаюсь, но выхожу: невозможно ослушаться.
За дверью меня ждет глухая ночь; на этой безымянной улице лишь одно молочно-белое пятно света, оно омывает автомат с газированной водой, и я устремляюсь туда. Свет притягивает меня, как бессмысленного мотылька: хоть и знаю я, что этот островок безопасности – ломтик бесплатного сыра в мышеловке, но знание сие остается сугубо академическим, мои действия никак от него не зависят.
У автомата с газировкой меня уже ждут. Высокий силуэт в длинном, наглухо застегнутом плаще; из-под широкополой шляпы на меня взирает почти обезьянье курносое лицо с глубоко посаженными печальными глазами (оно обладает карикатурным сходством с черепом, но все же это не череп – и на том спасибо!)
– Хочешь газировки? – приветливо спрашивает незнакомец.
Я мотаю головой. Меня бьет крупная дрожь. Но он протягивает мне стакан с водой, и я послушно беру подарок. Пузырьки газа шипят на губах, щекочут нёбо, но проглотить воду мне не удается. Мой опыт свидетельствует, что почти невозможно бывает сделать хоть глоток во сне, про который знаешь, что это – сон; вот и сейчас ничего не получается. Незнакомец испытующе смотрит на меня из-под шляпы. От тяжести его взгляда я окончательно теряю контроль над собой и захлебываюсь прозрачной звонкой жидкостью, можно сказать, тону в одном глотке газированной воды…
24. Ацаны
Жили они в те времена, когда на земле стояло вечно теплое лето…
Ада разбудила меня. В комнате все еще темно, но сейчас темнота мне нравится. Уютный, ручной, ласковый мрак – застрять бы навсегда в этой майской ночи, как в капле смолы, честное слово, я бы не возражал!
– Все не слава богу, – вздыхает она. – Ты что, Макс? Хрипел так, словно окочуриться собрался. Что с тобой? Ты не колешься, часом?
– Семь, – говорю я, едва ворочая онемевшим языком. – Или семь с половиной. Все же я не доумирал до конца…
Я еще не понимаю, что мое бормотание кажется ей бредом; я пока действую в рамках иной, сонной, логики, где чужие мысли очевиднее собственных, а слова нужны лишь для исполнения какого-то древнего ритуала, смысл которого темен и невнятен, но необходимость не вызывает сомнений…
– Чего-о-о-о? – встревоженно тянет Ада. – Какие «семь с половиной»?!
– Семь жизней у меня осталось, – говорю. – Когда я родился, было девять.
– Как у кошки?
– Ага.
– И когда ты успел две из них растранжирить?
– Во сне, – отвечаю, – дурное дело нехитрое…
Я окончательно просыпаюсь и отмечаю про себя, что она теперь одета по-домашнему. Алый свитер с растянутыми рукавами, белые спортивные брюки – этакий аналог пижамы, допускающий, однако, некоторую публичность. Парадный наряд для просмотра снов, уместный в тех случаях, когда в доме ночует кто-то чужой. В темноте студии зияет разобранная постель. Судя по всему, разбудил я хозяйку дома своими кошмарами. Нехорошо вышло, неловко…
Смущенно, заплетающимся языком, рассказываю ей свой сон. Как только речь заходит о Нижнем Городе, Мастерских и прочих топографических подробностях, Ада порывисто хватает меня за руку. Что с нею творится? То смеется, то всхлипывает от полноты чувств. «И ты, – говорит, – и ты тоже там был! Не знаю, правда, при чем тут твой дурацкий троллейбус, – снова смеется, – но это пустяки, все остальное сходится… Значит, все действительно где-то есть! Макс, ты понимаешь? Это все действительно есть – где-то, когда-то, зачем-то, но есть, есть, есть!»
Она уже не говорит, а визжит. Не противно, по-бабьи, а лопаясь от восторга, как совсем мелкая девчонка, узнавшая, что старшие братья возьмут ее с собой в поход. И я бы хотел разделить ее радость, но…
Положим, тот факт, что где-то есть Мастерские, не приводит меня в экстатическое состояние. От такой перспективы впору под диван полезть – хоть и знаю я с детства, что хреновое это убежище, а все же там как-то спокойнее.
– Кроме Нижнего Города, есть много дивных мест, но все дороги туда идут через Нижний Город, – улыбается мне Ада. – Это такая… магистральная развязка, в своем роде.
Счастье преобразило ее: когда мы встретились, она выглядела лет на тридцать – не то с хвостиком, не то без оного. А теперь – школьница, да и только; к тому же школьница, получившая первую в своей жизни записку с любовным признанием. Великолепная, всемогущая, уверенная в собственном бессмертии малолетняя дурочка. Чудеса!
– А Мастерские? – мрачно напоминаю я.
– Ерунда. Это что-то вроде пропускного пункта. У меня вон одна жизнь всего, а я не боюсь… Знаешь, почему именно Мастерские? Знаешь, что там мастерят?
– Не знаю и знать не хочу.
– Ну и глупо. Там мастерят… не вздумай затыкать уши! Там мастерят наши с тобой и все прочие жизни: каждую – в нескольких экземплярах. Одна сбывшаяся, остальные – несбывшиеся, про запас. Чтобы было о чем выть зимними ночами, обламывая ногти об оконное стекло… Ты этого не знал, да? Теперь знаешь.
– А меня там убили. Давно, когда я еще в школе учился, и вот только что… Но ты меня разбудила, так что одну жизнь я, наверное, все-таки сэкономил… Не вяжется это как-то с твоей версией.
– Почему? Где жизнь, там и смерть, все логично. Смерти тоже бывают сбывшиеся и несбывшиеся. Ты не понимаешь? Ну, поймешь когда-нибудь…
– Ада, – я стараюсь умерить ее пыл, – это же мой сон. Почему ты знаешь о нем то, чего я не знаю?
– Твой сон? Ха! Не твой, а мой, я с детства живу там. И не от случая к случаю, как ты, а почти каждую ночь там оказываюсь. Потому и знаю о тех местах больше, чем ты… Но до сих пор я думала, что это – только мой сон. Главный из моих снов, но все равно просто сон, морок предутренний, который днем не имеет значения. А твое свидетельство меняет дело. Как хорошо, что я тебя сюда привезла и уложила спать! Как же удачно все сошлось!
Я смиряюсь. Есть вещи, которые выше моего понимания, но в то же время настолько очевидны, что с ними приходится соглашаться. Просто соглашаться – и все. Так – значит, так, будь по-вашему, со мною очень легко договориться. Иногда, по крайней мере… Если Ада говорит, что мой Нижний Город принадлежит ей, что он изучен ею вдоль и поперек – да будет так. Почему нет? В конце концов, я с детства по-настоящему хотел лишь одного: чтобы со мною случилось чудо. Ну хоть махонькое, хоть самое завалящее, никому не нужное… Вот и получай!
– Расскажи мне про это место, – прошу я, закрывая глаза. – Оно мне редко снится, и я почти ничего не знаю…
– Рассказать тебе сказку? – тихо смеется Ада. – Сказку о волшебной стране, где вечное лето, где без нас, сами собою, проживаются лучшие из выдуманных для нас несбывшихся жизней?
25. Ачуч-пачуч
…согласно поверьям, люди постепенно уменьшаются, достигая в конце концов размера, позволяющего им пройти через игольное ушко.
– О волшебной стране, да, – бормочу я. И вдруг сон снова слетает с меня. – Слушай, – говорю, – получается, что вчера я мог попасть туда… наяву. Потому что я наяву ехал в этом троллейбусе, я же тебе рассказывал: он меня до подъезда довез…
– А вот не специалист я по троллейбусам, – немного сердито говорит Ада. – Я по своим сновидениям пешком хожу, знаешь ли, а на дурацком городском транспорте я там не катаюсь… Наяву, говоришь? Ну, все может быть. Хотя мне всегда казалось, что оказаться там наяву труднее, чем верблюду попасть в Царствие Небесное…
– Пройти сквозь игольное ушко, – педантично поправляю я.
– Что? – моргает она.
– Ты перепутала цитату. В первоисточнике верблюд проходил сквозь игольное ушко, а в Царствие Небесное попадали… – вернее, наоборот, не попадали – богатые.
– А, ну да, – рассеянно улыбается Ада. Мыслями она сейчас где-то далеко, там, где нет ни меня, ни верблюдов, ни игольных ушек, ни ущемленных в иммиграционных правах богачей. В Царствии Небесном, очевидно.
Больше всего на свете я сейчас хочу ее поцеловать, или хотя бы по щеке погладить, прикоснуться ласково к женщине, которую почему-то люблю больше жизни, но ее отсутствующая улыбка похожа на вежливое предложение убираться к черту, и я засыпаю. На сей раз – крепко и надолго.
26. Ашвины
Ашвины принадлежат к небесным божествам и связаны с предрассветными и вечерними сумерками ‹…› они возвращают жизнь умершим.
Меня никто не будит, поэтому я сплю чуть ли не до вечера. Проснувшись, обнаруживаю, что в доме никого нет, а на полу возле дивана лежит записка: «Можешь сожрать, выпить и выкурить все, что найдешь в доме, но не смей пользоваться моей зубной щеткой. И дождись меня обязательно!!!!!!!!!» – восклицательных знаков целых девять, по числу моих запасных жизней. Что ж, хорошая цифра. Убедительная.
Но я, собственно, и не собирался отсюда убегать. Мысль о том, что я могу больше никогда не увидеть Аду, казалась мне – не то чтобы невыносимой, но весьма нелепой. И потом у меня еще оставались вопросы. Столько вопросов! От ответов на половину из них в той или иной степени зависела моя жизнь; прочие же были продиктованы нормальным человеческим любопытством.
Поэтому я принял душ, заварил чай – больше мне, собственно, ничего не требовалось, и рад бы совершить дозволенный грабеж, да организм не велит – и чинно уселся с чашкой в той части студии, которая выполняла роль кухни. К слову сказать, ни телевизора, ни радиоприемника у Ады не было; она не держала дома ни книг, ни газет. Ни единой строчки текста не удалось мне обнаружить в ее жилище – кроме разве что оставленной мне записки, но ее я уже прочитал. Чай пришлось пить в полном внутреннем молчании, и это немного действовало мне на нервы. Вспоминать вчерашний день было, мягко говоря, некомфортно; обдумывать свое ближайшее будущее – того хуже. А в настоящем не происходило ничего – кроме, конечно, чая. Да и тот быстро иссяк. Я уселся на подоконник и стал разглядывать облака. Этот процесс немного сродни чтению: такой же увлекательный, безопасный сон наяву, только сюжеты попроще…
На пороге сумерек в замке заскрежетал ключ. Ада вернулась. В первое мгновение, впрочем, я решил, что мое уединение нарушила какая-то посторонняя дама: сегодняшняя Ада не походила ни на давешнюю убийцу, ни на совоокую амазонку, пришедшую той на смену, ни на счастливую девчонку в красном свитере, которая убаюкивала меня минувшей ночью. Сейчас в дом вошла эффектная деловая женщина: шикарный серый костюм в тонкую черную полоску, изящные туфельки на низком каблуке, волосы аккуратно причесаны, на носу – пижонские очки «для чтения», узкие полоски стекол без оправы, по таким сейчас все городские модники с ума сходили, даже те, кому коррекция зрения не требовалась.
– Так вот вы какие, северные олени, – лопочу ошарашенно.
Она улыбнулась одними губами, уселась напротив, испытующе заглянула в глаза. Вздохнула. «Давай, – говорит, – с вещами на выход».
Я был разочарован, но виду не подал. Признаваться, что я надеялся остаться здесь надолго, было бы опрометчиво – раз уж от меня решили избавиться. Но она и так все поняла.
– Той Ады, которая тебя вчера сюда притащила, больше нет. И не будет, я надеюсь. Я теперь вместо нее. А рядом со мной тебе делать нечего – наяву, по крайней мере.
– Это метафора? – осторожно поинтересовался я, застегивая куртку.
– Это хренафора, – смеется.
Позже, в машине, она сказала:
– Меня не покидает ощущение, что вчера я спасла твою жизнь. Может быть, у тебя их действительно девять – да хоть четыреста! Но вещь все равно ценная, как думаешь?
27. Аэндорская волшебница
Волшебница из Аэндоры, ‹…› предсказавшая Саулу поражение в войне.
– Ценная, – говорю. Кто бы спорил!
– Ну вот. А взамен мне нужно вот что… Просить тебя молчать обо всем, что случилось, не буду: ты и без моей просьбы будешь молчать, тут я спокойна. И адрес мой ты вряд ли запомнил: я сама, когда сюда переехала, в первые дни по бумажке свой дом находила в этом лабиринте. Поэтому я попрошу тебя только об одном одолжении: не пытайся меня разыскать. Не нужно записывать номер моего автомобиля, не нужно наводить справки, не нужно шляться по этому району в надежде меня встретить. Ничего в таком роде, ладно? Считай, что я тебе просто приснилась. Это ни к чему не обязывает.






