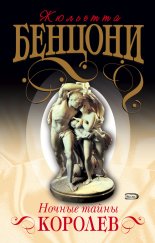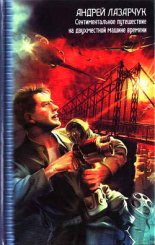Пещное действо Етоев Александр
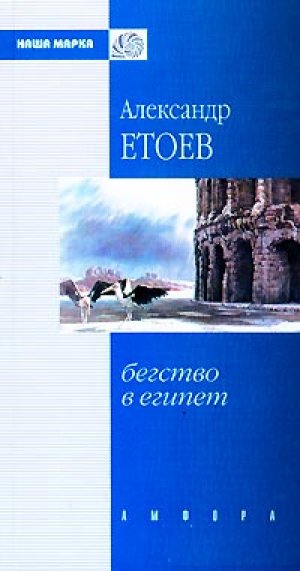
Ствол потел, и дерево было пьяное, и никто из пятерых не заметил, как из рыхлой зеленой тени вышел на свет Кишкан.
Во лбу его горела звезда – круглая шляпка гвоздя, вбитого за мусульманскую дерзость правоверным господарем Владом. Он вышел, посмотрел на прикуривающего от газовой зажигалки Зискинда, обвел взглядом замершую на дороге компанию, похмурел и выставил палец.
Все помнить забыли про мелочь утренних дел. Снятое колесо «самоедки» лежало, сжавшись до высосанного кружка лимона, и механик-водитель Пучков, задрав наморщенный лоб, шарил промасленной пятерней в пустоте между коленями и покрышкой. Цепочка из картофельной кожуры упала с ножа Анны Павловны и обвила ее божественную ступню. Анна Павловна даже не ахнула. Жданов как сидел, скрючившись, возле капота, чеша накусанный бок, так и сидел, чеша.
Кишкан выставил палец, прикрыл восковые веки. От деревьев ударило ветерком. Все ожили, одурь сдуло.
– Клоун. – Жданов повернул голову к Анне Павловне. Та сбросила со ступни очистки и вытерла о штанину нож. Пучков уже держал колесо между ног, ковыряя во втулке отверткой.
– Да-а… – Зискинд пожал плечами.
– А что? Мне это нравится. – Анна Павловна улыбнулась.
– Тогда попробуй его соблазнить. У тебя хорошо получится. – Жданов хрустнул раздавшимися челюстями – зевнул.
– Скажите, к замку Цепеша мы по этой дороге проедем? – спросил Капитан.
Кишкан молчал, лишь шелестели, переливаясь алым, складки его шаровар да огромный бронзовокрылый жук, запутавшись в нечесанных прядях, жужжа пытался освободиться.
Солнце выскочило из-за облака, и пепельно-золотой луч, отыскав в кроне лазейку, упал на плечо Кишкана. Потом скользнул по руке, добрался до торчащего пальца, и воск, из которого он был сделан, из желтого стал малиновым. Луч пропал, а палец продолжал огневеть, и жук, выпутавшись из волосяной сети, вдруг слетел на этот огонь и вспыхнул, будто головка спички.
– Мамочки! – Анна Павловна всплеснула руками.
Жданов вяло похлопал в ладоши:
– Браво, маэстро. А что шаровары сгорят, не страшно? – Он посмотрел на часы. – Пучков, ехать пора. Долго тебе еще с колесом копаться?
– Порядок. – Механик даром времени не терял, он как раз закручивал последнюю гайку.
– Мы в замок Цепеша. Можем подбросить. – Капитан показал на сиденье. – Все быстрей, чем ногами.
– Выпить не предлагаем. Я правильно говорю, Капитан? – Жданов выставил напоказ все зубы и добавил к ним кусок языка.
– С нами, с нами! – Анна Павловна жонглировала картофелинами и штука за штукой бросала их в куб радиатора.
– С нами, да не с тобой, козочка. – Жданов хотел ущипнуть ее за лопатку, но тут Кишкан открыл рот.
– Киралейса! – голос его был как у сварливой бабы.
– Говорящий. – Жданов прочистил ухо. – Всех нас переговорит.
Но его никто не слушал.
Кишкан медленно, шаг за шагом, отступал в темноту ветвей. Спина его коснулась ствола, но он не остановился. Все видели, как потрескавшаяся кора с болотной прозеленью и радужными смоляными подтеками словно кольчугой охватывает его тело. Он врастался в кряжистый ствол, дерево впускало его в себя, замыкая от чужих глаз, разговоров, запахов и движений. Исчезло тело, исчезли мусульманские шаровары, все исчезло, кроме лица. Размытое пятно на стволе, словно наспех прилепленная картинка: брови сдвинуты, в морщинах прячется ночь. Но слишком уж стыл был взгляд и древесно неподвижны черты, что Жданов подхватил из-под ног камень и по-стрелковски метко запустил им прямо в десятку. Ни кровинки не вытекло, и сразу сделалось ясно – это зрение было в обмане. То не Кишкан, то обычная проплешина на коре. И бисерины столетней смолы, и засмоленные в бисерины пауки, казавшиеся поначалу зрачками.
– А старик он мстительный, Жданов, – сказал Зискинд, закуривая новую сигарету. – С таким-то голосом.
– Месть не красит человека. Посмотри на меня, я добрый, отходчивый, за это меня Анна Павловна любит.
– Жданов, – сказала ему Анна Павловна, – если сейчас с этого дерева попадают скорпионы…
Она не договорила, ветка, что одеревеневшей змеей протянулась над кузовом «самоедки», сделала шумный взмах и с нее полетели листья. Их было ровно пять, круглых сердцевидных листков. По одному на каждого в экипаже. Сначала плавно, потом наливаясь тяжестью, они упали на раскрывшиеся ладони, ладони дрогнули под неожиданным весом, и каждый – Анна Павловна, Капитан, Жданов, Пучков и Зискинд с сигаретой во рту – увидел насупленный череп на мутном круге монеты. И у каждого из пяти черепов пиратской меткой во лбу чернела дырка из-под гвоздя.
Пучков, механик и нумизмат, уже скоблил клыкастым зубищем неподатливый рубчатый ободок. Жданов дотянулся до ветки, тряхнул ее изо всех сил, но больше монет не упало. Он почесал за воротом:
– Забыл, Анна Павловна… Как скупого рыцаря звали?
Подставив монету солнцу, Анна Павловна делала солнечное затмение.
– Барон… А в ней дырочка, солнце видно.
– Козочка, ты ребенок. Дай-ка я посмотрю. – Жданов протянул руку, но Анна Павловна ее оттолкнула.
– Через свою смотри.
– Это мысль. – Жданов приставил монету к глазу и стал медленно отводить от себя: – Нет, нет, ага, вот она, появилась. Сквозное прободение. Ловко это они мне гвоздь в лобешник вогнали. – Он кашлем прочистил горло. – Господа, теперь, когда каждый из нас имеет у себя на ладони свой собственный посмертный портрет, следует подумать о будущем.
– Поехали, – Анна Павловна заглянула в куб, – а то картошка до ночи не закипит.
– Ангел, – сказал Жданов, переваливаясь через борт. – Шлю тебе пламенный поцелуй.
Машина перевалила бугор, еще один, и еще, и скоро кипение пыли слилось с кипением пара над радиатором, из пара выглядывала картошка, и Капитан опять задремал, потому что ночью ему снились кошмары, а тут, под дорожную качку, примерещилось что-то счастливое и спокойное, чего в жизни никогда не бывает, а если бывает, то не у тебя, а у кого-нибудь, где-то, и то навряд ли. Потом сквозь покой и счастье прорвался обрывок спора: «Порождение филоло…» – Капитан узнал голос Зискинда, тут же съеденный ждановским глумом: «Мамы он своей порождение посредством папы.» Капитан вздохнул, жалея об упущенном счастье, и, почувствовав в горле ржавчину, просунул губы под мышку. Патрубок был где был. Пересохший со сна язык коснулся солоноватого окоема. Вдох. В сердце кольнуло. Обожгла мысль: нету? Тянуть, втягивать глубже. Пальцы надавили на резиновый пояс, помогая. Капитан, как младенец тычется в титьку мамки, шлепал брылой по патрубку – и зря, зря. Нательный спиртопровод дал сбой. Тромб, пробка вонючая! Он указательным и большим промял бастующую резину. Вот оно! Он, поддавливая, стал прогонять пробку – пошла. Зубами подхватил ее край, выдернул, хотел сплюнуть, передумал, взял на ладонь. Тонкий бумажный пыж. Чей? Приливная волна желания накатила: потом! Потом! Капитан всосал полной грудью, отпрянул, перевел дух. «Спирток, спиртяшечка, полугарчик!» Надсердная скорлупа дала трещину, сердце выклюнулось на волю, дыхание сделалось как у юноши. Теперь он ехал вприсоску, с юношеской душой, улыбаясь, и разворачивал на ладони пыж. «Билет. – Ему стало смешно. – Мой. Фамилия, имя. Мои. Почему здесь? Не помню.» Капитан разутюжил билет ладонями, прочитал где цена: «год». Это значило: если жизнь, двигаясь от рожденья к смерти, достигнет последней цифры, к примеру, шестидесяти лет, то некто, чье имя тайно, набрав на счетах шестьдесят костяных кружков, отщелкнет от них один, а остаток вернет владельцу. Такова плата за проезд. У них у всех были такие билеты. У всех, кроме Жданова. Жданов путешествовал зайцем.
Путешествуя зайцем, Жданов думал примерно следующее. «Все видел, все понимаю, неинтересно. Пресно – как блин без соли и сахара.» – «А Кишкан? Пресен? А штучки?» – «Люблю балаган, цирк, народные заседания, пивные драки. Но не шутов же?» – «Себя?» – «Себя.» – «Анну Павловну?» – «Может быть. Местами.» – «Смерти-то ты боишься, билет покупать не стал, сэкономил.» – «Скупой рыцарь барон Филипп. Как там? Ключи мои, ключи… Забыл. Черт с ним, с рыцарем.» – «Зачем ты едешь?» – «За компанию с дураками.» – «А они зачем?» – «Тут просто. Помани дурака счастьем, да заломи за него цену (будто они знают свой срок!) – дурак, он на костях мамы станцует.» – «Жданов, ты такой же нищий, как и они.» – «Маленькое отличие: у меня в заначке есть год.»
– У кого карта, Зискинд? У тебя карта? Здесь развилка. – Пучков остановил «самоедку». – Не понимаю, как она работает без бензина. Двигатель вроде как двигатель.
– Едет и едет, тебе-то что? – невесело сказал Жданов.
Зискинд вытащил из-под сиденья портфель, отколупнул замок и, копнув пятерней в требухе, выволок на свет карту.
– Так. – С минуту он вострил палец, наскабливая ноготь о зуб. Ткнул им в бледную зелень карты. – Так. – Подумал, двинул палец вперед, в сторону, отбил им барабанную дробь. Сказал: – Так.
– Ну и? – Пучков ждал ответа.
– В этом месте на карте дырка.
– Дай сюда. Не было дырки. Почему дырка?
Зискинд передал карту Пучкову. Жданов равнодушно зевнул. Анна Павловна протирала стаканы, готовясь к близкому чаепитию. Капитан улыбался.
Теперь водил пальцем Пучков. Вперед, в сторону, молчание, барабанная дробь.
– Не понимаю. Погоди-ка. Точно – края горелые. Зискинд, твоя работа. Ты ж сигаретой и прожег. – Пучков достал штангенциркуль и сделал замер дыры. – Ноль восемь, все правильно. С учетом обгорелых краев.
Зискинд наморщил лоб.
– Я вспомнил, надо направо.
– Послушайте: налево, направо – мы что, спешим? – Жданов перегнулся через борт и сорвал с земли одуванчик. Десница его с одуванчиком сотворила перед Пучковым крест, перед Зискиндом звезду Давидову. Белые, цвета Преображения, пушинки с копейцом на конце улеглись перед Пучковым крестом, перед Зискиндом звездою Давидовой. В воздухе загрохотало. Шла туча. Ворочались в животе у тучи голодные агнцы-ангелы. Ветер дунул – смел крест и звезду. Анна Павловна зябко поежилась. Жданов дал ей пиджак. Он был еще горячий. Капитан глубже уткнулся в рукав и сопел, как телка. Зискинд посмотрел на Пучкова. Пучков думал: «Одиноко, когда ночь, когда не в дороге, когда небо с тучей, как ночь. А Анна стала другая, совсем другая, и не узнать. Я сзади к капоту трубку из дюраля ей привернул полотенце сушить – спасибо сказала. Нет, как же она работает без бензина… болотная вода, болотный газ, зажигание…»
– Налево нельзя – «кирпич», – сказал Зискинд, – а на карте был восклицательный знак.
– К черту «нельзя»! Сейчас хлынет, сворачивай по дороге в лес! – Жданов замахал руками. – Сволочи! Хоть бы тент какой выдали, чертова бюрократия!
Он зачем-то выскочил из машины и вприпрыжку через предгрозовые сумерки настиг столб с «кирпичом», уперся в него с разбегу и повалил на землю.
– Свободно! Давай, Пучков.
Он стал пятиться в чащу, расплывался, делался дымом, от него остался лишь голос, обезьяной мечущийся в стволах. Скоро не стало и голоса.
«Самоедка», как перегруженная шаланда, медленно повернула в лес. Он был тих и огромен, больше тучи и выше неба. Ровными прореженными рядами здесь рос корабельный дуб. На многих деревьях лыко было содрано дочиста, и когда Зискинд бросил в одно такое спичечный коробок, могучий лесной басилевс ответил тонким сопрано, словно где-то глубоко в сердцевине под ребрами годичных кругов тосковало сердце дриады.
– Жданов!!! – закричал Пучков в рупор, который свернул из ладоней. Зискинд зашептал на него: «Да тише же». Он слушал дерево.
– Красиво, – сказала Анна Павловна. Зискинда обожгло. Он представил себя с Анной Павловной, как они сидят в Большом зале на Михайловской площади, четвертый ряд, правая сторона, места крайние от прохода, огни приглушены, публика полудышит, он держит ее руку в своей, чтобы она не взлетела на воздушном шарике Шумана, и буря от плещущих рук, которая вот-вот грянет, не унесла ее в заоблачье, далеко, где вороны похотливые рыщут, навроде безбилетного Жданова.
Кончилась музыка. «Самоедка» ворочалась на корнях. Скрипели пружинные рессоры. Дорога сползала в низину, косила на одну сторону. Пучков сплюнул: «Валахия!» – и вывернув к обочине, стал.
То ли туча клочьями грязной ваты залепила в кронах прорехи, то ли сами кроны сплотились вверху, чтобы выдержать грозовую брань, – но схмурилось в одночасье.
– Репино? – почувствовав, что машина остановилась, вскинулся Капитан. Анна Павловна погладила ему лоб рукой, и он жалобно зачмокал губами. Успокоился.
– Жданов! – орал Пучков и давил на резиновую пищалку. Жданов не отзывался. – Хватит уже, выходи! Знаем, ты за дерево спрятался.
– Вон, – сказал Зискинд, – там.
Неподалеку в промежутке между дубовыми башнями что-то тускло отсвечивало. Зискинд первым соскочил на обочину и подал Анне Павловне руку. За ними вылез Пучков, а четвертым, пошатываясь спросонья, – Капитан. Пучков поставил пищалку на автомат, чтобы ее позывные заменяли им ариаднину нить.
Это был никакой не Жданов. Это был высокий железный ящик, вроде тех, что на городских улицах торгуют шипучей водой. Пучков оценил его профессиональным прищуром, поскреб кожух и успокоился. Он всегда успокаивался, когда рядом имелась техника.
Сверху на аппарате стояла механическая птица, которую Зискинд после короткого совещания с Пучковым определил как кукушку.
– Так-с, – Пучков почесывал руки, – что тут у нас… «Опустите монету в щель», понятно. «Нажмите…»
Пальцы механика уже примеривали монету Кишкана к щели над черной кнопкой. Зискинд сделался очень бледный. Волнуясь, он оттирал Пучкова от аппарата.
– Кто его первый нашел? Ты?
– Ты, – соглашался Пучков, но место не уступал.
Зискинд стал наседать, в его фосфорных пальцах, словно бритва, была зажата монета; чья – чью? – две их монеты танцевали смертельный танец; щель была равнодушна к обеим; монеты терлись, разлетались и сталкивались, череп бился о череп, и в глазницах бурлила ночь.
Капитан, улыбаясь, смотрел на механическую кукушку. Анна Павловна стояла, смотрела, потом сказала:
– Послушайте, джентльмены, я не знаю, чего вы стараетесь, но дамам обычно принято уступать.
– Эта мертвая птица, Анечка, она умеет гадать, – сказал Капитан. – Я видел таких в Уэльсе, тамошние валлийские шарлатаны…
– Ну мальчики, ну пожалуйста.
– Анна Павловна, какие могут быть возражения, – сказал Зискинд.
– И я говорю. – Пучков освободил ей дорогу.
Монета Анны Павловны провалилась в щель.
– Кнопку, – напомнил Пучков и показал на кнопку.
Где-то над головами плыла ворчливая туча. Автомат молчал. Капитан отыскал в темноте обросший мохом бугор и сел, вытянув ноги. От него осталась одна улыбка и тихое телячье причмокивание.
Анна Павловна стукнула по кожуху кулаком, по лбу ее проползла морщина. Пучков со знанием дела давил на кнопку возврата. Зискинд тихо переживал.
И тут выкрашенная в серебро кукушка, приподняв раздвоенный хвост и низко опустив крылья, задергала головой и выдавила хриплое «ху» – одно-единственное.
– Год, – едва слышно прошептал Зискинд.
– Да уж, – Пучков надул небритые щеки.
Анна Павловна посмотрела на одного, на другого, потом на птицу, потом себе под ноги.
– Зискинд, теперь ты, – сказал Пучков.
– Я уступаю.
– Была не была, – Пучков опустил монету.
И снова – хриплое «ху», одно-единственное. Пучков пожал плечами и отошел. Зискинд медленно заносил руку над щелью, долго держал ее в воздухе – примеривался, потом так же медленно провалил кружок в аппарат. И замер, уставившись на кукушку. Та выхрипела свое «ху» и безжизненно свесила голову.
Капитан засмеялся. Зискинд с обидой посмотрел в его сторону.
– Я вспомнил… – начал говорить Капитан, но Зискинд его оборвал:
– Твоя очередь.
– Мне не на что, я свою потерял.
– Так несправедливо. Мы знаем, а у тебя, может быть…
– Здесь твоя. – Пучков достал кошелек. – Случайно нашел, на.
– Пучков, чтобы мне не вставать, брось за меня, пожалуйста.
– Нет, все слышали?
– Я брошу, – сказала Анна Павловна и опустила монету.
Кукушка продолжала молчать.
– Наелась, – сказал Капитан.
– Господа, – взял слово Зискинд, – что же это такое? – Он оглядел всех нехорошим взглядом. – А тот год, который мы заплатили?.. Если из этого, – он показал на кукушку, – вычесть этот, – он помахал билетом, – получается…
– Ноль получается, – сосчитал за него Пучков.
– Ноль. – Зискинд стал тревожно оглядываться, словно решал из-за какого ствола ждать постука старухи с клюкой.
– А вот мы ее… – Пучков нырнул за стволы и через минуту вернулся, неся в руке саквояж с инструментами. Он быстренько расправился с задней крышкой и стал копаться во внутренностях. Зискинд подсвечивал ему зажигалкой.
– Ржавые, – раздался из глубины голос Пучкова. – И пружина, и кривошип.
– Ржавые? – переспросил Зискинд.
– Все штыри сточены, кроме первого. С ней все ясно. Поэтому и кричит только раз. – Он вылез, поставил крышку на место и стал отряхиваться от ржавчины. Птица подняла голову, опустила хвост и крикнула. После этого раздался щелчок, будто с дорожки соскочила игла, и птица крикнула снова. И пошло. Она хрипела и щелкала, щелкала и давилась звуками. Она сыпала год за годом, но никто уже не считал, всем уже расхотелось. Зискинд, тот вообще вставил в уши пальцы, а Пучков поднял саквояж и отправился к «самоедке».
Через час в лесу просветлело и объявился Жданов. За каким-то из поворотов начиналась древняя вырубка, и на ней меж оплывших пней сидели двое.
– Пучков, у тебя болотной воды осталось? – спросил Жданов, вытирая рукавом рот, когда «самоедка» поравнялась с сидящими.
– С галлон, – ответил Пучков.
– Налей. – Жданов протянул кружку. Руку его вело. – Пьем мертвую. – Он толкнул в бок сидящего на соседнем пне Кишкана. – Мертвую пьем? – Тот качнулся, но не упал, мотнул опущенной головой и, не разлепляя век, вытащил из-за спины нож. Сделав им вялый взмах, он вернул нож на место. Жданов посмотрел на Анну Павловну и повторил, уронив голову: – Мертвую.
– Приехали – пьяный Жданов. – Анна Павловна всплеснула руками. – А этого ты где подцепил?
– Вот. – Жданов поднялся и откуда-то из-за пня достал холщевый мешок. Только сейчас все заметили, что на нем Кишкановы шаровары. – Спокойствие, смотреть никому не советую, особенно, козочка, тебе. – Он приподнял мешок: легко – весу в нем было не много. Что-то выпуклое и круглое проступило сквозь натянувшуюся холстину. Он тряхнул. Резкий, сухой стук. – Зискинд, ты слово «ксениласия» знаешь?
– Ксениласия – гостогонство, один из законов Ликурга для очистки государства от иностранцев.
– А «людодерство»? Можешь не отвечать. Знаю, что знаешь. Так вот, господа, мне тут путем обмена штанов кое-что удалось выяснить. В мешке, как вы уже догадались, обыкновенные человеческие черепа…
– Значит, этот его мешок…
– Кладовая для ваших голов, – закончил за него Жданов. И усмехнувшись, поправился: – Наших.
– Послушай, а как же ты? И штаны? – Пучков кивнул на ждановскую тонзурку и безразмерные Кишкановы шаровары.
– А что – я? Простая житейская наблюдательность. Нос у него какой? Сизый. От этого я и плясал. Тебе, Зискинд, как любителю исторической точности скажу вот что. Кишкан работал в замке Цепеша пивничером – завом винными погребами. А вино из погребов графа считается лучшим в Европе. И это странно, потому что виноград на его земле, я извиняюсь, говеный. Способ приготовления, естественно, хранился в великой тайне, а наемные мастера-виноделы загадочным образом исчезали.
– О… – открыл рот Пучков.
– Откуда я это знаю? Он, – Жданов показал на Кишкана, – как всякий приличный пьяница считает себя писателем. Сочинение, которое он кропает последние десять лет, называется «Вехи жизненного пути». Я нашел рукопись в шароварах, когда мы поменялись штанами. Почерк такой, что текст почти не читается, но кое-что я разобрал. Например, секрет Цепешова вина. Оказывается, делать его так просто, что узнай об этом Европа, Цепеш быстренько бы пошел по миру. Всего-то умения – добавляй к мере вина четверть меры человеческой крови.
Кишкан зашевелился во сне и нервно передернул плечами.
– Минуточку, – Жданов запустил руку под шаровары и достал стеклянную трубку, по виду схожую с градусником. На одном из ее концов была навернута резиновая присоска. Размахнувшись, он пришлепнул прибор к багровой полосе кожи между воротом и заросшей скулой Кишкана.
– Илла лахо, – пробормотал Кишкан, а Жданов уже вертел стекло перед носом.
– Остается десять минут, – сказал он, изучив показания. – Пучков, ты спрашивал про шаровары. Их я не то чтобы обменял, просто убедил его спьяну, что в Европе, куда он собрался драпать, мода на шаровары прошла.
– Зачем это тебе, Жданов?
– Не знаю, вдруг захотелось. А почему нет? Удобно, не тесно, отличная защита от мух. И потом – не обменяйся я с ним штанами, как бы мы получили рукопись? Вот ты, Анютка… Постойте, а где Анютка?
Анны Павловны нигде не было. Ни за машиной, ни под машиной, ни на дороге.
– Может, она дело справляет? Пойду посмотрю в кустах. – Жданов обшарил кусты, покричал, поаукал и ни с чем вернулся к машине. – Чертова баба. Леший ее что ли унес?
– Слишком он был красивый, леший, – улыбнулся Капитан.
– Не понял. Ты про кого? – Жданов подозрительно на него посмотрел.
– Про того, к кому она побежала, когда ты ставил Кишкану градусник. Он стоял вон за тем дубом.
– Слушай, ты, пьяная кочерыжка. Значит, все видел, дал ей спокойно уйти и думаешь, так и надо?
– Жданов, Жданов… Знал бы ты, Жданов, как у нее светилось лицо, когда она его увидала. Я с детства не помню такого счастливого света. Если бы женщина когда-нибудь вот так на меня посмотрела, я… – Улыбка его стала печальной, а голос тихим. – Я не то что год, я бы всю жизнь отдал за такой взгляд.
– Дурак, – безнадежно махнул рукой Жданов.
– Сам ты дурак, – сказал молчавший до того Зискинд. – И души у тебя ни на грош.
– Ну и этого понесло – «души». Что такое душа, я, может быть, побольше вашего знаю. И злой я потому, может быть, что не на меня она посмотрела. Обидно, просто сдохнуть хочется, так обидно.
– И мне, – тихо сказал Пучков.
– Тьфу! Как в обмороке – взгляд, свет… – Жданов яростно натирал виски. – Этот через минуту проснется, а мы тут сопли пускаем. Уходить надо. Забыли? – Он с размаху поддал мешок. – И вообще, все, что есть на свете, все это плотской обман и прельщение. Чьи это слова, Зискинд?
– Апостола Иоанна.
– Вот видишь. Соблазн для глаз – тело красивое. Заводи Пучков, сматываемся.
– Я пробую. Не хочет она заводиться. – Он слез, зашел к «самоедке» сбоку и покачал пристяжной бак. – Пусто. Испарилась она что ли? Пробоин нет. – Он достал из-под сиденья канистру. – Пустая. Был же целый галлон. Что за дела, товарищи?
– Черт с ней, уходим так. А-а, поздно. Давайте все в дерево.
Зискинд быстро, Пучков медленно, еще медленней Капитан – отправились вслед широкой спине Жданова к ближайшему дубу-великану.
– За дерево? – не расслышал Зискинд.
– На дерево? – переспросил Пучков.
– Он сказал – в дерево, – ответил им Капитан.
– Этот лес, – сказал Жданов, – появился на свет не так, как другие леса. Его посадили свиньи. Те самые, которыми Иисус пленил бесов и сбросил их с кручи в море. На самом деле свиньи не утонули. Буря их выбросила на берег, и они, гонимые страхом, долго бежали по миру и, пробегая Валахией, выбросили из себя те желуди, которыми кормились в земле Гадаринской. И там, где упали желуди, выросли эти деревья. Те из них, что стоят бескорые, – самые высокие среди всех – они-то и есть свидетели времен Иисусовой славы. Внутри они пустые как выпитая бутылка, и причина этого – штопорный червь, который подкапывается из-под корней и выедает ствол до самой вершины. Помните, фокус Кишкана? Дерево еще не успело сбросить кору, червь его только что пробуравил и… Скорее, доскажу после. – Он схватил за руку Зискинда, тот Пучкова, Пучков послушного Капитана, и вот они очутились в высоченной дубовой башне, в темноте, и у всех, кроме, может быть, Жданова, жизни оставалось час, полчаса, минута или и того меньше.
– Очень похоже на ловушку, – сказал Зискинд, ощупывая глазами темноту.
– Спросонья он вряд ли сообразит, что мы спрятались в дубе.
– А следы? – веско спросил Пучков.
– Ерунда. После болотной воды, после наших с ним давешних танцев… Не верю.
– Ох. – Пучков ударился в темноте головой о что-то тяжелое и большое. – Ох,– повторил он через пару секунд, потому что ударился о что-то тяжелое и большое опять. Когда его зренье понемногу стало привыкать к темноте, он увидел подвешенную на цепь бадью или, скорее, необычайно больших размеров шайку, наподобие банной. Приглядевшись внимательно, Пучков обнаружил, что цепь наворачивается на блок и два конца ее, один параллельно другому, уходят вверх, к маленькому пятнышку света, едва видному, словно первая звездочка в умирающем свете зари.
– А ну-ка. – Он забрался в шайку и обнаружил железную рукоятку, торчащую из зубчатой шестерни. – Подъемник, – прошептал он радостным шепотом и принялся накручивать рукоятку.
– А мы? А нас? – закричали Жданов и Зискинд, один Капитан просто стоял и ждал.
– Ах да. – Пучков опустил таз пониже, и вот они на ручной тяге уже поднимались вверх, и с каждым скрипом подъемника вокруг становилось светлее. Когда звездочка света сделалась величиной с блюдце, а кожу у Пучкова на лбу стал разъедать трудовой пот, внизу послышался шум. Жданов свесил вниз ухо, прислушался и сказал Пучкову: «Поднавались!» Тот только помотал головой, было видно, что он устал.
– Жданов! – раздалось снизу. Все узнали голос Кишкана. – Где баба, которую ты мне за штаны обещал? Ясак-харача, илла лахо, бакшиш давал? Брудершафт-воду пил? Где баба Анютка-джан?
– Вот турок! Крути, Пучков, а то всем нам в дубе кранты!
Когда они поднялись наверх и закрепились железной лапой за срез ствола, Жданов первый спрыгнул в широкий желоб, неизвестно кем проделанный в торце кольцевой стены. Верхушки у дуба не было, а когда они посмотрели вокруг на море блестящих листьев, то увидели, что дерево, на котором они стояли, в этом лесу не одно такое. Словно башни, поднимались среди листвы ровно спиленные вершины дубов. Некоторые были с зубцами, в других они разглядели маленькие квадраты бойниц.
– Лес-крепость, вот что это такое. Сколько сторожевых башен! – Пучков на пальцах стал пересчитывать выступающие спиленные вершины, но сбился и перестал.
– Больше похоже на укрепленные острова на зеленом море, – ответил на это Зискинд.
– Н-да, – Жданов почесал подбородок, потом уперся руками в борт.
Капитан, прикрывая глаза от света сложенной козырьком ладонью, смотрел в зеленую даль.
– Что видно? – спросил его Жданов.
– Солнце, листья, дорогу, – сказал Капитан. – Пыль на дороге.
– Пыль?
– Анна Павловна обнимает за плечи человека на велосипеде. На спицах радуга. Они приближаются к высокому дому… нет, не к дому, для дома он слишком тяжел. Вокруг ров, моста через ров не видно. Не доехали. Остановились. Бросили велосипед у обочины. Она смеется. Он срывает виноградную гроздь. Дает ей. Она вплетает ее себе в волосы. Он падает перед ней на колени. Она тоже. Он… Она… Солнце. Слишком слепит. Какие-то темные тени.
– Это он?
– Да.
– И лицо у него такое худое, нос острый и усы кольцами?
– Да, красивое.
– Цепеш, так я и знал.
Зискинд вдруг засмеялся, сначала тихо, будто подслушал внутри себя какую-то веселую мысль, потом громче, и смех его покатился по кипящему серебру листвы – туда, где кончался лес, туда, где продолжалась дорога, туда, где брошенный на дороге велосипед затягивала теплая пыль. Смех кончился как и начался – вдруг. Зискинд сказал:
– Пир нищих. Вход по билетам. Капитан, у тебя зренье чайки, посмотри, только очень внимательно, какого цвета виноград в ее волосах? Не красного?
– Солнце, – сказал Капитан. – Оно здесь рано садится.
– Солнце? – переспросил Жданов и нервным движением руки выдернул из-под пояса рукопись. – Солнце, солнце… – Он отбрасывал за листом лист, и они, словно бумажные птицы, летели на солнечный свет. – Вот. – Он наконец нашел что искал и стал читать сбивчиво и неровно:
– Валахия! Ты лежишь между землей Палестины и дыханием индийских слонов, между плеском варяжских весел… Так, так, это скучно. Ага, вот. Небо твое твердо, как кость, и солнце твое быстро, как пуля. И любовь, сжигающая дотла виноградники и убивающая в богах богов, царей в царях, нищих в нищих, и оставляющая в живых лишь губы, кожу, воспаленные от горячки веки, ходит, прислушиваясь к сердцам и разделяя на сильных и слабых, живых и мертвых. Валахия! Есть ли ты на земле, или имя твое лишь вышитый на саване знак, к которому стремятся… Ну и так далее.