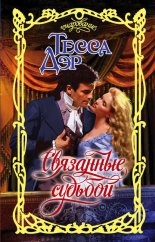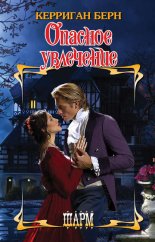Шекспир мне друг, но истина дороже. Чудны дела твои, Господи! Устинова Татьяна
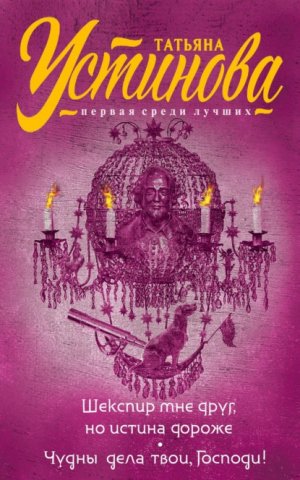
– У меня к вам есть вопросы, – сказал он неприятным голосом. – Я не успел задать.
– Давайте завтра. Я не могу сейчас.
Она пошла к калитке по расчищенному снегу – видно, человек с лопатой и тут постарался.
– Доброго вечера!
Человек подходил из метели, и Максим узнал в нем соседа по директорской ложе, угощавшего их с Федей коньяком. По всей видимости, это он сомневался в хозяйственных способностях Романа Земскова.
Озеров сдернул перчатку и пожал широченную огненную лапу соседа.
– Георгий, – представился тот, – впрочем, мы люди знакомые. Ольга Михайловна, я там у тебя тоже почистил перед крыльцом!
– Спасибо. – Она уже почти скрылась за калиткой.
– Подожди, у меня дело к тебе!
– Не хочу, не надо, Егор. До свидания, Максим Викторович.
– Плохо! – оценил сосед и со всего размаха воткнул свою лопату в сугроб.
– Совсем плохо, – поддержал его Озеров и накинул капюшон. Федина шапка «Пар всему голова» сейчас пришлась бы очень кстати.
– Так ведь я от нее по-любому не отстану, – сообщил Георгий, как будто продолжая давно начатый разговор. – Она, дурочка, думает, если дверь замкнет или вон калитку запрет, так я и не приду. А что ж, я ее брошу, что ли?! Еще утопится, она может.
– Утопиться может?
Георгий энергично кивнул и отер со лба пот – ему было жарко.
– Чего там у них за канитель, на театре-то? Вы ж наверняка знаете!
– Знаю, – согласился Озеров. – Как по отчеству, я забыл? Георгий Александрович?
– Алексеевич! Да не надо отчества! Называй Егором! Или тебе по московской привычке несподручно?
– Ничего, нормально. В театре, Егор, хорошего мало. Неразбериха и полное замешательство. Тайфун. А соседка твоя прямо посередине!..
– Пойдем поговорим? – предложил Георгий, подумав. – Водки выпьем!
– Да я за рулем.
– А руль твой мы на участок загоним. Вон сейчас вороти-ну откачу, и заезжай! Сегодня водки выпьем, а завтра руль заберешь! Чего тут, все рядом, и театр, и гостиница твоя!
…И почему-то Озеров согласился! Не то чтоб его тянуло выпить, и именно водки, и непременно с полузнакомым человеком, и обязательно с неудобствами – бросать машину на чужом дворе, с утра забирать ее, а сегодня еще как-то до гостиницы добираться, хоть она и рядом, но добираться как-то все равно придется! Но ему хотелось… разговоров: чужих секретов, странных тайн, неожиданных признаний. Незаметно для себя он как будто втянулся в пьесу о любви и смерти, втянулся до такой степени, что каким-то образом перемахнул барьер, и теперь сам играет на сцене среди актеров, и ему верится, что все происходящее – правда, что здесь, на сцене, и есть настоящая жизнь, а за бархатным ограждением – лишь зрительный зал, и от него, Озерова, зависит, поймут те, кто в зале, в чем смысл жизни, или нет!..
В доме было тепло и пахло печкой и как будто овчиной. Впрочем, овчина вскоре разъяснилась: на дощатом полу в комнате лежали истоптанные шкуры.
– Это у меня заместо ковров, – пояснил Георгий, хотя Озеров ни о чем не спрашивал. – Вон я по телевизору недавно передачу про ремонт смотрел, так там говорили, что ковры только мусульмане обожают, тогда выходит, мы все тут мусульмане!.. Дует сильно, а дома-то старые, кругом щели! Так у нас у всех ковры, только у меня, видишь, шкуры. Мне Серега-фермер по дешевке подгоняет. Удобно и, главное, тепло не выдувает. Ты садись, а я ужин соберу. Судак заливной есть, ты как? Любитель?
Озеров сказал, что любитель.
– Вот и хорошо. На закуску он первое дело.
В комнате с овечьими шкурами находились еще ковровый продавленный диван, книжный шкаф с волнистыми зелеными стеклами, овальный стол с откинутой до половины скатертью. На скатерти стояли стакан и какие-то пузырьки, а на другой половине навалены всякие нужные вещи – паяльник, пассатижи, жестянка с канифолью, мотки медной проволоки, кусачки и мелкие гвоздики в коробке из-под печенья.
– А куда мне всю эту музыку девать? – удивился Георгий, хотя Озеров ни о чем его не спрашивал. – Тут хоть свет хороший, прям под лампой! В гараже холодно, я по зимнему времени всегда здесь работаю. Хочу летом верстак организовать в доме. Места ему никак не придумаю. Ну-ка прими, прими отсюда склянки-то!..
Максим собрал со скатерти пузырьки.
– Это я Ляльке прошлой ночью коктейль сооружал, видишь, капли успокоительные. Она тут у меня прямо на кухне и заснула. Я ее, правда, ухандокал – заставил дрова таскать, а потом еще снег чистить. А чего делать-то?.. Она сидит как истукан, лица нет на ней, одно сплошное… – он поискал слова, – горе горькое вместо лица!.. А все из-за артиста этого, чтоб ему сгореть, мать его так и эдак!..
– Я так понимаю, у них любовь была, а он от нее ушел.
– Да какая там любовь!.. Придурь была, а не любовь. Она с него пылинки сдувала, в глаза глядела, дыхнуть при нем не смела, а он только на диване лежал, а летом в качалке сидел. К роли, стало быть, готовился. Вот ты режиссер, да?
Озеров подтвердил, что он режиссер.
– Тогда скажи мне, разве так к роли готовятся? В качалке да на диване?
Озеров сказал, что готовятся по-разному.
– Ну, не знаю. Только никогда в жизни не поверю, что Евгений Леонов или там Михаил Ульянов напропалую в качалке лежали, а потом – ррраз!.. Что ни роль, то шедевр! Что ни фильм, то весь народ смотрит!
– Он что, как-то неожиданно от нее ушел?
– Слушай, режиссер, разве кто из них ожидает, когда их бросят?! Даже на театре такого не бывает! Они ж все надеются, что эти, твою мать, герои наконец-то их оценят и будут любить до самой могилы!.. Они дальше собственного носа не видят ничего! И Лялька ничего не видела! А этот пожил у нее годок с лишком, отдохнул от всего – она за ним убирала, стирала, подавала, наряжала его, как елку новогоднюю! Сама в каких-то тряпках ходит, а он у нее нарядный, с иголочки – все ведь на свои деньги покупала! Ну, пожил он, надоело ему это дело, он и пошел – лучшей доли искать! А она… не в себе. Уж третий день не в себе. Я же вижу. Я ее всю жизнь знаю и… вижу. Давай по первой так, без тоста.
И они синхронно опрокинули водку. В граненых стаканах ее было налито прилично, по трети, не меньше. Максим проглотил с некоторым усилием – давно водки не пил, – и заел маринованным груздем. Плотные белые грузди лежали в миске пластами.
– Бочковые, – объяснил Георгий, хотя Озеров ни о чем его не спрашивал. – У нас вокруг леса такие, что, если места знать, не бочку, а цистерну можно набрать. Вон я Ляльку летом возил, она в восторге была! Ну я, правда, за ягодой возил, за земляникой. Она на одной полянке разом полкорзинки набрала. – Лицо у него посветлело, сделалось добрым, приветливым, вспоминающим. – Мы машину-то на проселке оставили, поле перешли, только вошли в рощицу, а тут полянка эта! Березы вокруг, ромашки, просторно, бело все. И ни слепней тебе, ни комарья – божье место, правда. Утро было, не жарко еще, не маятно. Она как увидала ягоду-то, Егор, кричит, тут ступить от земляники некуда! Легла на живот и так собирала. Мы всего часа два с половиной походили, а полные корзинки набрали и на двоих бидончик маленький.
Озеров цеплял с тарелки заливного судака, жевал и слушал про бидончик. От водки ему стало тепло и уютно.
– А когда к машине вернулись, одеяло расстелили, припасы достали, и обед у нас был. Прямо под березами! Лялька чаю сделала целый термос и плюшек сладких напекла. А я картошки наварил, ну, огурчиков собрал, хлебца свежего тоже. Так мы еще два часа на этом одеяле просидели! Она потом на часы глянула – батюшки, время-то!..
…А у вас какая любовь, вспомнилось Максиму. Настоящая?.. Правильная?..
По всему видно, сосед Георгий Алексеевич сейчас тоже рассказывает историю про любовь, только вовсе про другую, про свою. И какая из двух наиболее правильная и настоящая?
– По мне, так свечку в церкви поставить надо, что он ушел-то. А она едва на ногах держится, так переживает. Слушай, ты сиди, я схожу за ней. Она упираться станет, конечно, но я все равно уговорю…
– Подожди, Егор, – сказал Озеров. – Мы вместе сходим и уговорим. Она при мне стесняется переживать, я человек посторонний!.. Ты мне скажи, у нее в театре есть враги? Кто-нибудь ее ненавидит или, может, презирает? Никому она дорогу не переходила – так, чтоб всерьез?
– Лялька дорогу? – поразился Георгий. – Да я ее с малолетства знаю, добрая она, как… как… щенок домашний! Добрая, честная, деликатная, а стойкая какая! Родители когда у нее болели, она что ни день, то в больнице, что ни ночь, то передачи какие-то готовит, еду специальную! И ни разу не пожаловалась, только все говорила – ничего, ничего, лишь бы живы! Я помогал, как мог, только чего я могу-то? Ну, отвезти-привезти, на рынок там, в магазин. Откуда у нее враги?
Она столько книжек перечитала умных, а в книжках пишут, как надо жить, – никому не мешать, всем помогать, всех любить, на своем месте стараться. Я так понимаю.
– Бывает, и так пишут, – сказал Максим, – а бывает, и по-другому. То есть врагов у нее нет?
– Да откуда они возьмутся-то?! Она что, кровавый карлик Чон-Дух Ван из Южной Кореи?! – Озеров усмехнулся. – Я тебе говорю – золотой она человек, редкий. Мало таких. И красивая!.. Если б ей приодеться посовременнее да меньше за всякими подонками ухаживать…
– Ей в кабинет подкинули улику. Да такую, против которой все твои славословия – чушь и ерунда.
– Какую такую улику? – перепугался сосед.
Озеров рассказал про связку ключей покойного Верховенцева, среди которых был ключ от сейфа, а из этого сейфа украли ни много ни мало полмиллиона рублей. Сосед слушал очень внимательно, даже жевать перестал.
– А она дверь при мне запирала и наутро при мне отпирала!..
– Так может, запасными кто открыл?
– Вот и я хочу выяснить, давала она кому-нибудь ключ от своего кабинета, или, может, теряла недавно, или дубликаты делала!
– Пошли, – распорядился Георгий. – Сама ужинать ни за что не согласится, так мы ее в ковер завернем и доставим.
– Ты бы с ней… поосторожней, Георгий Алексеевич, – посоветовал Максим, поднимаясь из-за стола. – Сам говоришь, она деликатная и книжек много читала. Ты действуй, как в книжках написано.
– Смеешься? – осведомился сосед, но Озеров и не думал смеяться!..
Он уже обо всем догадался – о любви и не-любви, о совпадениях и не-совпадениях, о попытках защитить и помочь, и о том, насколько они неуклюжи, догадался тоже. Он понимал, что ничего не выйдет из этих попыток – Ляле слишком дорога ее книжная трагедия и ее придуманный герой, она ни за что не захочет с ними расстаться ради простой, земной, примитивной жизни и румяного деятельного соседа!..
…У вас правильная любовь? Настоящая?
Что более правильно – книжная трагедия или простая жизнь? Кто более настоящий – длинноволосый небритый гений или румяный сосед?..
– Стой, куда! Мы сейчас через калитку пройдем! Еще родители наши тут калитку устроили, чтоб к соседям быстрей попадать. Отец, бывало, ведро яблок наберет и соседям на крыльцо поставит. У них сад поменьше нашего, и яблони все осенние, ранних нет. Угощали.
Свет в Лялиных окнах не горел, только над крыльцом светила желтая лампочка.
– Наверняка на диване лежит, – пробормотал Георгий. – Она теперь почти все время так. Придет с работы, ляжет и лежит…
Дверь оказалась заперта.
– Что это она? Заперлась! Сроду мы двери не запираем!.. Или это она от меня? Я ей в прошлый раз говорю – на замок закроешься, так я в окошко влезу, долго ли!.. Ляля! Открывай! Открывай, соседка!
И загрохотал кулачищами.
А Озеров вдруг забеспокоился. Что-то его насторожило – то ли безмолвие и чернота дома, то ли свет единственной лампочки, показавшийся тревожным, то ли следы на дорожке, которую равномерно засыпал снег. Их было много, как будто Ляля приходила и уходила несколько раз!.. Или еще кто-то приходил и… уходил?
– Открывай, Ляля! Заснула ты, что ли?..
– Что-то не то, Георгий Алексеевич, – сказал Максим быстро. – Подожди, не грохочи.
Содрав с головы капюшон, он припал ухом к замочной скважине и прислушался. Ему показалось, что изнутри доносятся слабые потрескивания.
Кажется, сосед тоже расслышал, потому что спрыгнул с крыльца и побежал вокруг дома, увязая в снегу. Он добежал до лавочки, вскарабкался на нее, локтем высадил стекло, закрывая от брызнувших осколков лицо шапкой, и зашарил с той стороны в поисках шпингалета. С силой дернул раму раз, другой и, когда она распахнулась, прыгнул в темный дом.
– Ляля!
Вдалеке что-то светилось веселым оранжевым светом.
Расставшись с приезжим режиссером и соседом Атамановым, Ляля зашла в дом и постояла, прислушиваясь к привычным звукам. Шумел котел отопления, и в подполе что-то шуршало – не дай бог, мыши завелись!.. Ляля пристроила на вешалку платок и пальто, мокрые от снега, один о другой стянула башмаки и, не зажигая света, прошла в комнату и легла на диван.
Повезло, что Егор отвлекся на режиссера. Хорошо бы он вообще о ней забыл – навсегда. Она не может и не хочет его видеть, и разговаривать у нее нет сил. Ей нужно пережить сегодня и дожить до завтра, хотя – зачем?.. Зачем доживать до завтра? Чем завтра будет отличаться от сегодня?..
Ромка на репетиции, когда Никифорова нашла эти злосчастные ключи, даже не попытался защитить ее, Лялю. Он не возмутился, не закричал, не стал требовать, чтобы Валерия Дорожкина перед ней извинилась. Кажется, он сказал ей, чтобы замолчала, и отвернулся.
…Так теперь будет всегда. Никто и никогда не станет ее защищать, потому что она никому не нужна. Она и сама себе больше не нужна. Наверное, это трудно понять Юриванычу, который все пытался ей объяснить, что нести ключи следователю никак нельзя, потому что Ляля попадет под подозрение. Но какая разница, попадет она или не попадет?.. Какая разница, что теперь будет с ней?.. Ее, Ляли Вершининой, не стало, и она прежняя никогда не вернется. Новое существо, поселившееся в ее теле – равнодушное, холодное, печальное, – никому не нужно и неинтересно.
Ляля закинула голову. Лежать было неудобно, но она не стала поправлять подушку – зачем?.. Ей и должно быть неудобно. Ей должно быть неудобно, мерзко, одиноко – и это правильно! Это расплата за счастье.
…Кажется, она вчера уже думала об этом.
Дверь заскрипела, и Ляля прислушалась, вынырнув из колючего пледа.
Должно быть, сосед пришел звать ее на водку с жареной картошкой. Или таскать дрова. Или грести снег. Или укрывать розы.
Ромка, милый, зачем ты отдал меня всем этим людям?! Которые знай себе пьют водку и жрут картошку и в руках отродясь не держали ничего, кроме лопаты?!
Ромка, милый, как мне жить среди них после того, как я пожила с… тобой? Ты же такой умный, такой странный. Ты прочел столько книг!.. Мы с тобой разговаривали так, как будто читали их вместе! Ты же все понимаешь и чувствуешь, как я сама.
Ромка, милый, как ты будешь один, без меня? Кого ты будешь смешить и пугать, неожиданно выпрыгнув из-за занавески! Помнишь, как ты напугал меня?! А помнишь, как ты вдруг стал шепелявить и шепелявил весь вечер, а я весь вечер хохотала, так это было весело и похоже на старичка-билетера из нашего театра! Кому ты станешь вслух декламировать «Снег идет и все в смятенье»?!
Со стороны коридора зашуршало, как будто змея проползла.
– Егор, – позвала Ляля, прикрывая пледом рот, – ну что ты там копошишься? Уйди, пожалуйста! Я к тебе не пойду, дорожки чистить не стану, и дрова свои ты сам перетаскаешь, и больше ты ко мне…
Договорить она не успела.
Плед сам по себе вырвался у нее из рук и закрутился вокруг головы и шеи. Сверху навалилось еще что-то, тяжелое и плотное, и не давало ей дышать. Ляля задергалась, вырываясь, но плед держал ее крепко, со всех сторон. Ляля сопротивлялась сначала неуверенно, потом бешено, изо всех сил, и это бешеное сопротивление лишило ее остатков воздуха и сил. В глазах у нее стало светло, как днем, словно разошлись какие-то темные занавесы, и она подумала: все, это все.
…Она очнулась от приснившегося кошмара, стала хватать ртом воздух и резко села в темноте. Было очень неудобно и больно, и она никак не могла понять почему. Ляля закрутила головой, замычала и сбросила ноги с дивана.
Руки у нее были связаны за спиной. Вот в чем дело – руки связаны.
– Спокойно, – сказал из темноты неопределенный голос. – Не нужно лишних движений.
Ляля хотела закричать, но не смогла. Рука, непохожая на человеческую, вынырнула из мрака и взяла ее за горло. Воздуха опять не стало. Ляля забила ногами по полу.
– Спокойно, – повторил голос и слегка ослабил хватку. – Не надо кричать.
Ляля судорожно, со всхлипами задышала.
К ее рту приблизился стакан. В нем что-то плескалось.
– Пей.
Ляля замотала головой.
Не похожая на человеческую рука взяла ее за затылок, откинула голову, а другая полезла в рот и открыла его. Рука была покрыта шерстью и кололась.
– Глотай! – И стала лить воду ей в рот. Ляля начала захлебываться, а потом глотать, ей некуда было деваться.
Она выпила всю воду – на вкус она была горькой, – и призрак куда-то делся, а потом опять появился. Стакан у него в руке был снова полон.
– Давай.
И все повторилось. Сначала Ляля захлебывалась и кашляла, потом стала глотать.
– Вот и все, – сказал призрак. Лица его она не видела. – Ложись и жди. Сейчас у тебя все будет прекрасно.
И толкнул ее. Она повалилась на диван.
Он что-то делал, куда-то двигал ее стол.
– Помогите, – выговорила Ляля.
– Я помогаю, – ответил призрак и обернулся.
У него не было лица. Вместо лица черный провал.
– Помогите, – попросила Ляля еще раз. В глазах у нее вдруг все закачалось и поплыло, стало странно извиваться, удлиняться, вытягиваться, и голова с черным провалом вместо лица вытянулась, как лошадиная, и замоталась из стороны в сторону.
– Во-от и все-о-о, – низким басом протянула лошадиная голова.
Когда она замерла и вытянулась, человек в маске аккуратно развязал ей руки, веревку спрятал в карман, саму Лялю уложил получше – голову на подушку, а руки крестом на груди, и его вдруг развеселили эти сложенные руки.
Он пооглядывался по сторонам, взял Лялину сумку и заглянул. Сумке отводилась особая роль.
Потом, хотя ему жаль было разрушать композицию, он поднял одну Лялину руку, вложил в нее стакан и отпустил. Рука упала, стакан покатился. Отлично.
Принесенная с собой свечка не понадобилась – у Ляли на пианино стояли толстые белые свечи в подсвечниках. Человек аккуратно побрызгал на шторы и скатерть из небольшого металлического баллона, подумал и облил еще стену шкафа. Зажег свечу и огляделся.
Все идеально.
Сгорит за несколько минут, и не останется никаких следов.
А если и останутся – у него все предусмотрено.
Он прошел к входной двери, задвинул щеколду и повернул замок. Взял Лялину сумку и повесил себе на локоть.
Тут ему стало окончательно легко и весело.
Он подумал, положил подсвечник на стол, от свечи поджег скатерть, по которой сразу побежал веселый голубоватый огонь и стал лизать бок шкафа. Человек бросил в огонь свечу, аккуратно вылез в ближайшее окно и плотно притворил его за собой. В сугробе могут остаться следы, но это не важно – от самого сугроба после пожара ничего не останется.
Человек размахнулся и швырнул подальше Лялину сумку. Она плюхнулась далеко и сразу утонула в снегу. Вот сумка как раз не должна пострадать. Ее должны будут найти, и все станет на свои места. Он еще оглянулся. В доме весело горело.
Вдоль стены, увязая по колено, – этот снег превратится в воду, и вода скроет все следы! – он добрался до крыльца, стянул с лица маску и пошел по дорожке к воротам.
Следы на дорожке через десять минут заметет. Да и не страшны ему никакие следы!
В тот самый момент, когда он выходил из ворот на улицу, сосед Атаманов и приезжий московский режиссер открывали калитку.
Если бы Озеров пошел, как хотел, через улицу, он бы встретился с человеком лицом к лицу. Но он пошел за Атамановым, и они не встретились.
Горело уже вовсю, полыхали шторы и стол, и кажется, потолок занялся тоже.
– Лялька, пожар! – ревел Атаманов. – Лялька, беги!..
В дыму и отсветах пламени он увидел ее на диване, взвалил на плечо и потащил из дома. Озеров секунду или две думал, потом содрал с дивана плед, кое-как обернул им руки и стал стаскивать горящие занавески. Он отворачивался от пламени и орал:
– Твою мать!.. Чтоб тебя!.. Мать твою!..
Он наконец сорвал занавески и вышвырнул в окно, которое как-то само по себе открылось, от жара, что ли. Туда же полетела скатерть. Старый стол тлел, и Озеров начал лупить по нему диванной подушкой, сбивая пламя. Оно сбивалось очень плохо.
Тут кто-то стал помогать ему с той стороны, с улицы – в окно полетели целые кучи снега. Они валились на пол и на стол, снег шипел, валил дым, и пламя отступало. Еще горел шкаф у стены.
– Кидай туда! – закричал Озеров, кашляя от дыма. Он сорвал оконную раму, чтобы удобнее было бросать снег.
– Давай сам! Там… Лялька! Может, жива?!
Озеров выпрыгнул в окно, в руке сама собой у него оказалась большая снеговая лопата. Он стал швырять снег в дом так, чтобы попадать в шкаф. Он швырял остервенело, изо всех сил, а огонь все горел и горел.
Из окна валил дым, Максим плохо видел, кашлял, отворачивался и все кидал, кидал. Потом, перевалившись через подоконник, влез обратно в дом и лопату за собой втянул. Внутри гарью пахло еще сильнее, он старался не дышать. Под окном на полу образовалась целая куча снега, и Озеров стал закидывать им тлеющий шкаф.
Шкаф он тушил долго.
Он не знал, несколько часов или суток, но в какой-то момент оказалось, что все кончилось. Больше не горит.
Свесившись в окно, он долго и надсадно кашлял, почти до рвоты, затем сообразил, что нужно вылезти на улицу. Он вылез, постоял, приходя в себя, потом побрел вдоль стены дома, держась за нее рукой.
Ляля, вдруг спохватился он. Егор кричал что-то про Лялю – может, жива?..
Некоторое время Федя и Василиса шли молча. Потом Феде это надоело, и он рассказал байку про один московский театр, где осуществляли революционную постановку Шекспира. Революционность заключалась в том, что все женские роли исполняли мужчины, а все мужские – женщины, а в финале на сцену выходил настоящий конь. И вот когда конь вышел, Федин папаша, которого мамаша потащила на революционную постановку, стал листать программку, чтобы узнать, кто исполняет роль коня, верблюд или осел.
Федя рассказал это довольно смешно, но Василиса не засмеялась, строго посмотрела на него и сказала, что у режиссеров подчас бывают разные идеи, иногда не слишком удачные, театр на то и существует, чтобы там была свобода самовыражения. То есть режиссер может делать на сцене все что угодно. Он творец.
– Но это нелогично, – возразил Федя. – Тогда на самом деле на роль коня нужно было пригласить осла. Или лося. Он бы выходил с табличкой «Конь». Нет, ну, согласитесь, Кузина Бетси! Если Беатриче – мужик с бородой и в брюках, тогда почему конь – конь?
– Я не знаю, – ответила Василиса. – Я же не видела спектакля!
– Мой отец тоже сказал, что лучше бы он его не видел, а спокойно писал монографию дома. Ему нужно было монографию сдавать.
Василиса остановилась и взяла Федю за рукав нелепой зеленой куртки.
– Мне кажется, я знаю, кто устроил погром в костюмерной, – выпалила она ему в лицо. – Нет, не знаю, а догадываюсь. Только это так страшно, что я никому, никому не могу сказать!
– Погром? – переспросил Федя, который не сразу переключился с истории про коня. – В костюмерной?
– Ну да, да, когда нас заперли на складе! Вернее, я не знаю, кто его устроил, но, кажется, знаю, из-за чего. Что мне теперь делать, Федор?
– Расскажите мне. А дальше подумаем.
– Да, но человек, может быть, ни в чем не виноват! Может, я все придумываю, а на самом деле…
– Если вы не расскажете, мы не узнаем, что было на самом деле.
Она отпустила его руку и пошла вперед, горбясь еще больше. Федя нагнал ее в два шага.
– Вась, послушай, – заговорил он. – Даже если твои догадки… – он поискал слово, – неверны, все равно их стоит обсудить. Ну, правда. Ты сама подумай.
– Все как будто перевернулось, – сказала Василиса убитым голосом. – Вся жизнь! Ляля утащила у Верховенцева ключи, значит, она взяла деньги! Как такое возможно? Зачем она это сделала? Почему она эти ключи дурацкие у себя в кабинете спрятала, а не выбросила… с моста в Волгу! Роман собирается уходить навсегда, он остался только до Нового года. Виталия Васильевича отравили. И все это – у нас?!
– Ты не торопись с выводами, – посоветовал Федя. – С ключами на самом деле ничего не понятно.
– Ах, да что там непонятного! – Василиса махнула рукой. – Весь театр знает, что это Ляля Вершинина, а она такая хорошая! И я!.. Если я сейчас расскажу про костюмерную, это значит, я человека предам, да?
– Чушь, – уверенно заявил Федя.
– Почему, почему все так несправедливо?!
– Это ты о ложных обвинениях или вообще о жизни?
– Почему не бывает так, чтобы все хорошо? У нас же было хорошо, прекрасно просто! Мы так любим наш театр. И работу. У нас такая работа, лучше которой на свете нет! Мы все друг другу доверяли И любили! Нет, я знаю, что Валерия меня отчего-то терпеть не может и артистов против меня настраивает, но это не важно.
Она поскользнулась, и Федя поддержал ее под локоть.
– Хочешь, пойдем в кафе?
– Что ты, Федя, – перепугалась Василиса, – мне давно домой пора, меня бабушка ждет не дождется.
– Хорошо, излагай здесь и сейчас, – велел Федя. – И не скули, жизнь кончается не завтра. Может, все не так трагично, как ты себе навоображала. Хотя лучше бы в кафе, конечно. У меня ботинки «Тимберленд», они в принципе не промокают, – и он заскакал на одной ноге, вытянув вперед другую, чтобы Василиса оценила его ботинки. – Хорошо, что мокасины не надел, они хоть и меховые, а толку от них никакого. А у тебя вообще какие-то вьетнамки. Небось насквозь давно.
Василисины сапоги на самом деле давно промокли, как будто ледяная каша была не только снаружи, но и внутри. Надо будет носки от бабушки спрятать. Она все время беспокоится, что Василиса простудится и заболеет.
– И есть хочется! Тебе не хочется есть?
– Хочется, – призналась Василиса, думая о том, что жизнь, и без того довольно трудная, вдруг стала совсем безрадостной и опасной. Опасность заключается в том, что кто-то из тех, кому доверяешь и кого любишь или почти любишь, может вдруг подвести – оказаться врагом. Разве можно так жить, подозревая всех, кто рядом?..
– Тогда, может, все же в кафе, а? Там еду дадут! – спросил Федя, по-прежнему прыгая на одной ноге.
– В костюмерной искали то, что там прячет Софочка, – выпалила Василиса, и Федя перестал скакать. – А она прячет что-то очень серьезное и важное.
– Подожди, Софочка – это кто?
– Заведующая костюмерным цехом, боже мой!.. Ты ее видел в первый день, когда у нас скандал был!..
– А-а-а, на студень похожа!
– Она прекрасный костюмер, самый опытный! Она из ничего, из воздуха, из лоскутов каких-то и тряпок может такой костюм сделать, что…
– Да подожди, не кричи! Я же не говорю, что она плохой костюмер. Я говорю, что она похожа на…
– Ну и похожа! – совсем уж раскричалась Василиса. – Ну и что?! У нее диабет! Она на свои деньги импортный крахмал покупает, потому что наш пахнет плохо, и, например, Валерия Павловна костюм, от которого несет крахмалом, никогда не наденет! Софочка всегда в театре, даже когда у нее выходной! А знаешь, как она остальных гоняет, чтобы у артистов все было идеально! Чтоб артист перед спектаклем ни на что не отвлекался! Она и меня всему научила, хотя я никто, студентка на половинном окладе! И должности такой нет – помощник костюмера, а она меня взяла на работу, хотя я ничего, ничего не умела!
– Рассвирепела муха, как тигр, – откуда-то вспомнилось Феде. – Мы же совсем не про это говорим, Вася, душа моя! Пусть твоя Софочка сто раз прекрасный человек. Даже самый распрекрасный и расчудесный человек имеет полное право что-то прятать у себя в костюмерной! Усекла?
– Мне на автобус надо, – шмыгая носом, сказала Василиса. – Вон остановка.
– Я тебя провожу. Давай рассказывай! Что она прячет?
– Я никогда не видела, и она не рассказывала. Но я точно знаю, что прячет!..
…Василиса однажды принесла в костюмерный цех ворох звезд, сшитых вручную. Фея в детской сказке должна была осыпать звездами героев, и звезды должны были не падать на пол, а как-то оставаться на их костюмах и сиять. Долго думали, как это сделать, и решили нашить на обе стороны липучек, но так, чтобы их не было видно и они с гарантией цеплялись за одежду. Софочка сама и придумала!.. Звезд нужно было много, целый мешок, и они честно распределили работу на всех. Свои звезды Василиса дошивала дома – в цехе у нее не было своей швейной машинки, заготовки сделала Зинаида Павловна, а дома Василиса доделывала остальное. Она принесла свои звезды в понедельник, когда никакого спектакля не было, и цех начинал работать в одиннадцать, а не в десять, как в другие дни. Директор Юрий Иванович хоть и добрый, но в вопросах дисциплины очень требовательный! Опозданий терпеть не мог, задержек всяких не признавал и устраивал за них разнос на совещаниях – если бутафоры или декораторы не укладывались в отведенное время! Костюмеры укладывались всегда.
Так вот, Василиса принесла свои звезды. Дверь в цех была заперта, никого не могло быть на работе так рано, она открыла ее своим ключом и вошла. И остолбенела.
Посреди цеха стояла перепуганная Софочка, прижимавшая к груди какую-то жестяную коробку, на вид очень старую. У Василисиной бабушки в такой коробке хранились нитки и всякие лоскутки. На крышке была нарисована розовая, как пастила, барышня, выглядывавшая из окна, и Василиса очень любила ее разглядывать. Барышня была немного стершейся и кое-где проржавевшей, но все равно прекрасной. Бабушка говорила, что в таких коробках когда-то хранили пудру, помаду и склянки с духами. У каждой уважающей себя женщины была такая!..
– Извините, – пробормотала Василиса. – Я не знала, что вы уже на работе, дверь почему-то закрыта. Я вот… звезды принесла…
– Выйди, – незнакомым голосом приказала Софочка. – Положи звезды и выйди.
Василиса сунула огромный и очень неудобный пакет, который она так бережно несла, на ближайший стул. Она ничего не понимала.
– А что случилось?
– Ничего не случилось. Выйди и закрой за собой дверь!
– На ключ? – поразилась Василиса.
Софочка решительно пошла на нее, она попятилась и вскоре оказалась в коридоре. Дверь захлопнулась.
Некоторое время – довольно долго! – Василиса бесцельно бродила по театру и очень переживала. Она не могла понять, за что Софочка так на нее рассердилась.
Она даже залезла на шестой этаж и выбралась на узкий чугунный мостик, проходивший над колосниками и соединявший две половины театра, правую и левую, «мужскую» и «женскую». Раньше, в старину, и гримерные были строго с разных сторон, а потом все перемешалось. Только цеха остались в соответствии с традициями: парикмахерский, костюмерный, пошивочный на «женской» стороне, а бутафорский, поделочный, декораторский и механическая мастерская на «мужской». Налегая животом на узкие чугунные перила, Василиса смотрела вниз, там далеко-далеко виднелась сцена, сейчас пустая. Она всегда страшно боялась высоты, даже со второго этажа старалась не выглядывать, а в театре совершенно не боялась! Она смотрела долго, пока не закружилась голова, и все думала, почему Софочка ее прогнала.
Потом в буфете она выпила сладкого чаю с лимонным пирогом. Юрий Иванович устроил так, что актерский буфет был открыт всегда, ежедневно, не важно, есть ли спектакль, нет ли. Каждый, кто работал в театре, мог прийти и поесть в любой момент. Этим пользовались студенты из театрального общежития напротив, занятые в массовках и кордебалете. И Василиса пользовалась. В актерском буфете полный обед стоил восемьдесят рублей, а в самой дешевой кафешке рублей сто пятьдесят, вот и считайте!.. И повариха Тамара Семеновна, очень любившая театр и артистов, старалась изо всех сил. Щи у нее всегда были огненные и наваристые, котлеты величиной с ладонь, гречка рассыпалась одна к одной, и непременный кусок сливочного маслица растекался по гречневой горке очень аппетитно. В пирогах всегда была щедрая начинка, и чай заваривали не из глупых пакетиков, а самый настоящий, рассыпной, и он получался янтарный, крепкий!..
Там, в буфете, ее и нашла встревоженная Софочка. Она вбежала, запыхавшаяся, увидела Василису за столиком и втиснулась рядом.
– Вот ты где! – сказала она виновато. – А я думаю, куда девочка пропала!..
– Я не пропала, – ответила Василиса, не зная, продолжать обижаться или перестать.
– Ты меня извини, извини, пожалуйста, – заговорила Софочка почти шепотом. – Я не ожидала, что ты так рано придешь! Я… просто… кое-какие ценные вещички… да какие ценные, всякую ерунду памятную на работе держу. Дома целыми днями нет никого, боюсь, вдруг украдут! Жулики какие-нибудь влезут и украдут. А отсюда-то уж точно не пропадет. Вот ты меня врасплох и застала!..
Василиса пожала плечами.