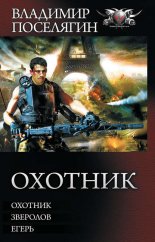Обломов Гончаров Иван
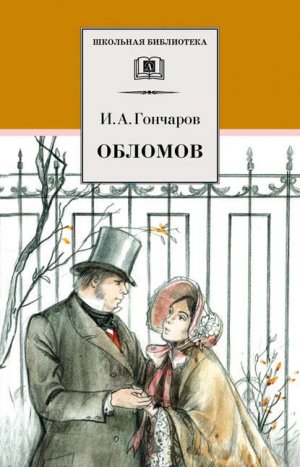
Не дай Бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает все убрать, вычистить, установить, живо, разом привести в порядок! Бедам и убыткам не бывало конца: едва ли неприятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесет столько вреда. Начиналась ломка, падение разных вещей, битье посуды, опрокидыванье стульев; кончалось тем, что надо было его выгнать из комнаты или он сам уходил с бранью и проклятиями.
К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием.
Все это происходило, конечно, оттого, что он получил воспитание и приобретал манеры не в тесноте и полумраке роскошных, прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает чего ни наставлено, а в деревне, на покое, просторе и вольном воздухе.
Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем, около массивных вещей: обращался все больше с здоровыми и солидными инструментами, как-то: с лопатой, ломом, железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь.
Иная вещь, подсвечник, лампа, транспарант[58], пресс-папье, стоит года три, четыре на месте – ничего; чуть он возьмет ее, смотришь – сломалась.
– Ах, – скажет он иногда при этом Обломову с удивлением, – посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взял только в руки вот эту штучку, а она и развалилась!
Или вовсе ничего не скажет, а тайком поставит поскорей опять на свое место и после уверит барина, что это он сам разбил; а иногда оправдывается, как видели в начале рассказа, тем, что и вещь должна же иметь конец, хоть будь она железная, что не век ей жить.
В первых двух случаях еще можно было спорить с ним, но когда он, в крайности, вооружался последним аргументом, то уже всякое противоречие было бесполезно, и он оставался правым без апелляции.
Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал.
Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал, но отнюдь не то, которое не спрашивал, хоть виси оно десять лет.
Потом он мёл – не всякий день, однако ж, – середину комнаты, не добираясь до углов, и обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не снимать вещей.
Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей в кухне и с дворней у ворот, ни о чем не заботясь.
Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказание неохотно, после споров и убеждений в бесполезности приказания или невозможности исполнить его.
Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью в круг начертанных им себе занятий.
Если ему велят вычистить, вымыть какую-нибудь вещь или отнести то, принести это, он, по обыкновению с ворчаньем, исполнял приказание; но если б кто захотел, чтоб он потом делал то же самое постоянно сам, то этого уже достигнуть было невозможно.
На другой, на третий день и так далее нужно было бы приказывать то же самое вновь, и вновь входить с ним в неприятные объяснения.
Несмотря на все это, то есть что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, все-таки выходило, что он был глубоко преданный своему барину слуга.
Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая этого подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это, как на естественное, иначе быть не могущее дело, или, лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так, без всяких умозрений.
Теорий у него на этот предмет не было никаких. Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу; он не сам выдумал их; они перешли от отца, деда, братьев, дворни, среди которой он родился и воспитался, и обратились в плоть и кровь.
Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом и даже не считая ничем, а просто бросился бы на смерть, точно так же как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, отчего должна броситься она, а не ее господин.
Но зато, если бы понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз, и от этого бы зависело здоровье или даже жизнь барина, Захар непременно бы заснул.
Наружно он не выказывал не только подобострастия к барину, но даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него не шутя за всякую мелочь и даже, как сказано, злословил его у ворот; но все-таки этим только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное, родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу собственно, а ко всему, что носит имя Обломова, что близко, мило, дорого ему.
Может быть, даже это чувство было в противоречии с собственным взглядом Захара на личность Обломова, может быть, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если б ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это.
Захар любил Обломовку, как кошка свой чердак, лошадь – стойло, собака – конуру, в которой родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него вырабатывались уже свои особенные, личные впечатления.
Например, обломовского кучера он любил больше, нежели повара, скотницу Варвару больше их обоих, а Илью Ильича меньше их всех; но все-таки обломовский повар для него был лучше и выше всех других поваров в мире, а Илья Ильич выше всех помещиков.
Тараску, буфетчика, он терпеть не мог; но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете потому только, что Тараска был обломовский.
Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же как шаман грубо и фамильярно обходится с своим идолом: он и обметает его, и уронит, иногда, может быть, и ударит с досадой, но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей.
Малейшего повода довольно было, чтоб вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться от умиления в слезы. Боже сохрани, чтоб он поставил другого какого-нибудь барина не только выше, даже наравне с своим! Боже сохрани, если б это вздумал сделать и другой!
Захар на всех других господ и гостей, приходивших к Обломову, смотрел несколько свысока и служил им – подавал чай и проч. – с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которою они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато: «Барин-де почивает», – говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы.
Иногда вместо сплетней и злословия он вдруг принимался неумеренно возвышать Илью Ильича по лавочкам и на сходках у ворот, и тогда не было конца восторгам. Он вдруг начинал вычислять достоинства барина, ум, ласковость, щедрость, доброту; и если у барина его недоставало качеств для панегирика[59], он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество.
Если нужно было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином. «Вот постой, я скажу барину, – говорил он с угрозой, – будет ужо тебе!» Сильнее авторитета он и не подозревал на свете.
Но наружные отношения Обломова с Захаром были всегда как-то враждебны. Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром: много надо и с той и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками.
Илья Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара – преданность к себе, и привык к ней, считая также, с своей стороны, что это не может и не должно быть иначе; привыкши же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог, и при своем равнодушии к всему, сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара.
Если Захар, питая в глубине души к барину преданность, свойственную старинным слугам, разнился от них современными недостатками, то и Илья Ильич, с своей стороны, ценя внутренне преданность его, не имел уже к нему того дружеского, почти родственного расположения, какое питали прежние господа к слугам своим. Он позволял себе иногда крупно браниться с Захаром.
Захару он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьки к Илье Ильичу и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократическою принадлежностью дома, назначенного для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев барчонка утром и раздев его вечером, остальное время ровно ничего не делал.
Ленивый от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню; не то так по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и с сонною задумчивостью посматривал на все стороны.
И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома! Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на побегушках! От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость и жесткость; от этого он ворчал всякий раз, как голос барина заставлял его покидать лежанку.
Несмотря, однако ж, на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Он любил даже проводить время с ребятишками. На дворе, у ворот, его часто видели с кучей детей. Он их мирит, дразнит, устраивает игры или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое, а сзади шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбарды.
И так Обломов мешал Захару жить тем, что требовал поминутно его услуг и присутствия около себя, тогда как сердце, сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная, никогда не умолкающая потребность жевать влекли Захара то к куме, то в кухню, то в лавочку, то к воротам.
Давно знали они друг друга и давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького Обломова на руках, а Обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем.
Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить, его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним.
VIII
Захар, заперев дверь за Тарантьевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что барин сейчас позовет его, потому что слышал, как тот собирается писать. Но в кабинете Обломова все было тихо, как в могиле.
Захар заглянул в щель – что ж? Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой на ладонь; перед ним лежала книга. Захар отворил дверь.
– Вы чего лежите-то опять? – спросил он.
– Не мешай; видишь, читаю! – отрывисто сказал Обломов.
– Пора умываться да писать, – говорил неотвязчивый Захар.
– Да, в самом деле пора, – очнулся Илья Ильич. – Сейчас ты поди. Я подумаю.
– И когда это он успел опять лечь-то! – ворчал Захар, прыгая на печку. – Проворен!
Обломов успел, однако ж, прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой чтение прервано было с месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул, потом погрузился в неотвязчивую думу о «двух несчастиях».
– Какая скука! – шептал он, то вытягивая, то поджимая ноги.
Его клонило к неге и мечтам; он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но оно было на самом зените и только обливало ослепительным блеском известковую стену дома, за которой закатывалось по вечерам в виду Обломова. «Нет, прежде дело, – строго подумал он, – а потом…»
Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходе. До Ильи Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов: пение кочующих артистов, сопровождаемое большею частию лаем собак. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты.
Он лег на спину и заложил обе руки под голову. Илья Ильич занялся разработкою плана имения. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных, коренных статей об оброке, о запашке, придумал новую меру, построже, против лени и бродяжничества крестьян и перешел к устройству собственного житья-бытья в деревне.
Его занимала постройка деревенского дома; он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой, бильярдной, подумал и о том, куда будет обращен окнами его кабинет; даже вспомнил о мебели и коврах.
После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которое намеревался принимать, отвел место для конюшен, сараев, людских и разных других служб.
Наконец обратился к саду: он решил оставить все старые липовые и дубовые деревья так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить акации; подумал было о парке, но, сделав в уме примерно смету издержкам, нашел, что дорого, и, отложив это до другого времени, перешел к цветникам и оранжереям.
Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах до того живо, что он вдруг перенесся на несколько лет вперед в деревню, когда уж имение устроено по его плану и когда он живет там безвыездно.
Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной; а вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд; с полей восходит пар; становится прохладно, наступают сумерки; крестьяне толпами идут домой.
Праздная дворня сидит у ворот; там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки играют в горелки; кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени, вешаются ему на шею; за самоваром сидит… царица всего окружающего, его божество… женщина! жена! А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, накрывался большой круглый стол; Захар, произведенный в мажордомы[60], с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку; садятся за обильный ужин; тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его, Штольц, и другие, все знакомые лица; потом отходят ко сну…
Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья: мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к подушке. Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья, вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, своего дома, жены и детей…
Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. Лицо его сияло кротким, трогательным чувством: он был счастлив.
Он с наслаждением, медленно вытянул ноги, отчего панталоны его засучились немного вверх, но он и не замечал этого маленького беспорядка. Услужливая мечта носила его легко и вольно, далеко в будущем.
Теперь его поглотила любимая мысль: он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах, в пятнадцати или двадцати верстах вокруг его деревни, как попеременно будут каждый день съезжаться друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать; ему видятся всё ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом; будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень…
– Боже, Боже! – произнес он от полноты счастья и очнулся.
А тут раздался со двора в пять голосов: «Картофеля! Песку, песку не надо ли? Уголья! Уголья!.. Пожертвуйте, милосердные господа, на построение храма Господня!» А из соседнего, вновь строящегося дома раздавался стук топоров, крик рабочих.
– Ах! – горестно вслух вздохнул Илья Ильич. «Что за жизнь! Какое безобразие этот столичный шум! Когда же настанет райское, желанное житье? Когда в поля, в родные рощи? – думал он. – Лежать бы теперь на траве под деревом да глядеть сквозь ветки на солнышко и считать, сколько птичек перебывает на ветках. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница, с голыми, круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей; потупляет, плутовка, взгляд и улыбается… Когда же настанет эта пора?..»
«А план! А староста, а квартира?» – вдруг раздалось в памяти его.
– Да, да! – торопливо заговорил Илья Ильич, – сейчас, сию минуту!
Обломов быстро приподнялся и сел на диване, потом спустил ноги на пол, попал разом в обе туфли и посидел так; потом встал совсем и постоял задумчиво минуты две.
– Захар, Захар! – закричал он громко, поглядывая на стол и на чернильницу.
– Что еще там? – послышалось вместе с прыжком. – Как только ноги-то таскают меня? – хриплым шепотом прибавил Захар.
– Захар! – повторил Илья Ильич задумчиво, не спуская глаз со стола. – Вот что, братец… – начал он, указывая на чернильницу, но, не кончив фразы, впал опять в раздумье.
Тут руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться, он начал потягиваться, зевать…
– Там оставался у нас, – заговорил он, все потягиваясь, с расстановкой, – сыр, да… дай мадеры; до обеда долго, так я позавтракаю немного…
– Где это он оставался? – сказал Захар, – не оставалось ничего…
– Как не оставалось? – перебил Илья Ильич. – Я очень хорошо помню: вот какой кусок был…
– Нет, нету! Никакого куска не было! – упорно твердил Захар.
– Был! – сказал Илья Ильич.
– Не был, – ответил Захар.
– Ну, так купи.
– Пожалуйте денег.
– Вон мелочь там, возьми.
– Да тут только рубль сорок, а надо рубль шесть гривен.
– Там еще медные были.
– Я не видал! – сказал Захар, переминаясь с ноги на ногу. – Серебро было, вон оно и есть, а медных не было!
– Были: вчера мне разносчик самому в руки дал.
– Он при мне дал, – сказал Захар, – я видел, что мелочь давал, а меди не видал…
«Уж не Тарантьев ли взял? – подумал нерешительно Илья Ильич. – Да нет, тот бы и мелочь взял».
– Так что ж там есть еще? – спросил он.
– А ничего не было. Вон вчерашней ветчины нет ли, надо у Анисьи спросить, – сказал Захар. – Принести, что ли?
– Принеси, что есть. Да как это не было?
– Так, не было! – сказал Захар и ушел.
А Илья Ильич медленно и задумчиво прохаживался по кабинету.
– Да, много хлопот, – говорил он тихонько. – Вон хоть бы в плане – пропасть еще работы!.. А сыр-то ведь оставался, – прибавил он задумчиво, – съел это Захар, да и говорит, что не было! И куда это запропастились медные деньги? – говорил он, шаря на столе рукой.
Через четверть часа Захар отворил дверь подносом, который держал в обеих руках, и, войдя в комнату, хотел ногой притворить дверь, но промахнулся и ударил по пустому месту: рюмка упала, а вместе с ней еще пробка с графина и булка.
– Ни шагу без этого! – сказал Илья Ильич. – Ну, хоть подними же, что уронил; а он еще стоит да любуется!
Захар, с подносом в руках, наклонился было поднять булку, но, присев, вдруг увидел, что обе руки заняты и поднять нечем.
– Ну-ка, подними! – с насмешкой говорил Илья Ильич. – Что ж ты? За чем дело стало?
– О, чтоб вам пусто было, проклятые! – с яростью разразился Захар, обращаясь к уроненным вещам. – Где это видано – завтракать перед самым обедом?
И, поставив поднос, он поднял с пола, что уронил; взяв булку, он дунул на нее и положил на стол.
Илья Ильич принялся завтракать, а Захар остановился в некотором отдалении от него, поглядывая на него стороной и намереваясь, по-видимому, что-то сказать.
Но Обломов завтракал, не обращая на него ни малейшего внимания.
Захар кашлянул два раза.
Обломов все ничего.
– Управляющий опять сейчас присылал, – робко заговорил наконец Захар, – подрядчик был у него, говорит: нельзя ли взглянуть на нашу квартиру? Насчет переделки-то всё…
Илья Ильич кушал, не отвечая на слова.
– Илья Ильич, – помолчав, еще тише сказал Захар. Илья Ильич сделал вид, что он не слышит.
– На будущей неделе велят съезжать, – просипел Захар.
Обломов выпил рюмку вина и молчал.
– Как же нам быть-то, Илья Ильич? – почти шепотом спросил Захар.
– А я тебе запретил говорить мне об этом, – строго сказал Илья Ильич и, привстав, подошел к Захару.
Тот попятился от него.
– Какой ты ядовитый человек, Захар! – прибавил Обломов с чувством.
Захар обиделся.
– Вот, – сказал он, – ядовитый! Что я за ядовитый? Я никого не убил.
– Как же не ядовитый! – повторил Илья Ильич, – ты отравляешь мне жизнь.
– Я не ядовитый! – твердил Захар.
– Что ты ко мне пристаешь с квартирой?
– Что ж мне делать-то?
– А мне что делать?
– Вы хотели ведь написать к домовому хозяину?
– Ну и напишу; погоди; нельзя же вдруг!
– Вот бы теперь и написали.
– Теперь, теперь! Еще у меня поважнее есть дело. Ты думаешь, что это дрова рубить? тяп да ляп? Вон, – говорил Обломов, поворачивая сухое перо в чернильнице, – и чернил-то нет! Как я стану писать?
– А я вот сейчас квасом разведу, – сказал Захар и, взяв чернильницу, проворно пошел в переднюю, а Обломов начал искать бумаги.
– Да, никак, и бумаги-то нет! – говорил он сам с собой, роясь в ящике и ощупывая стол. – Да и так нет! Ах, этот Захар: житья нет от него!
– Ну, как же ты не ядовитый человек? – сказал Илья Ильич вошедшему Захару, – ни за чем не посмотришь! Как же в доме бумаги не иметь?
– Да что это, Илья Ильич, за наказание! Я христианин: что ж вы ядовитым-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старом барине родились и выросли, он и щенком изволил бранить и за уши драл, а этакого слова не слыхивали, выдумок не было! Долго ли до греха? Вот бумага, извольте.
Он взял с этажерки и подал ему пол-листа серой бумаги.
– На этом разве можно писать? – спросил Обломов, бросив бумагу. – Я этим на ночь стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь… ядовитое.
Захар отвернулся и смотрел в стену.
– Ну, да нужды нет: подай сюда, я начерно напишу, а Алексеев ужо перепишет.
Илья Ильич сел к столу и быстро вывел: «Милостивый государь!..»
– Какие скверные чернила! – сказал Обломов. – В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай свое дело как следует!
Он подумал немного и начал писать.
«Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретенной вследствии долгого пребывания в сем доме привычке. Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира…»
Обломов остановился и прочитал написанное.
– Нескладно, – сказал он, – тут два раза сряду что, а там два раза который.
Он пошептал и переставил слова: вышло, что который относится к этажу – опять неловко. Кое-как переправил и начал думать, как бы избежать два раза что.
Он то зачеркнет, то опять поставит слово. Раза три переставлял что, но выходило или бессмыслица, или соседство с другим что.
– И не отвяжешься от этого другого-то что – сказал он с нетерпением. – Э! да черт с ним совсем, с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков! Я отвык деловые письма писать. А вот уж третий час в исходе.
– Захар, на вот тебе. – Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол.
– Видел? – спросил он.
– Видел, – ответил Захар, подбирая бумажки.
– Так не приставай больше с квартирой. А это что у тебя?
– А счеты-то.
– Ах ты, Господи! Ты совсем измучишь меня! Ну, сколько тут, говори скорей!
– Да вот мяснику восемьдесят шесть рублей пятьдесят четыре копейки.
Илья Ильич всплеснул руками:
– Ты с ума сошел? Одному мяснику такую кучу денег?
– Не платили месяца три, так и будет куча! Вот оно тут записано, не украли!
– Ну, как же ты не ядовитый? – сказал Обломов. – На мильон говядины купил! Во что это в тебя идет? Добро бы впрок.
– Не я съел! – огрызался Захар.
– Нет! Не ел?
– Что ж вы мне хлебом-то попрекаете? Вот, смотрите!
И он совал ему счеты.
– Ну, еще кому? – говорил Илья Ильич, отталкивая с досадой замасленные тетрадки.
– Еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику да зеленщику.
– Это разорение! Это ни на что не похоже! – говорил Обломов, выходя из себя. – Что ты, корова, что ли, чтоб столько зелени сжевать…
– Нет! Я ядовитый человек! – с горечью заметил Захар, повернувшись совсем стороной к барину. – Кабы не пускали Михея Андреича, так бы меньше выходило! – прибавил он.
– Ну, сколько ж это будет всего, считай! – говорил Илья Ильич и сам начал считать.
Захар делал ту же выкладку по пальцам.
– Черт знает, что за вздор выходит: всякий раз разное! – сказал Обломов. – Ну, сколько у тебя? Двести, что ли?
– Вот погодите, дайте срок! – говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. – Восемь десятков да десять десятков – восемнадцать, да два десятка…
– Ну, ты никогда этак не кончишь, – сказал Илья Ильич. – Поди-ка к себе, а счеты подай мне завтра, да позаботься о бумаге и чернилах… Этакая куча денег! Говорил, чтоб понемножку платить, – нет, норовит все вдруг… народец!
– Двести пять рублей семьдесят две копейки, – сказал Захар, сосчитав. – Денег пожалуйте.
– Как же, сейчас! Еще погоди: я проверю завтра…
– Воля ваша, Илья Ильич, они просят…
– Ну, ну, отстань! Сказал – завтра, так завтра и получишь. Иди к себе, а я займусь: у меня поважнее есть забота.
Илья Ильич уселся на стуле, подобрал под себя ноги и не успел задуматься, как раздался звонок.
Явился низенький человек, с умеренным брюшком, с белым лицом, румяными щеками и лысиной, которую с затылка, как бахрома, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и так лоснилась, как будто была выточена из слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо-внимательным ко всему, на что он ни глядел, выражением, сдержанностью во взгляде, умеренностью в улыбке и скромно-официальным приличием.
Одет он был в покойный фрак, отворявшийся широко и удобно, как ворота, почти от одного прикосновения. Белье на нем так и блистало белизной, как будто под стать лысине. На указательном пальце правой руки надет был большой, массивный перстень с каким-то темным камнем.
– Доктор! Какими судьбами? – воскликнул Обломов, протягивая одну руку гостю, а другою подвигая стул.
– Я соскучился, что вы всё здоровы, не зовете, сам зашел, – отвечал доктор шутливо. – Нет, – прибавил он потом серьезно, – я был вверху, у вашего соседа, да и зашел проведать.
– Благодарю. А что сосед?
– Что: недели три-четыре, а может быть, до осени дотянет, а потом… водяная в груди: конец известный. Ну, вы что?
Обломов печально тряхнул головой:
– Плохо, доктор. Я сам подумывал посоветоваться с вами. Не знаю, что мне делать. Желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть, изжога замучила, дыханье тяжело… – говорил Обломов с жалкой миной.
– Дайте руку, – сказал доктор, взял пульс и закрыл на минуту глаза. – А кашель есть? – спросил он.
– По ночам, особенно когда поужинаю.
– Гм! Биение сердца бывает? Голова болит?
И доктор сделал еще несколько подобных вопросов, потом наклонил свою лысину и глубоко задумался. Через две минуты он вдруг приподнял голову и решительным голосом сказал:
– Если вы еще года два-три проживете в этом климате да будете все лежать, есть жирное и тяжелое – вы умрете ударом.
Обломов встрепенулся.
– Что ж мне делать? Научите, ради Бога! – спросил он.
– То же, что другие делают: ехать за границу.
– За границу! – с изумлением повторил Обломов.
– Да; а что?
– Помилуйте, доктор, за границу! Как это можно?
– Отчего же не можно?
Обломов молча обвел глазами себя, потом свой кабинет и машинально повторил:
– За границу!
– Что ж вам мешает?
– Как что? Все…
– Что ж все? Денег, что ли, нет?
– Да-да, вот денег-то в самом деле нет, – живо заговорил Обломов, обрадовавшись этому самому естественному препятствию, за которое он мог спрятаться совсем с головой. – Вы посмотрите-ка, что мне староста пишет… Где письмо, куда я его девал? Захар!
– Хорошо, хорошо, – заговорил доктор, – это не мое дело; мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни, место, воздух, занятие – все, все.
– Хорошо, я подумаю, – сказал Обломов. – Куда же мне ехать и что делать? – спросил он.
– Поезжайте в Киссинген или в Эмс, – начал доктор, – там проживете июнь и июль; пейте воды; потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль: лечиться виноградом. Там проживете сентябрь и октябрь…