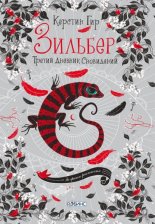Чужой среди своих Тюрин Виктор

Пролог
Клубок человеческого сознания, который состоял из миллиардов нитей, отвечающих за умственное, душевное и телесное здоровье, стал разматываться, раскидывая в разные стороны обрывки. Человек умирал, и нити, раньше скрепленные и переплетенные воедино, сейчас, судорожно подергиваясь, разлетались в неведомом пространстве, где непонятным образом слилось все вместе – жизнь и смерть, пространство и время. Одни из них, отмершие, отваливались от клубка мертвыми кусками, другие, еще живые, просто распускались на всю длину. В какой-то момент одна из таких нитей случайно коснулась другого, трепыхавшегося на невидимом ветру, конца из клубка другого сознания умирающего человека. Так случилось почти невозможное. Невообразимо маленький, почти призрачный шанс дал возможность слиться двум разумам – наложить отпечаток чужой личности на мозг другого человека.
Глава 1
Это был очень странный сон… Перед моими глазами прошла жизнь человека, юноши семнадцати лет, с мельчайшими деталями и подробностями, и это притом, что сны в своей жизни я видел редко, а когда просыпался, то уже не помнил, что в них было. Какое-то время, не открывая глаз, я пытался понять, как такое может быть. Это было более чем странно, так как воспоминания юноши не исчезали в дымке истаивавших поутру сновидений, они плотно сидели у меня в памяти. Особенно его последнее воспоминание: наглая прыщавая рожа какого-то верзилы. Замах тяжелого кулака. Резкая вспышка боли, земля, уходящая из-под ног, кусок ярко-голубого неба, промелькнувшего перед глазами и… темнота.
«Словно и не сон…»
Не успел я так подумать, как услышал легкий храп.
«Погоди! Так, где это я?»
Не успел вопрос возникнуть в голове, как я вспомнил о том, как забравшись на стремянку, укладывал на место старое уголовное дело. Уже начав спускаться, неловко повернувшись, перенес вес тела на искалеченную ногу, чего делать ни в коем случае было нельзя, так как собранная по частям врачами нога имела дурную способность в самые неожиданные моменты разрождаться вспышками сильной боли. Невралгия, мать ее! Обычно я старался присесть или перенести вес тела на другую ногу, что я и сделал почти автоматически, но неустойчивость положения, в котором я находился, меня подвела. Резко дернувшись, я пошатнулся, затем было падение с двух метров, сильная вспышка боли в голове и… темнота. Стоило всему этому всплыть у меня в голове, как пришла догадка: «Так я в больнице. Видно, сильно меня приложило. Хорошенькое сотрясение мозга получил, раз такие долгоиграющие сны снятся».
Чтобы окончательно удостовериться, открыл глаза. Несмотря на то, что за окном была ночь и в помещении было темно, глаз легко различил спинки кроватей на белом фоне стен. Больничная палата. Я приложил руку к голове. Плотно намотанный вокруг головы бинт окончательно подтвердил правильность моего вывода. Вроде все было правильно и логично, но внутренняя тревога не хотела рассеиваться, даже наоборот, она все больше усиливалась, словно хотела предупредить меня о чем-то. Причиной непонятной тревоги мог быть только яркий и ничем не объяснимый сон.
«Всё этот сон. Странный и непонятный сон…» – постарался я себя успокоить, но в следующее мгновение взгляд уперся в спинку моей кровати. Она была металлическая и выкрашена белой краской. В этот самый момент луна пробилась сквозь тучи, и ее тусклый свет проник в палату. Снаружи где-то глухо залаяла собака, заставив меня автоматически повернуть голову к окну. Деревянная рама, выкрашенная в белый цвет. Вместо штор была белая занавеска, висевшая на веревочке и закрывавшая только нижнюю половину окна. И… открытая форточка. За окном было лето. Я слышал шелест листвы за окном, а затем легкий теплый ветерок, ворвавшись в палату из приоткрытого окна, принес с собой легкий и сладкий аромат трав и цветов. Сердце обмерло.
«Этого не может быть. Просто не может быть. Сейчас зима! Зима! Сегодня 16 февраля!»
Рука сама откинула одеяло, и я рывком сел на кровати, но, похоже, делать мне этого не следовало. Резкие движения подняли тяжелую волну боли в голове. В глазах потемнело, а уже в следующую секунду меня вырвало. Сквозь боль и спазмы, сотрясавшие тело, я словно сквозь вату услышал из-за спины чей-то мужской крик:
– Сестра! Никитична! Мальчишке плохо!
Послышалось тяжелое и быстрое шлепанье тапочек, открылась дверь, и вспыхнул свет. Все это я воспринял отстраненно, так как кружащаяся голова и накатывающая волнами тошнота поглощали все мое внимание.
– Паренек, ты как?! Очнулся, слава тебе господи! И зачем встал?! Ложись! Быстро ложись! – но, видно, увидев следы рвоты на моих подштанниках и на полу, сразу переменила свое решение. – Погоди! Сейчас вызову врача и уберу! Ты только сиди и не двигайся! Семенов! Пригляди тут за парнем! Я живо!
Последние слова донеслись уже из-за двери. Потом помню таз на полу у моих ног, суету рук, снимающих с меня нижнее белье и обмывающих тело и лицо, а спустя какое-то время я оказался лежащим под одеялом, а надо мной склонилось лицо врача. Сознание сразу отметило белую шапочку на его голове, круглые очки на носу и небольшую курчавую бородку. Лицо напряженное. Было видно, что человек растерян и волнуется.
– Как ты себя чувствуешь?! Голова кружится? Тошнит?
– Не-ет, – медленно ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. – Пока все нормально. Спать только сильно хочу.
Голова слегка кружилась, но не это меня сейчас волновало, а то, что вокруг меня происходит.
– Хорошо. Спи. Если станет плохо, зови сестру.
Врач ушел, сестра поправила на мне одеяло, потом выключила в палате свет и осторожно закрыла за собой дверь. Наступила тишина. Я закрыл глаза. Несмотря на довольно смутное восприятие окружающей действительности, понятно было одно: я – это не я, а если выразиться точнее, находился я сейчас не в своем теле. Этот факт настолько не укладывался у меня в голове, что я несколько раз провел пальцами по местам, где должны находиться шрамы. Никаких следов. Худое тело юноши.
«Сон. Тело. Хм. Может, это просто бред? Горячечный бред».
Простая мысль, возникшая в затуманенном состоянии, расставила немыслимые факты по своим местам и дала отмашку сознанию успокоиться, наверное, поэтому я неожиданно для себя уснул. Проснулся от слегка дребезжащего мужского голоса, который громко вещал об ударных темпах сбора урожая.
«Какого черта радио на полную мощь включили?! Это что, больница или хрен…»
В следующую секунду я резко открыл глаза. Сердце замерло, а потом застучало сильно-сильно. Ночной кошмар вернулся, но теперь уже наяву, при свете дня. Какое-то время я тупо смотрел на слегка выцветшие плакаты, висящие на стене, напротив моей кровати. Один из них изображал Ленина и Сталина на фоне трудящихся масс и красных флагов со словами: «Вперед к победе коммунизма!» Рядом висел плакат с фигурами Сталина и Ворошилова на фоне военного парада на Красной площади. Внизу надпись: «Да здравствует рабоче-крестьянская Красная Армия – верный страж советских границ!» Сталин был в фуражке, а Ворошилов – в буденовке, с шашкой и кучей орденов на груди. Какое-то время я перебегал взглядом с одного плаката на другой, тупо перечитывая надписи на них, а потом посмотрел на свои руки, лежащие поверх грубого солдатского одеяла. Это были руки юноши семнадцати лет от роду, Кости Звягинцева. И я всё знал о его жизни. Всё!
«Это не бред. Но как подобное могло произойти?»
Страха не было, а вот напряжение, растерянность и скованность в мыслях присутствовали в полной мере. Не отрывая головы от подушки, медленно и неторопливо обежал глазами палату. По сторонам и над головой – плохо выбеленные стены и потолок. Шесть металлических разномастных кроватей. По углам палаты стояли две тумбочки, очень похожие на табуретки на длинных ножках, только в их верхней части были вделаны выдвижные ящички, а на третьей, стоявшей посредине помещения, между двух кроватей, красовался горшок с каким-то цветком. Не успел я все это оценить как следует, как наткнулся на любопытные взгляды еще двух обитателей палаты.
– Оклемался, парень? Али как? – спросил меня мужчина с худым, изможденным лицом, на котором довольно странно смотрелись пышные буденовские усы, торчащие в разные стороны.
– Не знаю, – неуверенно произнес я, причем мой тон касался не столько моего физического, сколько душевного здоровья.
– Не знаю, – насмешливо повторил он за мной. – Глянь на него! Не знаю! Да ты радоваться должен, что выжил, паря! Давай знакомиться! Тебя же Костей кличут? А меня зови Михалычем.
Мужчина был тем Семеновым, который ночью вызвал медсестру. Спустя десять минут я знал, что тот воевал с германцем, потом дрался с белыми генералами, а теперь работает в котельной истопником и попал в больницу с очередным обострением язвы. Это был худой, болезненного вида мужчина, но с живыми и хитрыми глазами. Сейчас он сидел на кровати в белой нательной рубахе и кальсонах, держа в одной руке очки, а в другой – газету, а рядом, на соседней кровати, сидел, не отрывая от меня любопытного взгляда, мощного сложения молодой парень с широким лицом и носом-картошкой, который представился Дмитрием. От силы ему было лет двадцать пять. Его левая рука была в гипсе и висела на груди, на перевязи. Работал он в механических мастерских, где при ремонте какого-то пресса произошел несчастный случай.
Оба просто пожирали меня глазами, изнывая от любопытства. Им явно хотелось услышать какую-нибудь страшную историю, но так как я молчал, Михалыч решил подтолкнуть меня к разговору.
– Когда тебя привезли и положили, я подумал, что не жилец ты, паря, на белом свете! На лице ни кровинки. Лежишь весь белый, не шевельнешься, только дышишь. Три дня так лежал. И вот на тебе! Живой! – радостно поделился с нами своими переживаниями истопник.
– Три дня? – вопрос должен был подразумевать удивление, но мне было абсолютно все равно, сколько я здесь лежу. Три дня или три недели. Так как на данный момент это был самый незначительный странный факт из тех, что осознал мой ошеломленный мозг.
– Точно! Лежал. Михалыч правду говорит, – подтвердил Дмитрий. – Только стонал изредка. А так, как труп, даже не шелохнувшись ни разу. Как тебя угораздило, парень, так головой стукнуться?
Я перевел на него взгляд и тихо сказал:
– Не помню.
Слесарь-ремонтник переглянулся с истопником, потом оба уставились на меня с явным сочувствием.
– Тебе что, парень, память совсем отшибло? – наконец поинтересовался Михалыч.
Отвечать я не стал, а вместо этого спросил:
– Какое сегодня число?
– Семнадцатое августа, – тут же отозвался слесарь-ремонтник.
– А год… какой?
Мне был известен год, но мне нужно и важно было подтверждение со стороны того, что я и так знал. Вернее, знал Костя Звягинцев. Зачем мне это было? Честное слово, не знаю. Просто хотел услышать от постороннего человека.
– Сороковой год, – задумчиво протянул Михалыч, вглядываясь в меня, и, немного помолчав, добавил: – Знаешь, парень… Был такой случай у меня. Помню, в девятнадцатом году нашему комэску в бою под Красным так дали по голове, что он только через сутки в себя пришел и тоже, как ты, сидел полдня и, словно дурень, глазами хлопал.
Истопник, по-видимому, ожидал, что этот интересный случай вызовет вопросы, но так как никакой реакции не последовало, наступила неловкая тишина, к тому же, отведя взгляд, я уставился в потолок, всем своим видом показывая нежелание продолжать разговор. Михалыч, пожав плечами, надел круглые очки и принялся читать газету. Дмитрий еще какое-то время поглядывал на меня, потом встал и, подойдя к распахнутому окну, сел на подоконник и стал слушать музыку духового оркестра, которая неслась из громкоговорителя, подвешенного где-то снаружи.
Попытки понять, как такое могло произойти, я отбросил сразу. Не мое это, да и ни с чем подобным не только сталкиваться, к тому же даже слышать о подобных фактах не приходилось. В чудеса не верил, так же как в бога и черта. Переселение души? Хотя факт был налицо, но все равно мне почему-то казалось, что к этому мой случай никакого отношения не имеет, хотя бы потому, что имеется факт наличия двойной памяти. Это настораживало, так как невольно подталкивало к мысли, что у хозяина тела еще есть шанс возвратиться…
Впрочем, новое тело и прыжок в прошлое я был вынужден признать как факт, от которого никуда не денешься, и сделал соответствующий вывод: будем жить с тем, что есть… Вот только как уложить жизненный опыт и привычки взрослого человека с образом юноши, лишь вступающего во взрослую жизнь? Настолько разный жизненный опыт, что и говорить об этом не приходится, не говоря уже о привычках и вкусах. Ведь чтобы полностью перевоплотиться в юношу, требовалось определенное актерское мастерство, которого у меня даже на грош не было.
Опекаемый родителями, Костя был наивен, а во многих чисто житейских вопросах даже глуп, подменяя реальную жизнь своими юношескими фантазиями, но это если судить с точки зрения взрослого человека. При этом обладал очень цепкой зрительной и умственной памятью и имел, по тому времени, отличное образование, в чем была немалая заслуга его родителей, высокообразованных и интеллигентных людей. Именно они привили сыну любовь к книгам и изобразительному искусству. Кроме того, он почти в совершенстве владел двумя иностранными языками, хорошо играл в шахматы и пытался писать стихи.
«Талантливый паренек, не то что я, разгильдяй…» – И память автоматически перескочила на страницы моей собственной биографии, как бы сравнивая прожитые мною годы с неполными семнадцатью годами угловатого юноши, который только-только взял старт во взрослую жизнь. В отличие от талантливого парня у меня были свои достижения в жизни, хотя их далеко не каждый человек так назовет. Конечно, можно сослаться на такие слова, как «присяга», «служебный долг», «выполнение приказов командования», и это будет правильно. Я получал приказы и старательно их выполнял, но если заглянуть в Священное писание, то большинство заповедей мною были нарушены. Причем неоднократно.
Так уж сложилось, что моя жизнь разделилась на две неровные части. Первая часть моей жизни началась с детского дома. Первые несколько лет я мечтал о том, что вот-вот придут мои родители и заберут меня домой, но уже в двенадцать окончательно понял, что о них можно забыть и жить надо не мечтами, а реальной жизнью. Идти учиться в техникум или институт не было ни малейшего желания, поэтому результатом выбора стало ПТУ. Во время учебы ходил в секцию бокса, но спустя год с лишним меня отчислили, так как не всегда получалось сдерживаться и драться по правилам. Затем был выпуск и направление на завод. Заводское общежитие мало чем отличалось от детского дома, вот только теперь я считал себя взрослым, а значит, надо гулять по-взрослому. Пьяные компании, девочки, драки. Парень я был не по годам крепкий, к тому же не умел отступать, так что сидеть бы мне в тюрьме, да участковый оказался настоящим человеком, сумел найти к строптивому и своевольному парнишке подход. Узнав, что я занимался боксом, устроил меня в секцию самбо, а спустя год я ушел в армию. Степан Петрович Козарев, наш участковый, стал единственным человеком, кто пришел проводить меня в армию.
Казарма практически ничем не отличалась от детдомовской спальни и койки в общежитии, поэтому особых проблем для меня армейская жизнь не представляла, а вот дисциплина напрягала.
Полгода учебки в десантно-штурмовой роте – и здравствуй, Афганистан! Многие из моих однолеток были умнее и образованнее меня, но зато, в отличие от них, я обладал звериной интуицией, хитростью и изворотливостью, а если к этому прибавить смелость, хладнокровие и жестокость, то получится идеальный боец. Мой командир оказался хорошим воспитателем и сумел привить необходимые для войны навыки. Основной предмет «как стать сильнее страха», без которого трудно выжить, я постоянно сдавал на пять баллов. Не все из солдат оказались готовы к подобным экзаменам, но, в отличие от многих, я смог стать достойным учеником своего учителя. Эти годы закалили меня, научили как отчаянной смелости, так и осторожности и терпению, но главное – умению разбираться в людях. Уже позже я понял, как мне повезло с командиром. Волевой, хладнокровный и жесткий офицер стал для меня примером. Именно от командира, великолепного мастера ножевого боя, на всю оставшуюся жизнь у меня осталась страсть к холодному оружию. За время службы у меня в голове сложилась мысль посвятить себя армии, но командир, похоже, лучше знавший меня, чем я сам себя, не сразу, а постепенно доказал мне, что служба в Афганистане по большей части является работой наемника, но никак не солдата.
Все, что я вынес из Афганистана, помимо богатого боевого опыта, были старшинские лычки и три медали. С другой стороны, доказал себе, что я крутой мужик, а значит, живи дальше, работай, заводи семью, вот только спустя какое-то время я понял: окружающий мир без войны для меня не существует, поэтому об обычной работе не могло быть и речи.
Следующие полтора года я кидался из стороны в сторону, работая то охранником, то вышибалой, но это была не та жизнь, к которой я стремился. Мне не хватало риска, ярости смертельных схваток и адреналина, кипящего в крови. Жизнь с каждым днем становилось все более серой и блеклой. Что делать? Оставался криминал, но от этой ошибки меня спас бывший командир. Он вспомнил обо мне, так как в это время собирал команду для «командировки» в одну банановую республику. На вопрос «что там будем делать?» он ответил коротко и по существу: работать по специальности и с хорошей оплатой, на что я с большой радостью согласился.
Следующие одиннадцать лет, переходя от одной войны к другой, я воевал зло и жестко, придерживаясь только двух правил: не предавать интересов Родины и не воевать против своих, пока не получил тяжелое ранение в бедро и не превратился в инвалида. Моя профессия наемника не исключала подобный вариант, но человек всегда надеется на лучшее, а это в моем понимании означало быструю смерть. Пуля в голову или в сердце.
«Что случилось, то случилось», – подведя этими словами итог своей прежней жизни, я снова, в очередной раз, стал делать попытки найти себя в гражданской жизни.
Неизвестно, как бы сложилась моя дальнейшая судьба, если бы не одна моя странность. Мне всегда нравилось посещать художественные музеи и картинные галереи. Тихие, прохладные залы, увешанные картинами, были спокойным и уютным местом, противовесом моей бурной, полной боевого азарта и риска, жизни наемника. Словно тихая пристань для корабля, который, стремясь уйти от бури, укрывался в спокойной гавани. При моем характере и образе жизни это можно было объяснить только генами, заложенными во мне одним из моих предков, видимо каким-то образом связанным с искусством. Именно там, в одном из художественных музеев, случай свел меня с женщиной, которая спустя год стала моей женой. Это был в моей жизни сложный, непонятный и очень неприятный (и это мягко сказано) период, и только Лена стала тем единственным человеком, который поддержал меня в то трудное время. Она не жалела меня той бабьей, надрывной жалостью, с причитанием и слезами на глазах, а отогрела и вернула в люди своей особой душевной теплотой. Девизом нашей совместной жизни вполне могли стать слова из песни: «просто встретились два одиночества».
До нашей встречи у Лены была одна-единственная любовь и страсть: ее искусство. В сорок три года она уже была признанным международным экспертом-искусствоведом по искусству эпохи Возрождения, имела ряд научных работ, докторскую степень. В какой-то момент к ней пришло прозрение: годы, когда люди сходятся, обзаводятся семьей и заводят детей, прошли, и тогда произошла наша случайная встреча. Наверное, это была высшая предопределенность или, проще сказать, судьба. Вместе мы прожили семнадцать лет. Год назад ее не стало. Этот период я считаю своей второй половиной жизни. Она совершенно противоположна первой части, но со временем я приобрел к ней вкус и перестал сожалеть о прошлом. Экспертом в области искусства я, конечно, не стал, но определенные знания и опыт в этой сфере получил.
Работая в архиве МВД, со временем я заинтересовался историей советской милиции. Это стало моим вторым увлечением. В свободное время, насколько это было возможно, я старался как можно чаще посещать тир и зал ножевого боя. Естественно, что схватки на ножах для инвалида были противопоказаны, но мне никто не мешал там оттачивать, доводить до совершенства метание ножа в мишень.
Теперь, в этом времени, мне, судя по всему, снова придется учиться жить. Уже в третий раз. Я еще только пытался приноровиться к мысли о новой жизни, как дверь открылась, и в палату вошли два врача, сопровождаемые медсестрой. Внешний вид медиков был для меня непривычен. У мужчин и женщины были одинаковые длинные белые халаты, которые завязывались сзади на тесемочки. Кроме того, у сестры волосы прикрывала белая косынка, делавшая ее похожей на монахиню. Один из врачей мне был уже знаком по ночному визиту. Незнакомый доктор первым подошел к моей кровати.
– Здравствуй, Константин. Меня зовут Михаил Аристархович Поливанов. Я заведующий отделением. Как ты себя чувствуешь?
– Не знаю даже, – тихо ответил я на его вопрос. – Вроде неплохо.
– Хм. Для человека, трое суток пролежавшего без сознания, ты действительно неплохо выглядишь. Теперь давай подробней. Голова кружится?
В течение какого-то времени он меня трогал и ощупывал, одновременно задавая мне вопросы о самочувствии. По мере осмотра его лицо принимало все более задумчивое выражение, и когда он подвел итог, в его голосе явно чувствовалась неуверенность:
– Гм. Честно говоря, ничего не могу сказать на данный момент. Если исходить из вашего состояния, то у вас, молодой человек, все как бы в порядке. Гм… но это для человека, который получил обычное сотрясение мозга, но тогда сразу возникает вопрос: что могло вызвать у вас столь длительное состояние комы? Причем… Впрочем, я не специалист. М-м-м… Хорошо бы вас показать… Ладно. Пока полежите у нас, молодой человек, а мы вас понаблюдаем. Гм. Так что до завтра.
Судя по тому, что он неожиданно перешел на «вы», его голова сейчас была занята разгадкой необыкновенного случая в медицинской практике. Если на меня потратили определенное время, то с двумя другими пациентами нашей палаты врачи разобрались быстро. Дмитрий, оказывается, попал в больницу вчера поздно вечером, поэтому его решили оставить до утра и сегодня после короткого осмотра выписали из больницы, при этом сказав, что ждут его через две недели на осмотр. Он тут же стал одеваться с помощью молоденькой сестры. У кровати Михалыча они тоже долго не задержались, и спустя пять минут дверь за ними закрылась. После того как они ушли, истопник ехидно заявил, что это не врачи, а коновалы, и какое-то время негромко ругался, но высказать свое возмущение до конца ему не дал приход «моих» родителей, после чего состоялся мутный, бестолковый, суетливый разговор. Мама плакала навзрыд, отец, было видно, тоже сильно переживал, но крепился, стараясь не показывать своих чувств. Судя по их состоянию, вид у меня был не сильно бодрый, поэтому я постарался успокоить, пусть и дежурными словами:
– Папа, мама, все уже хорошо. Не волнуйтесь вы так, я почти здоров.
Когда они наконец ушли, я облегченно вздохнул, так как довольно трудно было исполнять навязанную мне роль сына, но как оказалось, визиты на этом не закончились. После обеда пришел младший лейтенант милиции. На фуражке пятиконечная звезда с извечным серпом и молотом, гимнастерка белого цвета, в голубых петлицах три кубика, портупея с кобурой и планшет, из которого он сразу вытащил блокнот и карандаш. Меня удивило только одно: мужику лет сорок, а то и более, а он все в младших лейтенантах ходит. После короткого представления он пожелал узнать, как я оказался лежащим с пробитой головой на улице Парижской Коммуны. Пришлось ему объяснить почти теми же словами из фильма «Бриллиантовая рука», что я шел по улице, подвернулась нога, упал, а дальше – больница.
– Гм. Значит, шел, затем оступился и упал. Все так и было? Ничего не путаешь, парень? – с явным недоверием спросил лейтенант.
– Все так, как я сказал.
– Хм! Пусть так, – в его голосе чувствовалось явное сомнение, – но ты потом, когда выздоровеешь, зайди ко мне. Авось что-нибудь и вспомнишь. Договорились?
– Хорошо, – соврал я, зная, что не приду к нему.
– Выздоравливай, Костя. До свидания.
Михалыч, все это время делавший вид, что читает, а сам внимательно прислушивавшийся к нашему разговору с милиционером, отложил газету, после чего лег, повернувшись к стенке, и уже через несколько минут захрапел. Для меня наступило время обдумать мою будущую жизнь. Новое тело и новое время я уже признал как факт, а вот линию поведения предлагалось продумать и выработать.
«Слишком большая разница лет, да и характеры, считай, две противоположные величины».
У нас был настолько разный жизненный опыт, что и говорить об этом не приходилось, не говоря уже о привычках и вкусах. Исключением из правила можно было назвать любовь к картинам, но даже здесь искусство было целью и смыслом жизни Константина Звягинцева, а у меня оно стояло на втором месте, являясь своего рода хобби. Опекаемый родителями, Костя был еще по-детски наивен, а во многих чисто житейских вопросах даже неразумен. Несмотря на внешнее благополучие, в их семье была «страшная» тайна. Его родители с молодых лет посвятили свою жизнь борьбе за счастье народа, став профессиональными революционерами, но, как оказалось, и у них были причины бояться за себя и за сына.
Если раньше они с восторгом и энтузиазмом относились к свершениям революции, то теперь их радость сменилась настороженностью и опаской. Дело в том, что родители матери имели дворянское происхождение, а это означало, что она в любой момент могла не пройти проверку классовой благонадежности и автоматически становилась «врагом народа». Именно поэтому Кирилл Иннокентьевич Звягинцев, имея пост начальника отдела в комиссариате народного образования, в 1937 году перевелся из столицы в небольшой подмосковный городок на должность заведующего отделом народного образования, а его жена, Мария Евгеньевна, стала директором школы. Переезд был совершенно неожиданным для их сына, но через какое-то время совершенно случайно ему удалось узнать правду из разговора родителей. Он был тогда мал и не придал этому большого значения, но в памяти разговор все равно отложился. Суть этого разговора, который мне достался по наследству, заключался в следующем: начались чистки среди руководящих работников, и к их семье стали присматриваться. Растворившись в глубинке, его родители благополучно пережили «большую чистку».
Благодаря усидчивости и отличной памяти Константин в июне 1940 года, в возрасте шестнадцати лет и десяти месяцев, окончил среднюю школу им. С. М. Кирова, получив аттестат, соответствующий нынешней золотой медали, что дало возможность поступить без экзаменов в один из престижных вузов страны – в Московский институт философии, литературы и истории, на факультет истории искусства. За два дня до того, как Костя попал в больницу, он ездил в Москву и узнал, что зачислен в институт на первый курс.
Проснулся от матюгальника, так я успел обозвать черный четырехугольный рупор, висевший на столбе, рядом с нашим домом. Тот захрипел, пытаясь пропустить через себя звуки какого-то марша, выдуваемого духовым оркестром.
«Дура громогласная, мать твою!» – невольно выругался я.
Первым делом посмотрел в сторону буфета, на часы. 8:03. Настенных часов у семьи Звягинцевых не было, а вместо них был будильник, стоявший в спальне родителей, и бронзовые каминные часы с двумя ангелочками по обеим сторонам циферблата, стоявшие на буфете. Откуда эти часы появились, прежний хозяин тела не знал – просто они всегда были в их семье. Я поднялся и сел на кровати, оглядывая комнату. Смотрел так, словно видел впервые, хотя для моей второй памяти вся обстановка квартиры была хорошо знакома. Несмотря на то, что наши памяти каким-то образом переплелись, никакого дискомфорта я не испытывал. Прислушался. Где-то плакал маленький ребенок. Память Кости тут же подсказала: это у Надеждиных, их младшая дочка Танька разревелась.
Мой отец, когда получил квартиру в ведомственном доме, по приезде сошелся с начальником механических мастерских Дмитрием Михайловичем Надеждиным и главным инженером Евгением Тимофеевичем Степаненко. Для тогдашнего школьника Кости они были, да и сейчас оставались, дядей Дмитрием и дядей Женей. Чуть позже к их компании присоединился Степан Иванович Обойников, председатель Облшвейсоюза, одной из организаций Промкооперации, в который входили пошивочные артели и ателье городка.
Родители уже ушли на работу. Было тихо, но спустя пару минут издалека послышались далекие голоса. Веселые, звонкие и пронзительные детские голоса.
«Компания собралась. Идут на речку купаться».
Весь вчерашний вечер, проведенный с родителями, для меня был чем-то похож на пересечение минного поля. Зрелый мужик, как я ни контролировал себя, моментами проступал из Кости Звягинцева, и поэтому успел поймать несколько тревожно-недоуменных взглядов матери. Отец ничего не заметил. Впрочем, я не удивлюсь, что потом мать поделилась с ним своей тревогой по случаю неадекватного поведения сына. Ни память, ни знание привычек родителей – ничто не могло заменить естественных реакций и эмоций ребенка, которые в памяти никак не могли быть отпечатаны. Вот эту самую импровизацию чувств не могло не заметить любящее сердце матери. Правда, пару раз, как бы невзначай, я пожаловался на боли в голове и звон в ушах. Об этих симптомах, которые могут проявляться какое-то время, меня при выписке предупредил лечащий врач.
Встал, подошел к массивной деревянной конструкции, к буфету (особой маминой гордости). Его верхняя часть была застеклена, там стояла посуда – сервиз на шесть персон и с десяток разномастных тарелок, стаканов и кружек. Сервиз доставали редко. В дни больших государственных праздников и семейных торжеств. За стеклом сейчас стояли три открытки, присланные в свое время нам какими-то родственниками. Сталин на фоне Кремля, самолетов и танков, а внизу надпись: «Сталинским духом крепка и сильна армия наша и наша страна». Рядом открытка – поздравление с Новым годом. На ней изображены две пары на коньках, показанные на фоне Кремля и красных звезд, державшие друг друга под руки. У каждого из них на груди была красная цифра, а вместе они составляли число – 1940. Судя по очкам летчика на шапочке одной из девушек, она олицетворяла собой авиацию, а по буденовке парня можно было понять, что тот представлял Красную армию. Кто были остальные двое? Некоторое время, глядя на них, пытался угадать, но никакой догадки так и не пришло на ум.
«Да и фиг с ними, другое непонятно: почему поздравительная открытка сделана в три цвета? Денег на краски нет или решили, что и так сойдет?»
Третья открытка представляла собой репродукцию картины Васнецова «Богатыри».
Память чисто автоматически выдала информацию по картине: над созданием этой картины художник работал почти тридцать лет. В 1871 году был создан первый набросок сюжета в карандаше, и с тех пор художник увлекся идеей создания этой картины. В 1876 году был сделан знаменитый эскиз с уже найденной основой композиционного решения. Работа над самой картиной длилась с 1881 по 1898 год, а уже готовая картина была куплена Петром Третьяковым, основателем Третьяковской галереи.
Отвернулся и подошел к зеркалу, чтобы посмотреть на себя. Отображение показало угловато-худое тело юноши с узкими плечами и выпирающими ключицами. Уже в который раз смотрелся в зеркало, привыкая к своей внешности, и каждый раз не мог удержаться от кривой усмешки. Ну не нравился я сам себе, и все тут!
«Ну что, скелет ходячий, придется вплотную заняться твоим физическим воспитанием…» – дав себе это обещание, снова оглядел комнату. Она была гостиной, столовой и одновременно Костиной спальней. Диван, на котором спал Костя, соседствовал с этажеркой, стоявшей у входной двери. На ней стоял патефон, а внизу на двух полках лежали пластинки. Одну из стен занимал массивный буфет с завитушками. В нем хранилось главное достояние семьи Звягинцевых – художественные альбомы известных художников, отпечатанные еще в царское время. К ним в семье относились как к малым детям – осторожно, бережно и ласково. Посреди комнаты стоял стол, накрытый светло-коричневой плюшевой скатертью с бахромой, маминой гордостью, а на нем ваза. В день рождения мамы и на праздник Восьмое марта в ней всегда стояли цветы. Вокруг стола расположились четыре стула с высокими спинками. В комнате была еще одна дверь, которая вела в спальню родителей. Там стояла кровать, одежный шкаф и письменный стол, заваленный тетрадками учеников, методическими пособиями и словарями. Им попеременно пользовались родители. Мама на нем готовилась к занятиям по немецкому и французскому языку, а отец (по большей части поздно ночью) готовил справки и доклады по работе РОНО.
Из этических соображений я учился в другой школе, так как родители считали неправильным учить сына в школе, где его мама преподает и работает директором. У обоих родителей помимо любимой ими педагогической работы было еще одно страстное увлечение – страсть к живописи. От них заразился и Костя.
Все свое свободное время юноша предпочитал проводить наедине с книгами и художественными альбомами. Была у него еще одна страсть – коллекционирование старинных монет. Костя не то чтобы сторонился компаний мальчишек, он просто считал это пустым времяпрепровождением, поэтому редко ходил с ребятами на речку или в лес. Несмотря на некоторое отчуждение со стороны ребят, он никогда не отказывал в помощи по школьным предметам, а также позволял списывать контрольные. Но ни литературные викторины, ни олимпиады по физике и математике, на которых он занимал первые места и выигрывал призы, никак не прибавляли ему уважения со стороны одногодок. С другой стороны, он был активным комсомольцем, участвовал в подготовке школьных праздничных вечеров, редактировал школьную стенгазету, и даже одно время вел кружок по истории живописи.
Городок я хорошо знал по памяти бывшего хозяина тела, но теперь решил пройтись по улицам, посмотреть на него другим – своим – взглядом. Дома по большей части были деревянные и ветхие. Прошел мимо булочной и мастерской сапожника, и вдруг где-то сбоку раздался непонятный стук и лязг. Резко развернулся, а это был лишь мальчишка, который гнал перед собой железный обруч крючком из толстой проволоки по булыжной мостовой. Прошел мимо пивной будки, а по-другому ее и не назовешь. Сверху была прибита вывеска, на которой красной краской, уже потрескавшейся и немного облупившейся от времени и непогоды, были выведены два слова: «ПИВО. РАКИ». Вырезанное в передней части ларька окошко было распахнуто, и в проеме, правда, смутно, виднелось полное лицо продавщицы. В двух шагах торчали грибами-поганками три потемневших от времени столика, за которыми сейчас пили пиво несколько человек. Один в белой рубашке, белых штанах и легкой соломенной шляпе, держа под мышкой папку, сейчас запрокинув голову, с жадностью пил пиво. Судя по его мокрому лицу, жара советского служащего окончательно достала. Трое мужиков, расположившихся у соседнего столика, похоже, устроились основательно, так как около них уже стояло по пустой кружке, и сейчас они вливали в себя вторые, а может и третьи порции. Да и горка рыбьей чешуи на середине стола подтверждала, что стоят уже давно. На вид они смотрелись босяками. Этим словом я обозначал в своей прежней жизни личностей, которые были готовы пить что угодно и с кем угодно. Они мало чем отличались от тех персонажей из моей прошлой жизни. Серые рубашки, мятые штаны и такие же мятые физиономии.
Раньше из-за таких типов Костя Звягинцев обходил подобные места по другой стороне улицы, я же шел прямо к пивному ларьку с желанием опрокинуть кружечку, но уже в следующую секунду вспомнив, кто есть на самом деле, резко свернул в сторону. Мужик в соломенной шляпе не обратил на меня никакого внимания, так как, судя по легкой задумчивости на его лице, все еще решал: не выпить ли ему еще пива? Зато один из босяков, стоящий ко мне лицом, заметил мой маневр и с любопытством проследил за мной взглядом. Завернул за угол и медленно прошел мимо школы, в которой учился Константин Звягинцев, и городской библиотеки. Отметил то, что для Кости было привычно, а мне резало глаз. Обилие плакатов и лозунгов. «Комсомол – верный помощник партии», «Готов к ПВХО. Приобретайте билеты 14-й лотереи Осоавиахима!», «Нарпитовец, повышай свою квалификацию». Последний плакат висел на стене столовой.
Выйдя из тени столовой, я вдруг почувствовал на себе чей-то чужой взгляд. Чувство опасности встряхнулось, словно пес после сна, и настороженно замерло. Я мог только догадываться, кто за мною следит. Чтобы это проверить, я как бы случайно забрел в одно тихое, но излюбленное место мальчишек-подростков. С одной стороны глухая стена склада ПОТРЕБСОЮЗА, с другой стороны заброшенный пустырь, где сгрудились полуразвалившиеся клетушки сараев, земля была завалена ржавыми кусками железа, разбитыми ящиками, досками, кучами битого кирпича. Здесь, подальше от взгляда родителей, мальчишки играли в орлянку или в карты, курили и дрались.
Моя догадка оправдалась на все сто процентов. Вслед за мной на пустырь вышел Семен Жигун по кличке Гвоздь. Худое, костистое лицо парня было под стать его длинной, неуклюжей фигуре. Синяя линялая рубака с засученными рукавами, обтрепанные штаны неопределенного цвета, грубые ботинки. Мелкий хулиган, изображавший отъявленного уголовника, имел несколько приводов в милицию за мелкое воровство и драки. Нередко с компанией таких, как и он, подонков Гвоздь устраивал засады на школьников, забирая у тех еду и деньги. Несколько раз подобное случилось и с Костей, за исключением их последней встречи. Их встреча тогда была случайной. Гвоздь был пьян. Перегородив юноше дорогу, потребовал от него денег, а когда тот ему отказал, разозлился и ударил, а результатом стало неудачное падение подростка виском на осколок кирпича.
– Выжил, падла, – криво ухмыльнулся хулиган. – Я-то думал, что ты тогда копыта откинул. Так вот, у меня к тебе вопрос нарисовался. Ты чего мусорам меня не заложил?
– А что, надо было? – в свою очередь ухмыльнулся я. – Ты только хорошо попроси, так прямо сейчас и пойду.
Тот чуть ли не целую минуту переваривал мой ответ, глядя на меня удивленными глазами. Не таких слов он ожидал от этого труса. Ведь он специально выслеживал Звягинцева именно для того, чтобы вытрясти из вчерашнего школьника, как обстоят дела. Раз дело на него не завели, даже участковый не приходил, то это могло означать только одно: Звягинцев настолько его боялся, что так ничего и не сказал в милиции, иначе бы Гвоздь давно сидел в кабинете следователя. Трус он и есть трус! А тут такой наглый ответ. Что-то он больно храбрый стал, так я ему сейчас напомню… Вдруг он неожиданно вспомнил, как его тогда охватил страх. Дикий, панический страх сжал его сердце, стоило ему увидеть неподвижное тело на земле и растекающуюся кровь вокруг головы Звягинцева. Моментом протрезвев, он помчался сломя голову прочь от места преступления.
«Убил! Убил!» – эта мысль каталась и билась в его голове, отдаваясь многократным эхом.
Он не помнил, как забрался в сарай за домом, в свое потайное место, где его вырвало. Как он не спал ночь, трясясь в ожидании, что за ним вот-вот придут, и только к обеду второго дня узнал, что Звягинцев уже сутки лежит без сознания. Спустя какое-то время разнесся слух, что сын заведующего отделением народного образования не жилец на этом свете, и только тогда Гвоздя отпустил страх, но, как оказалось, ненадолго. На третьи сутки среди жителей городка пронеслась весть, что мальчик очнулся, и тогда Семен Жигун снова ударился в панику, кинувшись собирать вещи, чтобы уехать до приезда милиции. Окольными путями, крадучись, он пробрался к железной дороге, чтобы сесть на товарняк до Москвы, но тут на его подозрительное поведение обратили внимание бойцы железнодорожной охраны. После грозного окрика он снова потерял голову от страха и сломя голову кинулся обратно в городок.
Двое суток Гвоздь ночевал в каких-то развалинах на окраине городка, вздрагивая от каждого шороха. Еда, которую он захватил с собой, быстро закончилась, и он, отчаявшись, решил пойти сдаться сам, но на подходе к милиции случайно наткнулся на одного из своих дружков, от которого узнал, что его никто не ищет. В один миг страх сменился изумлением, а затем дикой злобой. Он тут мучился, переживал… Но спустя какое-то время все обдумав, он остыл и решил, пусть все идет, как идет, вот только любопытство застряло в нем занозой. Ему до смерти хотелось понять, почему все так получилось. Вот только когда они встретились, этот трус как-то неправильно себя повел. Он должен был бояться Семена, как и раньше, вот только теперь в нем нет страха. Как это понять?! Он с ним встретиться решил, почти пожалел, а этот сучий выродок вон как заговорил! Смелый! Ничего! Сейчас он ответит за все его страхи! На коленях будет стоять и молить о пощаде! Он за все ответит! Семен успел только размахнуться, как Звягинцев стремительно перехватил его руку и… Гвоздь оказался на земле, лицом в пыли. Он был настолько удивлен тем, что с ним произошло, что не только забыл про боль, но даже не вскочил сразу на ноги, а только поднял голову и посмотрел на Звягинцева. Тот весело скалил зубы. Он ничего не понимал, да и не хотел понимать, так как тупой мозг хулигана был полностью поглощен двумя чувствами – унижением и яростью. Эта взрывоопасная смесь заставила его вскочить на ноги.
– Все! Умри, падла!
Выхватив заточку, он кинулся на Костю, а уже в следующую секунду Гвоздю показалось, что его правая рука попала в железные тиски. Он охнул от боли, и на его глазах показались слезы. Ничего не соображая от дикой злобы, Семен рванулся всем телом, пытаясь вырваться из захвата, и наткнулся боком на острый стальной штырь. Огненно-острая боль опалила его изнутри словно огнем.
– Ты, сука… А-а-а! – но уже в следующую секунду дикая боль, задавив в нем все чувства, заставила его громко и хрипло застонать. Он бросил взгляд вниз и увидел кровавое пятно, расползающееся по рубашке, и свою руку с заточкой, торчащей в боку. Гвоздь хотел вырвать ее, но тело уже не слушалось. Сначала он упал на колени, а затем завалился на бок. Он даже не сознавал, что умирает. Последнее, что его мозг отпечатал в своей памяти, это были белые парусиновые туфли, находящиеся в шаге от его лица. Тело в агонии дернулось в последний раз и замерло на горячей от полуденного жаркого августовского солнца земле.
Я быстро огляделся по сторонам. Никого не было. Так оно и должно быть, что здесь делать мальчишкам в полуденную жару, когда рядом речка.
«Свидетелей нет. Ну и славно».
Обогнув тело, я быстро зашагал по залитому жгучим августовским жаром пустырю, заросшему чертополохом и лопухами. Поплутав по улочкам, нашел скамейку в тени дерева и уселся. Кое о чем следовало подумать, так как у меня и в мыслях не было доводить дело до подобного финала, но это случилось, а значит, в чем-то был мой просчет. Теперь требовалось понять, в чем ошибка, чтобы не допустить подобную оплошность в следующий раз. Сделано было все правильно. Тактически верно провел прием, исходя из тщедушного сложения Кости Звягинцева, фактора неожиданности и четкого знания приема. Вывернув Гвоздю руку, хотел ткнуть подонка носом в пыль, затем сломать руку, чисто в воспитательных целях. Вот только прошло все не так. Причина могла быть только в одном: мои рефлексы, навыки и опыт рукопашного боя вступили в противоречие с физическими возможностями доставшегося мне тела.
Труп спустя несколько часов нашли мальчишки, и вскоре новость облетела весь городок. Власти и население три дня лихорадило, искали убийцу, но судя по слухам, которые стремительно разлетались среди жителей, милиция его вряд ли когда-нибудь найдет. К тому же в одном из вариантов народных новостей злостный хулиган Семен Жигун по кличке Гвоздь фигурировал как самоубийца, убивший себя собственной заточкой. Естественно, что следствие такой вариант даже не рассматривало, так как эксперты определили совершенно точно, что тому помогли умереть. Это также подтверждали следы другого человека, найденные у трупа. Вот только эта улика никак не могла помочь следствию: в таких парусиновых туфлях на резиновом ходу ходили две трети городка, как мужчины, так и женщины. Кроме того, не было у следователя Дмитрия Вадимовича Степанкова и мотива преступления, поэтому тот решил остановиться на одной-единственной версии, которая должна была всех устроить: Гвоздь перешел дорогу кому-то из блатных, и тот, как говорят уголовники, «поставил его на перо». Сейчас следователь сидел в кабинете и в уме формировал заключение по этому делу, но додумать окончательно ему не дал зазвеневший на его столе телефон.
– Следователь Степанков слуш… Да, товарищ начальник! Так это… я дело Жигуна сейчас оформляю. Семен Жигун по кличке Гвоздь! Куда засунуть? А! Понял! Закрыть и забыть! Так точно! Сейчас выезжаю!
Следователь положил трубку, потом посмотрел в окно, за которым разгулялась гроза, и поморщился. Меньше всего ему сейчас хотелось выходить на улицу, под проливной дождь, но был прямой приказ начальника, тем более что пострадавший, получивший ножевое ранение в пьяной драке, являлся членом партии. При этой мысли следователь снова поморщился. Он очень не любил вести дела с политическим оттенком. Хотя времена «большой чистки» вроде прошли, но то, что следователь Дмитрий Вадимович Степанков пережил за те годы, оставило в его душе неизгладимый отпечаток страха, который нет-нет да и начинал шевелиться, отравляя ему жизнь.
Глава 2
Махнув рукой родителям в последний раз из-за плеча проводника, я прошел в вагон, положил чемодан на багажную полку, сел и облегченно выдохнул воздух.
«Теперь не скоро их увижу. И это радует».
Чувства к ним у меня были смешанные. Они были хорошими людьми, и я старался делать все, чтобы их не огорчать, но с другой стороны, общение с ними давалось с таким трудом, что к вечеру появлялось ощущение, аналогичное тому, словно целый день ходил по минному полю с завязанными глазами. Со стороны выглядит вроде все хорошо. Ты знаешь привычки, жесты, любимые словечки этого юноши, но сочетать их вместе со своими привычками, которые так и рвутся из тебя, очень и очень сложно. Недаром мама нередко бросала на меня испуганные взгляды, когда ее сын временами становился чужим и непонятным.
Спустя четыре часа поезд прибыл в Москву. Доехав до Сокольников, где находился институт, я отправился в секретариат, где занялся оформлением документов и получением койки в общежитии. Вновь прибывшие студенты с возбужденно-радостными лицами бегали туда-сюда, суетились, задавая все новые и новые вопросы. Я снисходительно смотрел на них с высоты своего солидного возраста и внутренне усмехался. Быстро оформил нужные документы, после чего отправился в общежитие.
Вошел в комнату на первом этаже, которая станет отныне моей на ближайшие четыре года. Стоп! На один год. Дальше война… Огляделся. Большая комната с одним-единственным окном, соответствующим помещению, таким же огромным, шириной где-то два с половиной метра. Восемь железных кроватей, расставленных вдоль стен, и рядом с каждой – низенькая тумбочка. Посредине стоял длинный голый стол и невзрачные, расшатанные стулья, а с потолка свисали три лампочки без абажура. Оглядев комнату, подумал, что к такому спартанскому набору мне не привыкать, почти та же казарма, хотя в душе хотелось комфорта, к которому я успел привыкнуть за свою вторую половину жизни. Не успел я выбрать себе кровать, как в комнату вошли трое парней. Первый, плотного сложения парень с густой гривой волос, быстро обежав меня снисходительным взглядом, подошел и протянул руку.
– Давай знакомиться! Дмитрий Егошин!
– Костя, – я осторожно пожал грубую и крепкую ладонь сокурсника. – Звягинцев.
– Что, Звягинцев?! Будем строить новую, пролетарскую культуру?! Ты как, с нами?
– Там видно будет, – усмехнулся я.
– Нет! Так не пойдет! Ты или с нами, или против нас! Советским людям нужно свое искусство! Свои писатели и поэты! Маяковский и Горький – это наши маяки, на которые мы должны держать направление! Они заложили основу пролетарского искусства, а нам нужно как можно больше развернуть поднятое ими знамя рабоче-крестьянской культуры! Именно нам, молодежи страны Советов, предстоит внедрять комсомольско-коммунистическую культуру в народные массы! Только так мы…
«Самодовольный и наглый ублюдок. Бедная культура…»
Больше не слушая его болтовню, я направился к двум парням, стоявшим посредине комнаты с ехидными улыбками на лицах, при этом с удовольствием констатируя, что пламенная речь за моей спиной резко оборвалась. Один из ребят, с рыжими кудрями и веселыми глазами, поставил чемодан на пол и, больше не сдерживаясь, весело рассмеялся. Похоже, на нем уже опробовал свое ораторское искусство носитель новой пролетарской культуры. Не успел я подойти, как он протянул руку.
– Петр, – представился он. – Мой дед и отец – речники. Вся их жизнь с Волгой связана, а я вот в литераторы решил податься. Внештатным корреспондентом целый год работал. Писал под псевдонимом Товарищ Речник, а фамилия моя – Трубников.
– Рад знакомству. Костя. Буду изучать историю искусств.
– Александр Воровской, – представился второй юноша, подтянутый, спортивного вида. – Тоже буду изучать историю искусств.
– Костя Звягинцев, – в очередной раз представился я.
В следующую секунду дверь снова открылась, и вошли новые жильцы нашей комнаты.
После того, как все перезнакомились, мы толпой отправились на поиски столовой, а пока шли, я прокручивал в голове цифры.
«Родители дали мне с собой четыреста рублей, стипендия – сто сорок рублей, обед в студенческой столовой стоит, как говорят ребята, тридцать пять копеек, так что с голода точно не умру. Три рубля в месяц за общежитие. Сюда входит пользование душем, кухней и смена белья два раза в месяц. За еду и крышу над головой можно не беспокоиться. Правда, быт уж больно спартанский, а я как-то привык к хорошей жизни. Ладно. Там видно будет».
Прошло две недели. Учеба не напрягала, так как Костя Звягинцев имел основательный запас знаний. Из ребят по комнате я ближе всех сошелся с Александром Воровским. По трем причинам. Во-первых, это был спокойный и немногословный парень. Как и я. Во-вторых, мы оказались с ним в одной группе, а третьей и главной точкой соприкосновения стало знание немецкого языка. Дело в том, что огромный недостаток обучения иностранным языкам в институте заключался в том, что оно не предполагало необходимости живого контакта с носителями изучаемого языка, и студенты умели свободно читать на иностранном языке, но при этом разговорная речь у них изрядно хромала. Саша, как оказалось, отлично владел немецким разговорным языком, причем с ярко выраженным берлинским акцентом. Как я узнал намного позже, он был сыном одного из работников посольства в Германии и прожил там ни много ни мало шесть лет. Спустя какое-то время его отец был уличен в любовных связях с другой женщиной, одной из секретарш посольства. Скандал по этому поводу поднимать не стали, а вместо этого всех выслали обратно в Союз. Спустя полгода его родители развелись. Мать стала работать преподавательницей немецкого языка в одном из московских институтов, а еще спустя год вышла замуж за одного из профессоров. Прошло еще какое-то время, и до них дошло страшное по тем временам известие: его отца, работника МИДа, объявили врагом народа и дали восемь лет лагерей.