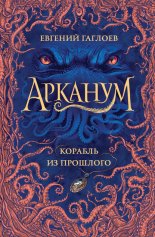Черные Вороны 5. Мистификация Соболева Ульяна

На лице от грима полосы… Под парик запрятав волосы
Маска людям улыбается, плачет, стонет и кривляется
Слышен гул с аплодисментами, и букеты с комплиментами
Тело куклы – провокация… ее смех – мистификация….
А потом в гримерке прячется… Перед зеркалом расплачется
На лице все швы расходятся, в вопле маска вдруг заходится
Под пластмассой слезы пятнами… под костюмами распятая
На шарнирах извивается и от боли задыхается…
На груди, под швами ржавыми, умирает сердце рваное
Снова грим, ресницы, волосы… запоет веселым голосом
Маска людям улыбается, плачет стонет и кривляется
Слышен гул с аплодисментами и букеты с комплиментами
Тело куклы – провокация… ее смех мистификация….
И никто не знает после… когда все уходят гости
Тишина… аккорды стонут, слезы под дождем утонут
Маска голая, без грима, плачет… воет от любви
От несбывшейся любви…
(с) Ульяна Соболева
Глава 1. Лекса
У меня было такое чувство, что я похоронила себя заживо. Замуровала в душный мешок без окон и без дверей, без возможности когда-нибудь из него выйти, без права на обжалование собственного приговора. Медленная смерть в каменном склепе с позолоченными стенами, роскошью, лживым миром внутри и снаружи. Мишура. Какая же все это мишура. Я раньше и не понимала, насколько все бессмысленно. Эта жизнь, мои стремления, детские мечты, какие-то цели, миллионы поклонников, слава. Всего лишь год назад я была совсем другим человеком, а сейчас мне кажется, что я и не я больше, а тоже мишура. Новогодняя, блестящая хлопушка. Хлоп-хлоп-хлоп. На потеху семье, толпе, фанатам… выстреливаю разноцветными фантиками, радую народ, а внутри пусто… так пусто. Клоун в колпаке и с тонной грима на лице. Всегда с одним и тем же выражением идиотского лицемерного счастья. Они аплодируют, что-то кричат, я смеюсь, улыбаюсь, а мне рыдать хочется и послать их к чертям, а потом бежать, бежать обратно к нему, раскинув руки, а в голове та… наша мелодия. Как же часто я слышу ее наяву, но так и не могу сыграть больше. Пальцы порхают над клавишами, точно знают, куда опуститься, но я не прикасаюсь, потому что услышать – это так же больно, как и понимать, что ничего уже не вернуть обратно. Но она звучит у меня в голове, и я даже вижу, как ОН ждет меня где-то там, где ничего не имеет значения, где-то там, в заснеженном Венском лесу, и сильно сжимает в объятиях, так что кости хрустят и голова кружится-кружится, как и снежинки в небе. И наши поцелуи со вкусом снега. Лёд и огонь. Я горю, и я же таю. А потом картинка растворяется, и я снова вижу переполненную залу в нашем доме, довольное лицо отца, Саида, каких-то родственников, друзей семьи. Они улыбаются, кричат, хлопают. Хлоп-хлоп-хлоп, а я вздрагиваю, как от выстрелов.
И на выступлениях всегда всматриваюсь в лица и ищу безнадежно его глаза цвета черного кофе с бархатом, и не нахожу. И это правильно…Его здесь и не может быть. Такие не ходят на концерты жалких бездарных певичек. У него есть женщины иного круга. Те, с кем не стыдно. Как Настя. Интересно, он уже женился на ней? Или переехал с ней в свой новый дом?
Опустила микрофон и слегка поклонилась. На сцену летят цветы. Кто-то пытается прорваться на сцену, но охрана мешает.
Как странно. Без Андрея в моей жизни тут же исчезли все краски, я оказалась в полной темноте и пустоте. Она была холодная и скользкая на ощупь, как змея… как мой внутренний голос, который жалил меня ядом изо дня в день, отравлял каждый вздох, стирал мою радугу, словно чудовищным ластиком. Каждый оттенок по очереди. Я понимала, что Андрей никогда не выберет меня, никогда я не буду иметь право стать частью его жизни. Полноценной, настоящей частью, которую не стыдно показывать окружающим и семье. За меня ему будет стыдно всегда. Перед всеми, кто его окружает, а особенно перед своей дочерью. Рано или поздно они сорвутся в ненависть. В испепеляющее презрение ко мне и ко всему, что со мной связано. Да, говорят, что дети не виноваты в поступках своих отцов, но это лишь слова. Сотрясение воздуха. Невозможно справиться с эмоциями, невозможно отключать воспоминания, можно лишь притворяться до поры до времени, но рано или поздно ненависть взорвется брызгами серной кислоты и разъест все вокруг. Люди склонны жить ассоциациями, и это нормально. Определенная музыка вызывает определенные воспоминания, как запах, звук, вкус. Я всегда буду ассоциироваться для семьи Воронова со смертью и болью. Они будут смотреть на меня и думать о том, что сделал с ними мой отец. Так же, как я думаю об этом. Смотрю на него и думаю о том, какое же он чудовище. Мой отец. И во мне растет дикая, отчаянная ненависть, которая когда-нибудь взорвется. Никогда не знала, что способна на нее до этого момента, а сейчас поняла, что она меня сжирает и обгладывает с каждым днем все сильнее. Потому что родителей, да, не выбирают… а хотелось бы выбирать. Иногда лучше быть сиротой. Может, кто-то и решит, что я зажралась, что никогда мне не узнать, что это значит – без родительской ласки расти и в нищете. А я бы жила. На улице бы жила, имя сменила, внешность, лишь бы его фамилию не носить, не думать о том, скольких убил, скольким жизнь искалечил… сколькие меня вот так проклинают только потому, что я его дочь. Все чаще я думала о матери. Представляла ее себе и не понимала, как она могла любить этого монстра. У меня в голове не укладывалось слово «любовь» рядом с моим отцом. Скорее, я могла бы поверить, что ее заставили, изнасиловали, похитили. И в ту же секунду начинала лихорадочно дрожать от понимания, что если узнаю, что в ее смерти виновен он – никогда не прощу, а может и сама лично убью его.
***
Стираю грим, блестки, и смотрю, как потеки черной туши по щекам текут. Грязные, страшные. И так каждый раз. Там, снаружи, толпа гудит, а я плачу, глядя на свое отражение. Зачем мне все это? Рукоплескания, поклонение, конкурсы, продюсеры… Не хочу ничего. Лечь хочу, глаза закрыть и музыку свою слушать беспрерывно… слушать и о нем думать. О глазах его черных, как бездна, темнеющих от желания, или таких светлых-светлых, как осенние листья, когда улыбается и что-то рассказывает, а в уголках век сеточка тонких морщинок появляется. Справа их три, а слева четыре. Я точно знаю. Каждую целовала, а он смеялся, и во взгляде столько нежности, сколько я за всю свою жизнь не чувствовала… О губах его думать мягких, горячих, таких чувственных и терпких на вкус. Как проводит ими, не целуя, вдоль шеи, и у меня по коже мурашки бегают, а он их кончиком языка слизывает и обжигает затылок. Щекотно и в то же время так эротично, что у меня дыхание сбивается и глаза закатываются. Думать о руках, которые на теле следы невидимые оставили и не смыть ничем, не стереть. Руках, которые дарили такое безумное наслаждение, что, казалось, я умираю. Иногда резкие, грубые, властные, а иногда осторожные, уверенно-нежные, доводящие до сумасшествия каждым прикосновением к ноющим соскам, или между ног, где даже от воспоминаний все начинает пульсировать и дрожать, наполняясь влагой. Думать о волосах его жестких, какие они под моими пальцами, как сжимаю их и тяну к себе, чтоб в губы впиться голодными поцелуями, а он отстраняется, не дает целовать, злит, играется, то слегка касаясь губ, то отстраняясь, а потом набрасывается голодным зверем, заводя мои руки за спину и отбирая весь контроль себе.
Я наши последний вечер и ночь в голове прокручивала постоянно. Каждое его слово перебирала, каждый взгляд, и думала о том, что было бы, если бы не сбежала, если бы не взяла сотовый у Карины и не позвонила отцу. И иногда мне до безумного отчаяния казалось, что я могла быть счастлива. Просыпаться каждое утро в его объятиях или сонно отвечать на поцелуи, когда уезжает по делам и оставляет одну в еще неостывшей постели, а потом приезжает средь бела дня, врывается в дом, в мою комнату, в меня. Голодный, истосковавшийся, дикий, и обратно на целый день в свой графский мир со своими законами, которые я не понимала и никогда, наверное, не пойму. Или велит охране сопроводить меня в город, в его офис, чтобы просто закрыть кабинет на ключ и взять прямо у двери, а потом отправить обратно и строгим тоном велеть не есть мороженое, потому что вечером он хочет, чтобы я для него спела… Боже, зачем мне все эти концерты, публика, слава, если мне нужен только один зритель? Один единственный, и пусть даже не аплодирует, а скептически вздернет бровь и усмехается уголком рта, и я чувствую себя полной бездарью… но ЕГО бездарью.
« – А помнишь, как мы в самолете в «правда или действие» играли?
– Конечно помню! Кто еще посмел бы меня андроидом окрестить?
– А давай опять сыграем… – и, не дожидаясь ответа, сразу продолжила – правда или действие?
– Правда, Александра…
– Ну что же, начнем с простого. Какой твой любимый цвет?
– Черный!
– Все же черный? Даже теперь?
– Да. Но зато теперь я начал замечать и другие. Моя очередь: правда или действие?
– Действие!
– Спой мне… спой свою самую любимую песню. Прямо сейчас…
– Ой… Андрей… Может, в другой раз?
– Игра есть игра. Ты же певица, Александра. Выступаешь перед многотысячной публикой. Так в чем же дело?
– Да… ты прав. Конечно, я спою…
Я была в твоем времени наверно временно
Я была в твоем имени цветом инея
Билась жизни каждый миг для тебя
Билась в каждый миг у тебя где-то в сердце
Ты мой город из песка, моря и облака
Ты мой лучший день и снег, корабли и свет
Ты мой… лучшая любовь для тебя
Безупречна боль без тебя… где-то в сердце
Ты вся моя любви история, судьбы история
История меня ты
Вся моя печаль… и светел миг… история без края и конца
Ты…*1
– Никаких временно, Александра. Даже не думай об этом…
– Это… это же всего лишь песня…
– Мы напишем другую..
– Мы?
– Да, именно мы…»
Но не написали, и никогда не напишем. Теперь у каждого свои ноты. В ту последнюю ночь я прощалась с ним, сама не давала спать, жадно тянулась к губам, порочно соблазняла снова и снова, чтобы насытиться хотя бы немного. Наивная… это же как наркотик. Чем больше доза, тем сильнее тянет и тем мощнее должна быть следующая, потому что кайф будет уже не тем.
« – Моя ненасытная девочка. Такая горячая, такая чувственная. Что же ты делаешь со мной?»…
Люблю… Люблю тебя. Просто люблю тебя так сильно и невыносимо, что мне хочется умереть. У меня жизнь на той последней ноте закончилась. Я больше дышать не умею, я пою не так, двигаюсь иначе, спать не могу без тебя. Ты обещал найти и вернуть снова… Что ж ты больше не ищешь? И понимаю, что говорить можно что угодно… Это я люблю его, а он… Я не верила, что Воронов умеет любить. Может быть, когда-то умел. Давно. Свою несостоявшуюся жену. Мать Карины. А я… я та самая радуга быстротечная, и такая зыбкая. На доли секунд появилась на его небосклоне и исчезла. Он вспоминает обо мне? Хотя бы иногда?
Пусть очень редко. Пусть мимолетно. И понимала, что, скорее всего, нет. Не вспоминает. Андрей слишком серьезный мужчина, слишком повернут на своем бизнесе, сделках, махинациях и политике, чтобы думать о какой-то сучке, дочери своего врага, которая сбежала от него и, возможно, испортила все планы. А если и вспоминает, то с яростью и ненавистью.
Помню, как слушала голос Карины, она что-то щебетала, рассказывала, как отец обещал отвезти нас за город, вроде новый дом купить хочет. Наверное, перед тем, как жениться на Насте. Сказал дочери, что это сюрприз и даже обещал сделать в доме комнату для звукозаписи и небольшой зал для выступлений. Сказал, что в этот дом, может быть, приведет свою новую женщину, если она появится и если Карина будет готова к этому. И девчонка расписывала мне, что она хочет своему отцу счастья, что она готова на все, лишь бы он улыбался и радовался жизни, как раньше.
– Как ты думаешь, Саш, это не будет предательством? Если я разрешу ему опять жениться? Предательством по отношению к маме…
– Нет. Конечно же нет. Жизнь продолжается. И твой отец никогда не забудет твою маму. Просто он попробует начать жизнь сначала, а ты должна ему в этом помочь.
И тут же собственный отец вспомнился, который даже говорить о матери моей не хотел. Не то что вспоминать. Фотографии ни одной в доме не держал. На все мои вопросы тут же отвечал с саркастическим ядом.
«Нет у тебя матери, Лекса. Она умерла, и нечего о ней думать. Все равно ты ее не знала. Можно подумать, мои рассказы что-то изменят. Не помню я о ней ничего. Времени много прошло. Думай лучше о других, более важных вещах».
– Папа Насте предложение точно уже сделал. Вот прям уверена в этом. Потому и дом купить хочет. Представляешь, Лекса? Ты к нам приедешь на свадьбу папы и петь будешь для них. Все от зависти лопнут. Ты меня слышишь? Ау? Ты со мной?
Усмехаюсь, кивая, и сильнее ногтями вжимаюсь в ладони, чтоб на взвыть. Значит, дом, свадьба… а я? Куда он думал деть меня? Отдать отцу? Или в любовницах держать? Прятаться по отелям, да по поездкам с собой таскать? И уверенность в правильности решения нарастала и нарастала, пока сама не поняла, что уже набираю номер отца. Пусть женится на своей Насте. Пусть будет счастлив, как хотела его дочь. Игрушкой я все равно не стану. Лучше вот так, чем дождаться, пока он женится и заставит петь на своей свадьбе, как заставил петь на дне рождении дочери. Не выдержу я этого. С ума сойду. Я их всех там сожгу. И его, и ее. Живьем. А может, меня вытолкают за дверь за ненадобностью или передадут папочке в обмен на документы или на что там он меня хотел обменять еще до столь знаменательного события?
Когда привезли к отцу, я впала в какое-то коматозное состояние. Слышала, что он говорит, чувствовала, как обнимает, отвечала на вопросы и ощущала пустоту и ужас. Ужас от того, что это конец. Что я решилась сама разорвать свое счастье на куски. А может, стоило остаться? Быть с ним даже в качестве любовницы… немного. Еще хоть на мгновение насладиться своей персональной радугой. Но я бы не смогла так… знаю, что не смогла бы. Уверена в этом. Делить его с кем-то, думать о том, как он там с ней, в своем доме, со счастливой Кариной… думать и сатанеть от ревности. Я бы вены себе вскрыла скорее, чем терпела все это.
– Он не тронул тебя? Ты…
– Не тронул. Не волнуйся.
– Как телефон раздобыла, хитрая моя девочка? Какая же хитрая. Как в доверие втерлась к девке его? Расскажешь отцу? Порадуешь? – и сильнее прижимает к себе, а меня трясет от гадливости и первой волны ненависти и заорать хочется.
«Не девке! А ребенку! Ребенку, которого по твоему приказу рвали на части твои псы! Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» Ему было наплевать, каково мне сейчас, наплевать, что происходило со мной все эти дни. Он думал о том, что победил противника. Пусть моими руками, но победил. Вот о чем он думал в этот момент. Его интересовало, как я сбежала, а не как провела время в плену. Ему хватило моего заверения, что все хорошо. Да ты в глаза мне посмотри. Где хорошо? В каком месте?
– Нечего рассказывать. Просто украла сотовый из ее сумки. Это было легко.
– Ах ты ж моя малышка. Умница. Вся в отца. Видал, Саид. Не девка, а огонь! Самого Графа вокруг пальца обвела. Сделала его! Можно документы обнулить, сделки отменять. Ничего больше не в силе. Ни один наш договор. Звони ребятам, пусть мочат сук этих. Не щадят. У меня развязаны руки.
– Я бы не торопился, брат. Зачем мочить?! Все утрясли и замяли. Лекса дома. Не нужна нам война. Пора прекращать эти игры.
– Прекращать? Да он меня, как младенца!
– Главное, что твоя дочь вернулась!
– Она бы и так вернулась. Отдал бы, как миленький. Я все его условия выполнил.
– А если бы не отдал? Об этом не думал?
– Нет, не думал! Граф не посмел бы…
Я их уже не слушала. Мне было плевать, что они там обсуждают. У меня только в висках выстреливало: «Вся в отца». Худшего оскорбления и не придумаешь. Да, обвела вокруг пальца. Только не Воронова, а себя. Потому что он смирится. Он забудет обо мне, а я? Как я с этим дальше? В клетке этой?
Около месяца прошло. Первые недели отец охранял, не выпускал никуда. Я в это время с ума сходила и запиралась в своей спальне, ссылаясь на депрессию. У меня она и была. Затяжная. Нервы вытягивающая, как струны. Тянешь, тянешь, а порвать не можешь, только пальцы до мяса. Иногда не выдерживала и Андрею звонила со скрытого номера. Дрожащими пальцами, так медленно, так долго, пока, наконец, не решалась надавить на кнопку вызова. «Алло» услышу – и несколько секунд нирваны с горячими волнами счастья по телу, обжигающе горячими, и потом в лед, да так, что больно невыносимо. Все саднит, ломается от обморожения. Отключаюсь и рыдаю в подушку, кусая губы. Саид тогда отцу сказал, что надо позволить мне снова на сцену выйти, что это встряхнет меня, вернет к прежней жизни, поможет все забыть. Нельзя взаперти держать. Не понимал, что мне все равно. Я и так заперта. Внутри себя. Под тысячью замками. В темноте. Без оттенков и цветов. ОН любил черный, а я его ненавидела. Мне в нем страшно стало, так жутко, что выть хотелось и волосы на себе рвать.
Ведь моя радуга исчезла задолго до того, как я приняла решение сбежать. Она вдруг просто растворилась в осознании всего происходящего. В утопичности наших отношений.
Я маниакально следила за жизнью Андрея в СМИ. Искала статьи, заметки, фотографии и тихо скулила в подушку, чтоб никто не услышал. Особенно когда рядом с ним очередную женщину видела. Так быстро. Слишком быстро после того, как сбежала. Они появились снова. А может, они и тогда были. Все эти его сучки с глазами преданными, собачьими, раболепными и открытыми ртами в унизительном желании ловить каждое его слово. Насти. Бесконечные и безликие. Одинаковые Насти. Я хлопала крышкой ноутбука и шла к зеркалу наносить грим. Яркий, вызывающий, наглый. Такой, чтобы все под ним спрятать, закрасить, заштриховать. Кукла чтоб оттуда смотрела. Размалеванная, ненастоящая маска.
И на сцену. Орать, бесноваться. Пусть все думают, что мне хорошо. И он пусть думает. Пусть видит мои снимки в газетах и интернете. Пусть знает, что я забыла и живу дальше. Радуюсь жизни и тому, что избавилась от него. Дура! На хрен ему о тебе думать? Кто ты вообще такая?!
Это ты о нем думаешь. Живешь им. Не будь у тебя воспоминаний, сдохла бы давно в темноте своей. Но я в жалкой надежде на каждом концерте его глазами искала. Каждый раз. Ждала, что найдет. Не позволит вот так уйти, вернет обратно, похитит. Ведь это же Граф. Он может… Он все может, если захочет. Такой сильный, властный… такой. А потом лезвием по нервам: «А зачем ты ему нужна? Он таких, как ты, пачками может иметь. Только пальчиком помани. Толпа соберется».
В один из вечеров отец очень рано приехал вместе с дядей. Спорили долго, я их голоса у себя наверху слышала, а потом он фамилию Андрея сказал, и я рывком на кровати села. Сама не поняла, как к кабинету подкралась и за дверью притаилась, жадно прислушиваясь к тому, о чем говорят.
– Не вороши осиное гнездо, Ахмед. Не наступай на больную мозоль. Что сделано, то сделано. Сколько лет прошло, зачем Ворону напоминать о том, что с дочерью его сделал?
– Чтоб скрутило его, ублюдка. Мразь такую. Чтоб не ставил мне палки в колеса! Он меня из столицы выжить хочет, весь кислород перекрывает, сука. А я что, как лох молчать буду? Наших за городом перестреляли. Думаешь, это не его рук дело? Пусть посмотрят, как его дочь во все дыры моя братва имеет. Пусть поплачет кровавыми слезами, когда каждая собака будет знать, что Вороновскую сучку мои парни трахали, а он проглотил и сделать ничего не смог.
– Смотри, брат, ответку получишь.
– А похрен. Что он мне уже сделает? Я с Лексы глаз не спускаю, а на остальных плевать хотел. У меня это видео одно из самых любимых. Смотрю и дрочу. Эксклюзивчик. Один экземпляр. Для себя сохранил. Придется со всем миром поделиться. Но я добрый…
Меня тогда дико тошнило, меня рвало в туалете и выворачивало наизнанку от того, что услышала. На следующий день проникла в кабинет отца и уничтожила на нем все файлы. Стерла всю систему. Нет больше эксклюзивчика! И снова от мыслей… от слов его выворачивает.
Он узнал, что это я. Бил меня тогда впервые в жизни. Ремнем, пряжкой. По голове, по телу, ногами пинал и орал, что убьет нахрен за то, что подстилкой Вороновской стала. Орал, что к врачу отведет, и если не целка – сам лично задушит, а потом Карину выкрадет и сам лично отымеет у меня на глазах, а Графу пулю в лоб пустит. Что не дочь я ему, а шлюха русского ублюдка. Отца на любовника променяла. Его тогда Саид от меня оттянул. А он все орал, что если узнает, что хоть словом с Андреем обмолвилась – сам лично его прирежет. Мамой своей клялся, а я даже не заплакала. Лежала на полу и думала о том, что не к отцу бежать надо было, а к трассе и под фуру какую-нибудь… раскинув руки. Но с того дня номер Андрея не набирала больше. Страшно мне стало, что и правда убьет его. Отец способен и не на такое… Позже гнев Ахмеда утих и меня снова из-под замка выпустили. Думаю, дядя Саид с ним поговорил. И с ужасом ждала, когда к врачу поведут, молилась, чтоб забыл… Зря молилась, конечно. Он вспомнит. Вот самые важные дела закончит, а потом обо мне вспомнит, и тогда сам камнями закидает.
А пока я все же возобновила концерты. Оказывается, тщеславие Ахмеда Нармузинова превысило его ненависть ко мне за предательство…
***
В зеркало смотрю… и потеки грязные вытираю. Не хочу обратно на сцену. А надо. Надо выйти и снова кланяться, улыбаться, цветы ловить. Тяжело вздохнула и медленно выдохнула, провела помадой по губам, глядя себе в глаза…
И вдруг возню за дверью не услыхала. Сдавленный крик и звук падающего тела. Вскочила с кресла и тут же шумно, со стоном выдохнула. Дверь распахнулась и …ОН ее осторожно прикрыл, не спуская с меня лихорадочно горящих глаз. Всхлипнула и рот рукой закрыла, чтобы не заорать. Не от страха, нет. От радости видеть. Потому что сердце зашлось так сильно, что на глазах слезы выступили. Сама не поняла, как раздавила в руках колпачок от помады и пальцы осколками порезала, не сводя взгляда с Андрея, который так же мне в глаза смотрел, сильно сжав челюсти… А потом через бесконечные секунды, которые отстукивали у меня в висках болезненной пульсацией, усмехнулся уголком рта.
– Ну, здравствуй, Александра. Давно не виделись. Рада мне?
Глава 2. Лекса
Я не ответила, все сильнее сжимала в ладони осколки, и не чувствовала, как они все глубже впиваются в пальцы. Потому что под ребрами болело сильнее. Там произошел апокалипсис и сердце дергалось, то болезненно сжимаясь, то замирая на доли секунды. И очень хотелось броситься к нему. Сильно сжать руками, так сильно, чтобы они занемели. Боже! Какой же он красивый. Слегка зарос щетиной и черты лица такие четкие, как нарисованные… и глаза. Как же я соскучилась по его глазам. Бесконечно в них могу смотреть. Моя осень, мой бархат, моя бездна. Сколько я их не видела? Вечность. Три вечности. Вздохнула судорожно еще раз и почувствовала, что живу. Не темно больше. Перед глазами искры разноцветные рассыпаются. Вот, оказывается, она какая – жизнь? Зовется его именем и пахнет сигарами и личным неповторимым ароматом любимого мужчины. Мне хочется что-то сказать, и я не могу выговорить ни слова, только, тяжело дыша, продолжаю смотреть и давить красные куски колпачка, мять их, раниться еще больше и не замечать этого, потому что в груди все так же больно, дышать не могу.
Андрей перевел взгляд на мои руки и, чуть нахмурившись, снова посмотрел мне в лицо.
– Испугалась, да?
Отрицательно качнула головой.
– Руки разожми. Ты порезалась.
И снова так же отрицательно, сжимая еще сильнее.
– Не бойся. Я не убивать тебя пришел....
Пододвинул к себе стул и сел на него, развернув спинкой к себе. Такой неприступный, в черном элегантном костюме с бежевой рубашкой и черным галстуком посреди мишуры моей гримерки, блесток, разноцветных костюмов, черных кружев. Все в беспорядке разбросано мною до выхода на сцену. И он, словно король посреди всего этого хаоса. Такой до невозможности идеальный, что хочется зажмуриться и только пистолет за полой расстегнутого пиджака портит картину и напоминает, кто он на самом деле.
– Всего один вопрос – почему?
Закрыла глаза, стараясь унять бешеное сердцебиение, чтобы иметь возможность ответить, чтобы голос появился, чтобы слезы проглотить. А они, проклятые, рвутся наружу, по щекам скользят, и я молюсь, чтобы он не увидел.
– Потому что так было надо, – выдавила чужим голосом. Если отец узнает, он устроит резню. Это не пустые слова. Я слишком хорошо его знала. И в то же время хотелось растянуть эту встречу на вечность, чтоб время замерло и не отсчитывало секунды у меня в голове до того момента пока сюда ворвутся люди Сами и начнется бойня. Кровавое месиво, как любит говорить Ахмед Нармузинов.
– Уходи… – очень тихо и взгляд отвела, чтоб слезы не видел, – уходи, пожалуйста.
– На меня смотри, когда я с тобой разговариваю. В глаза смотри, Александра.
Мое имя его голосом всегда звучало иначе. Он умел произнести его настолько по-разному, что иногда внутри все замирало, а иногда от ужаса сжаться хотелось в комок. Вот и сейчас говорит спокойно, размеренно. Каждое слово внятно, четко… а глаза сверкают и желваки на скулах ходуном ходят. Скоро взорвется, и я вместе с ним.
– Кому надо? – и словно ножом меня взглядом этим полосует, кожу режет, глубоко, до самых костей.
– Мне. Мне так было надо. Так не могло долго продолжаться. Ты сам мне это говорил… Не хотела я с тобой. Всегда о побеге думала. Каждый день, понял?
Последние слова выкрикнула и глубже осколок загнала, так сильно, что от боли всем телом вздрогнула. Да, вот так хорошо. Когда тело болит сильнее, чем душа.
Пусть поверит и уходит. Антракт скоро закончится. Местный шут развлечет толпу плоскими шуточками – и мне снова на сцену. Если задержусь, сюда вломится человек десять.
– Могла бы мне сказать – я бы отпустил.
Резко встал, а я назад попятилась. Только пусть близко не подходит. Я ведь не сдержусь, я у него на груди разрыдаюсь и умолять забрать буду, а мне нельзя. И ему нельзя. Зачем пришел? Господи. Разве я не мечтала именно об этом? Разве не представляла именно этот момент? Тысячи, миллионы раз. А сейчас хочу заорать, чтобы убирался. Немедленно. Пока охрана не пронюхала.
Шагнул ко мне, и я почувствовала, как начинаю дрожать.
– Не подходи. Я закричу.
– Кричи. Слышишь, там толпа орет? Думаешь, перекричишь?
– Уверена. Я громко умею.
– Умеешь… я помню, как громко ты умеешь кричать… Для меня.
Еще один шаг, и я уже вжалась в зеркало, больше некуда отступать. Здесь слишком тесно. У меня под столом тревожная кнопка… и я могла бы ее нажать, но разве я это сделаю? Нет. Я скорее сама дверь держать буду, когда ее будут ломать люди моего отца.
– Все же боишься? Думаешь, наказать тебя пришел, верно? Есть за что, Александра, правда?
Приблизился вплотную и за подбородок схватил, заставляя голову поднять, и меня уносить начало, так быстро и безжалостно, что все внутри оборвалось. Запах… его запах. Он в легкие врывается и дурманит, с ума сводит.
– Уходи. Отец узнает, тебя здесь пристрелят.
– А ты бы расстроилась? – все так же сжимает подбородок и в глаза смотрит. На лице полная отчужденность и спокойствие. Но я уже знаю, что это лишь маска. Успела изучить. Чем спокойнее и тише он говорит, тем сильнее буря внутри него. И я это чувствую по его дыханию обрывистому и по той силе, с которой давит пальцами.
– Я крови боюсь. Пусть стреляет, но не здесь… – а голос срывается предательски.
– Думаешь, наряды твои испачкаются? – пальцем помаду с губ вытирает и взгляд не отпускает. Держит с такой силой, что я ее каждой клеточкой тела чувствую.
– Думаю, что тебе нужно уйти прямо сейчас.
Сильно сжал мне скулы.
– А я думаю, что ты мне сейчас лжешь, Александра. Каждое твое слово – это ложь. Или тогда лгала, когда подо мной извивалась и музыку свою для меня сочиняла. Про радугу свою говорила. Лгала? Отвечай!
За затылок другой рукой схватил и дернул к себе так близко… Невыносимо вот так быть рядом и врать… врать. Сил нет. Руки сами взлететь хотят и обвить шею сильную, в воротник впиться и к себе тянуть, чтоб всем телом его чувствовать. Губы рядом с моим, а я сильнее пальцы сжимаю, чтобы не обнять, не впиться ему в волосы, притягивая еще ближе.
– Тогда лгала. Играть не только ты умеешь. Мне же надо было выбраться, вот и играла.
– Красиво играла, очень красиво. Ты знаешь, я ведь поверил.
А сам вдруг руки мои перехватил, продолжая в глаза смотреть.
– А ведь раньше никому, – начал мои пальцы по одному разжимать, – не верил, девочка. В глаза смотрел и ложь читал так же легко, как с бумаги. – Еще один палец разжал. Мои ладони мокрые, то ли вспотели, то ли от крови.
– Твои лгать не умели, – пальцы с моими сплел и щекой к щеке прислонился. Колючий, такой колючий… как же он пахнет, как же это адски хорошо чувствовать его щеку своей и тереться об нее, закатывая глаза. – Или умели, а я читать разучился. Скажи мне правду. Почему, черт тебя раздери, ты это сделала? Дочь мою подставила, сука такая? Я же тебе доверять начал. В душу к себе впустил!
– Не впустил. Никуда ты меня не впустил. Разве что в постель свою.
– И это тоже не мало. Потому что в мою! В мою, в моем доме. Там, где семья моя, а не где-то в отеле или в машине, как шлюху! Это ты понимаешь? Удавить бы тварь за то, что так подставила.
– Удави. Ты ж для этого и пришел, а не чтоб вопросы свои задавать. Мои ответы тебя не устраивают.
– Не устраивают, потому что лжешь! Почему не поговорила со мной? – за волосы больно потянул, заставляя встать на носочки.
– О чем? О том, что сбежать хочу? Так ты бы охрану усилил.
– Нет. О том, что постели было мало!
– А ты способен дать больше?
– После того, что сделала, я способен только голову тебе открутить.
А сам на губы мои смотрит, а я на его… и в горле сохнет так, что глотнуть не могу.
– Я не подставляла Карину. Я бы не позволила, чтоб с ней…
– Позволила. Ты всех нас подставила звонком этим. Влезла в доверие, как змея проклятая и подставила. Да? Для этого со мной трахалась? Чтоб папочке своему помочь, но не получилось?
– Нет!
– Что нет?! Не получилось, или нет, не для этого трахалась?
И волосы тянет сильнее, а у меня опять слезы на глаза наворачиваются, хочется в лицо ему впиться, чтоб не смел со мной так.
– Отпусти! Мне больно!
– Потерпишь. Мне тоже было не особо приятно, когда сказали, что ты удрала, как последняя дрянь. Я плохо к тебе относился? Отвечай! Ты вообще понимаешь, КАК я должен был к тебе относиться?
– Уходи!
– Это я решаю, когда мне уходить. Надо будет – взорву, нахрен, этот зал.
– Чего ты хочешь? Что тебе нужно. Андрей? Я ответила на все твои вопросы.
– Не-е-ет. Не ответила. На самый главный. Звонишь мне зачем?
– Не звоню…
– Звонишь. Молчишь в трубку, а потом отключаешься. Это тоже игра такая или что это, мать твою?
– Больно… – рывком к себе притянул еще ближе, и из моих глаз брызнули слезы.
– Очень больно… да, ты права.
И тут же в губы поцелуем впился, и все. И меня на части разорвало в ту же секунду, как первый глоток его дыханием сделала. Руки вскинула и за лицо к себе притянула, жадно отвечая, сплетая язык с его языком, с громким всхлипом, прижимаясь всем телом и чувствуя, как уносит, утягивает в ту же бездну. Пачкаю его кровью, а он ладони мои целует и снова к губам прижимается. Больше нет спокойствия и холода, его трясет так же, как и меня. И дышит часто, прерывисто, прямо мне в губы, терзает их, впивается жестче, сильнее, с голодом, от которого по всему телу мурашки рассыпаются, и я хаотично глажу его лицо, впиваюсь в ворот рубашки. Оторвался от моего рта и снова порезы на ладонях целует. Быстро, резко, больно. Прямо в обнаженные раны.
– Заберу тебя, слышишь? Я заберу тебя отсюда сейчас. Готово все… один шаг сделать должна!
Резко оттолкнула и крикнула истерически:
– Уходи! Не заберешь! Не пойду с тобой никуда! Видишь, хорошо мне без тебя?
– Вижу, – усмехается и снова к себе тянет, – так хорошо, что слезы по щекам катятся? Настолько хорошо, Александра, до слёз?
– Хорошо, – и сама к его рту тянусь, уже нежно обхватывая губам нижнюю губу, сжимая пальцами его пальцы, – хорошо.
И опять голос отца в ушах звенит, лицо его перекошенное вижу и вопли эти дикие.
«Мамой клянусь, Лекса, убью его. Сначала с тебя кожу живьем спущу, а потом его голыми руками раздеру. Всю семью перебью, как тварей последних. Чтоб не смела отца предавать! Отдам тебя за первого встречного. А если опозорила – казню, суку, прилюдно!»
– Без тебя хорошо, – толкнула в грудь, все еще пытаясь освободиться, – думаешь, мне это нужно? От отца не уйду к тебе. Ты – мой враг. Я тебя так же, как и он ненавижу! Ясно?!
Стиснул челюсти так, что и я хруст услышала, и сама тоже пальцы в кулаки сжала. Где-то вдалеке послышались крики охранников и треск раций, и у меня внутри все оборвалось.
– Я – Нармузинова. Я – дочь Ахмеда. Помнишь, кто он такой? Так вот, я его дочь.
– И что? – коротко, отрывисто, и снова в глаза смотрит, читает меня, сканирует, и мне кажется, что я, как открытая книга, потому что слезы все равно катятся и катятся.
– Ничего. Была ею и останусь. И горжусь этим. Пропасть между нами. Убирайся, Андрей.
И вдруг поняла, что это последний раз, когда сказала ему эти слова. Он не позволит прогнать еще раз, а я больше и не смогу. Обессилела. Не могу больше. К нему хочу. Чтоб увез, забрал, чтоб вот так к себе прижимал, и пусть весь мир сгорит к чертям.
– Снова лжешь. Плохо сыграла, неубедительно. Врать научись, девочка. Может, тогда его настоящей дочерью станешь, а пока тебе до него, как до луны…– и тихо добавил, вытирая мои слезы большим пальцем, – или ему до тебя. Но мы это обсудим. Не здесь и не сейчас.
Тяжело дыша, смотрю ему в глаза. Снова сердце больно бьется, и надежда… она такая хрупкая, такая прозрачная, где-то призраком в душе трепыхается. Андрей к себе за затылок притянул и быстро поцеловал в губы.
В ту же секунду кто-то вышиб дверь гримерной, а я почувствовала, как Андрей схватил меня за руку и резко к себе за спину дернул, тут же выхватил ствол и раздались выстрелы…
Глава 3. Андрей
– Граф, уходим! – проорал Русый. – Отбой! У нас пара минут! Сорвалось все, к чертям!
Сделал шаг в сторону Александры, а она дернулась от меня и забилась в самый угол. По щекам слезы катятся, как и капли крови по порезанной ладони, приземляясь на паркет. Я за каждой взглядом слежу, и мне стереть их хочется. Прямо сейчас, не слушая криков и выстрелов. Наплевав на безумие, которое поглощало нас все больше с каждым мгновением. Смотрю на нее, как завороженный, понимая, как соскучился за это время. Безумно. Что от одного взгляда в ее глаза цвета темного шоколада опять жить захотелось. Кровь по венам бежит во сто крат быстрее и сердце по-другому стучать начинает. Радостно и волнительно. Опять дышать хочется. Смотрит на меня, словно зверек загнанный, и шепчет еле слышно, шевеля губами. А я читаю каждое произнесенное слово и головой отрицательно мотаю.
«Уходи… уходи, Андрей… прошу тебя. Не надо больше… прошу». Только глаза в это время умоляют «Не уходи!». Кричат безмолвно, но для меня эти возгласы оглушительным гулом в ушах звучат. Она что угодно сейчас говорить может. Но я не верю. Ложь прячется в словах, прикрывается ими, словно ширмой, правда же живет в глазах. Нельзя лгать вот так. Слезами… Нельзя лгать, оплакивая себя, меня, нас, отправляя в последний путь свои чувства, убивая лживыми слезами надежду. Не верил я ей… Или не хотел верить. Не важно. Не понимал, чего боится, а она боялась. Боялась до дрожи, до животного ужаса… до смертельной бледности, расширенных зрачков и ступора, от которого все тело становится каменным. Кого боится? Меня? Черта с два. Отца своего? Узнаю, что тронул – урою тварь в ту же секунду, и плевать на разборки с его соплеменниками.
Я и с этим потом разберусь. Все потом. Сейчас главное – выбраться отсюда. Я этого шанса ждал слишком долго, чтобы сейчас ее сомнения и страхи в расчет брать. Она свой выбор сделала. Тогда еще, в венском отеле. Нет, даже раньше. Использовала свой шанс, свободу свою добровольно отдала, и обратно не получит. Думала, прогнать сможет, колкими словами разбрасываясь, моя наивная девочка. Думала, обижусь и уйду, зализывая раны уязвленного самолюбия. Только забыла, что дело не с мальчишкой имеет… что я ее ложь чувствую, узнаю еще до того, как слово произнесет, узнаю по тембру голоса, потому что очень хорошо знаю, как звучит из ее губ правда…
Подобраться к ублюдку Ахмеду все это время было практически невозможно. Стены вокруг себя выстроил и сопровождение менял каждую неделю. Чтобы любую возможность внедрения завербованных людей отсечь. Все наши попытки до этого дня завершались полным провалом. Я злился… с ума сходил… хоронил своих людей, зная, что завтра все равно пожертвую новыми. Он словно нюхом чуял чужаков, все свои инстинкты оголив. За последние недели пятерых наших парней устранили. Люди дохли, как мухи. Его и наши. Каждый день. Как пушечное мясо. Среди белого дня, на столичных улицах, перед носом у полиции – как плевок в лицо. Войны происходят не только во фронтовых зонах, очень часто они настолько рядом, что мы предпочитаем делать вид, что не замечаем их, чтобы находить в себе силы как-то жить дальше.
Я этот момент, когда смогу ее увидеть, голос услышать, к гладкой коже прикоснуться, все эти месяцы в голове прокручивал. В разных вариациях. От ненависти и ярости до разъедающей душу тоски.
До сих пор перед глазами момент, как Карину увидел в тот день, как Александра сбежала. В больнице. Опять. В очередной раз. Сердце в груди колотилось, ударяясь о ребра, сжимаясь в болезненных спазмах, и страх, выворачивающий наизнанку, потому что не знал, что там – за дверью палаты. Дежавю… мучительное, бьющее четким ударом под дых. Как тогда, когда кричала мне в глаза, что ненавидит, как маму свою звала, проклиная за то, что ушла Лена, а не я.
Когда рукой до дверной ручки дотронулся, показалось, что током шибануло. Это чертовски сложно – смотреть в глаза тому, кто тебе верит, и понимать, что ты этого не заслуживаешь. Только это ничего не меняет. Потому что в этих глазах по-прежнему – любовь и вера. И это горькое чувство вины, что опять она здесь из-за меня. Испуганная. Растерянная. В шаге от очередной трагедии, которая вывернула ее душу наизнанку. Потому что когда-то это уже было. Что вынуждена смотреть горькой правде в глаза: нет никакой безопасности… не будет никакой веселой и беззаботной жизни. Только передышки, краткие паузы в этих адских испытаниях, которые и составляют жизнь таких, как мы.
– Папа… папа! – бросилась в объятия, и я сжал ее настолько сильно, что она ахнула. Не рассчитал силы. Потом отпрянул на секунду, всматриваясь в лицо, и покрыл поцелуями веки, лоб, щеки, гладил по волосам и смотрел, не отрываясь. Убеждаясь, что цела и невредима, и, не в силах и слова сказать, опять к себе притянул. Не знаю, кого благодарил в тот момент, только в голове одна и та же мысль, как шарманка… «она в порядке… все обошлось». А потом ее голос меня из этого марева выдернул:
– Пап… а что с Лексой? Пап! Они ее выкрали… ты понимаешь? Если бы не Русый… – не выдержала, расплакалась, и я эту влагу кожей своей чувствовал, потому что разъедала ее, словно кислота. О Лексе переживает… О той, которая предала, как последняя тварь. Втерлась в доверие и, дождавшись нужного момента, ужалила, не задумываясь и никого в расчет не беря.
А ведь я не поверил вначале. Не мог. Уверен был, что подвох какой-то. Не могла она всех нас так подставить и Нармузинову сообщить. Не после всего, что было… А потом вдруг сам себя остановил… А что было, Воронов? Поверил романтическим бредням малолетки? Повелся на девчонку, которая острых ощущений искала и получить хотела, что недоступно было? Привыкла, что все на блюдечке подносят. А когда отвечать время пришло, испугалась папочки? Этому ты поверил?
Но все равно внутри что-то подсказывало, что не такая она. Испугаться могла, молодая совсем, да и иллюзий никогда не питала относительно отца своего, ублюдка. Довериться побоялась, думая, что поиграю с ней и брошу. Но так подло и искусно подставить? В голове не укладывалось, да и сердце глупое верить не хотело. Сколько раз я прокручивал в голове эти мысли. Выискивая миллионы причин, чтобы не поверить.
А потом телефон Карины проверили – и все на свои места встало. Там было четко зафиксировано. Это Лекса отправила сообщение Ахмеду, указав время и место. Даже удалить не посчитала нужным. Забыла или оставила в качестве прощальной насмешки? Смотрел тогда на эти строчки, и мне показалось, что все вокруг вдруг серым стало. Комната, в которой находились, мебель, картина… все серое. И тишина гробовая… Только сердцебиение дочери чувствовал… лишь эти звуки смогли пробиться сквозь это мертвенное безмолвие.
Что я мог ей ответить тогда? Что? Что та, за кого она переживает и душу рвет, предала ее?
Меня от осознания, что моя дочь, несмотря на все дерьмо, которое ей пришлось хлебнуть, сумела человеком остаться и сохранить в себе веру в других, такая боль захлестнула, от которой пополам сгибает и хочется орать во все горло, пока хоть немного не отпустит. Выдрать сердце из груди, чтобы не чувствовать ничего. Я не мог тогда ей правду сказать. Не мог… Ей не нужна была эта правда. Она не изменит уже ничего, только еще большую боль принесет.
– Не волнуйся, моя родная… С ней все будет в порядке…
– Ты обещаешь, пап?… А что, если… – ее голос дрогнул, а я уже знал, что она скажет. Мне хотелось умолять, чтоб не произносила этого вслух, но она все же сказала. – Пап, ты должен спасти ее… я не хочу, чтобы с ней сделали то же… что со мной… Понимаешь?
А меня каждое слово переносит в этот гребаный кабинет, когда ей сеанс гипноза проводили. Как ручки свои тонкие сжимала, головой мотала и кричала, папу зовя… Смотрит мне в глаза умоляюще, ждет ответа, спасти Лексу просит… Прости, моя хорошая, но мне опять придется солгать. Возможно, ты когда-то назовешь меня трусом и лицемером, но это будет потом… Когда-нибудь, когда ты будешь качать на руках собственного ребенка, ты признаешься, что на моем месте солгала бы тоже, потому что это невыносимо больно – видеть, как страдает тот, кого любишь…