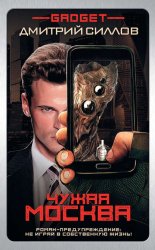Все рассказы Веллер Михаил
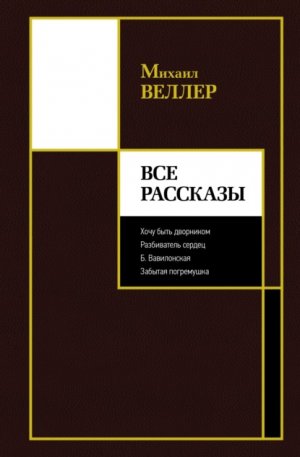
Ох, паспорт менять обратно… Ну вот же засела заноза у старого обалдуя! Десять рублей… а пенсия двадцать четвертого. Ну… не помирать же под чужой фамилией. Поиздержался я, поиздержался… У Лешки одолжу, посмеемся в субботу над этой комедией!.. (Проходящей официантке): счет, пожалуйста.
Недорогие удовольствия
А может, я и не прав
Свою литературную судьбу я считаю начавшейся с того момента, когда во время прохождения лагерных сборов от военной кафедры университета я пошел на риск первой публикации и написал рассказ в ротную стенгазету. Сей незатейливый опус, решительно не имевший значительных литературных достоинств, тем паче опубликованный в весьма малоизвестном издании тиражом одна штука, вызвал неожиданный резонанс. В рассказе я не до конца одобрительно отзывался о некоторых моментах курсантского внутреннего распорядка, как-то: строевая подготовка, строевая песня, надраивание сапог перед едой и т. д. Из редакционных соображений отрицательное мое к этому отношение было по форме облечено в панегирик, где желаемый эффект достигался гипертрофией восхвалений. Прием это старый, азбучный: восхваления достигали такого количества, что переходили, нарушая меру, в противоположное качество, – что и требовалось.
Курсанты-студенты тихо радовались содержанию, а офицеры кафедры тихо радовались форме (возможно, они не обладали столь изощренным диалектическим чувством меры, как изощренные гуманитары – историки и филологи). Этот литературный экзерсис по-своему может расцениваться как идеальный случай в искусстве, где каждый находит в произведении именно то, что родственно ему.
Но – скрытые достоинства искусства из достояния элиты рано или поздно становятся всеобщим достоянием, или, по крайней мере, доводятся до всеобщего сведения. Миссия просветителя пала на одного майора, волею судьбы закончившего вместо военного училища университет. Он открыл тот аспект искусства, который предназначался вовсе не ему, а когда человек сталкивается в искусстве с тем, что предназначено не ему, он часто впадает в дискомфортное состояние. И возникшее ущемление и раздражение он считает своим долгом разделить с единомышленниками в вопросе, каковым надлежит быть искусству и как оно должно соотноситься с жизнью.
Майор приступил к комментированному чтению. Он подводил офицеров к стенгазете и настойчиво предлагал ознакомиться. Когда читатель заканчивал и недоуменно вопрошал: «Ну и что же?», майор с университетским образованием удовлетворенно и с превосходством улыбался и разъяснял малоквалифицированному коллеге вредоносную и замаскированную сущность пасквиля, торжественно следя, как лицо очередного травмированного неисповедимым коварством литературы вытягивается, являя собой подтверждение древней истине «ибо во многой мудрости много печали, и кто умножает знание, тот умножает скорбь».
Вслед за тем я узнал, что означает «автор ощутил на себе влияние собственного произведения».
Миссия просветительская, как известно, неразрывно связана с миссией воспитательной. Покончив с первой, майор безотлагательно приступил ко второй. Он выстроил роту на плацу, выставил меня по стойке «смирно» и высказал свои взгляды на литературу и литераторов, богатством языка высоко превзойдя скромный стиль моей безделушки. Он обладал поставленным командным голосом, и эрудицию пополнила не только наша рота, но и весь полк, собравшийся у окон казарм.
Лишь раз в своей энергической речи он промахнулся: пообещал с моим рассказом прийти в деканат; рота предвкушающе заржала, представив прелестнейший конфуз: в деканате сидели люди, волею привычки понимающие скорее филологов, чем кадровых строевиков. (В дальнейшем майор исправил свою оплошность, вполне грамотно.)
Первым моим гонораром явились, таким образом, пять нарядов вне очереди. И когда ночью, выдраив туалет, я курил там в печальном предвидении ближайшего будущего, зашедший сержант из другого взвода, лет уже под тридцать, усатый, толстый, очень какой-то добрый, уютный и домашний, пробасил сочувственно: «Что, брат, трудно быть писателем на Руси?»
Слово «писатель» было применено ко мне в первый раз. И я даже почувствовал в этой ситуации некое посвящение.
Остается добавить, что я был уличен на госэкзамене в незнании материальной части и приборов и единственный из двухсот тридцати человек его не сдал. Перед четвертым заходом главы учебника снились мне постранично. А в ноябре в деканат пришла основательная бумага с военной кафедры, где поведение мое в период военных сборов квалифицировалось как отменно недисциплинированное и безнравственное: майор не стал приходить в деканат с рассказом, разумно учтя все факторы. В результате меня чуть не выперли из университета, и если бы майор увидел мое мученическое лицо, с коим я доказывал необязательность отчисления меня с пятого курса, мотивируя это государственными затратами и своей безрассудной любовью к литературе, он счел бы себя сторицей отмщенным.
Видимо, по врожденной беспечности характера я не сделал выводов из этой достаточно поучительной для мало-мальски сообразительного человека истории. Несмотря на то, что я кончал русское отделение, золотая фраза Чехова: «Младенца по рождении надобно высечь, приговаривая при этом: «Не пиши! Не пиши!» не укоренилась в моем поверхностном сознании достаточно глубоко. Ибо второй рассказ я опубликовал в факультетской стенгазете, после чего факультет разделился по отношению ко мне на три части: первые сочли меня гением, вторые доискивались сути насмешки над читателем, а третьи просили объяснить им, почему меня приняли в университет, а не в специнтернат для дефективных детей; это была самая многочисленная часть.
Но – «если человек глуп, то это надолго». Имея в характере наряду с беспечностью упрямство, я, пострадав от двух собственных рассказов, взялся за изучение чужих и придумал себе тему диплома: «Типы композиции рассказа». Тема эта необъятна тем более, что в нашем литературоведении ею и поныне никто не занялся; тем сильней она меня привлекала. Строго говоря, способы построения рассказа вполне перечислимы, если не лить воду и не мутить ее. Однако от меня, разумеется, шарахались все здравомыслящие преподаватели, не желая связываться с подобным авантюристом, пока не нашелся один страстно любящий теорию литературы доцент, запамятовавший, не иначе, что его недавно выгнали за нечто же подобное из другого университета.
В результате я представил к защите диплом, превзошедший мои собственные ожидания.
Когда в заключение процедуры защиты дипломанты были допущены в аудиторию и высокая комиссия встала для зачтения приговора, я, стоящий по алфавиту обычно в начале списка, своей фамилии вообще не услышал. Я невольно завертел головой, как бы пытаясь со стороны обнаружить – где же я-то, когда председатель голосом Левитана известил: «Что же касается дипломного сочинения…» – и моя фамилия закачалась на краю бездонной качаловской паузы. Аудитория ухнула. Я обомлел. Зачли диплом за кандидатскую? Вряд ли. Не то настроение у комиссии. Не припомнят здесь таких случаев. Так, прямо… Два?! Провал на защите… небывало… дожили… «то комиссия не пришла к единому мнению об оценке, – включился председатель обличительно, – и постановила назначить дополнительного оппонента, с тем чтобы провести повторную защиту».
Мои однокашники, работающие сейчас в университете, говорят, что подобных случаев на их памяти не было больше.
Мнения членов комиссии, как я узнал позже, охватили полный диапазон: от «отлично с рекомендацией в аспирантуру» до «неудовлетворительно».
Дополнительным оппонентом оказался не больше не меньше тогдашний директор Пушкинского дома.
После повторной получасовой перегрызни комиссии за закрытыми дверьми, когда прочие защитившиеся обрушились на меня с руганью за нервическое ожидание по милости моих изысков (комиссия, впрочем, сводила собственные научные счеты), я поимел нейтральную четверку. После чего директор Пушдома с заведующим кафедрой отечески обсели меня и полчаса усовещивали в формализме, объясняя, почему отказался Эйхенбаум от «Как сделана гоголевская «Шинель».
И я понял, что не судьба мне принадлежать к счастливцам, которые занимаются вещами, понятными и приятными всем, или хотя бы всем коллегам.
Через год, подав свои рассказы на конференцию молодых писателей Северо-Запада, я подвергся двум полным разносам и двум замечательным восхвалениям (как нетрудно подсчитать, нуль в итоге). Но вынесенной за скобки осталась первая фраза руководителя семинара, подтвердившая мои подозрения: «Никто никого никогда писать не научит». Так что польза была.
После этого благословения старшими собратьями по перу я два года вообще не писал, собираясь с мыслями, и еще два года писал ежедневно, бросив работу, счастливо страдая над текстом до бессонницы и дрожи в коленях. Не показывал я написанного никому, кроме разве что младшего брата – он вырос под известным моим влиянием и вредного литературного воздействия на меня оказать, по моему разумению, не мог. Я был молод и честолюбив, и войти в литературу хотел сразу, сильно и красиво. Я воспитывался в американском духе: «Свое дело ты должен делать лучше всех». Своим делом я считал рассказ. Вернее, короткую прозу, ибо рамки жанра новеллы размыты сейчас абсолютно: прочитав по данному вопросу все, что имелось в ленинградских Библиотеке Академии наук и Государственной публичной на русском, английском и польском, я в этом полностью убежден. Ясно, это не помогает писать – рыба не знает, как она плавает, а ихтиологи могут тонуть, – но я стал рыбой, которая может сказать, как она плыла и почему.
И в двадцать восемь лет решив, что я пишу очень хорошую короткую прозу, я стал рассылать рукописи по редакциям в ожидании фанфарного пения и гонораров.
Больше всех остальных мне понравилась редакция одного толстого журнала в белой обложке. Она возвращала рукописи через неделю. Я стал все папки рассказов пропускать сначала через нее, чтоб не залеживались. Седьмая серия вернулась с рецензией в одну строку: «Послушайте, это же несерьезно…»
Я заинтересовался редакционной механикой и выяснил, что на «самотеке» сидят стопперы-литконсультанты – сами, по моим представлениям, решительные неудачники и бездари. Забавнее другое: всем нравились или не нравились разные рассказы. Всегда!
Из неопределенных отзывов друзей, начавших получать мои опусы на прочтение, следовал тот вывод, что пишу я так себе. Средне пишу. Но уж ежели что-то определенное нравилось или не нравилось – всем разное, никогда не иначе. Я стал ставить опыты: пять людей получали пять рассказов с просьбой выделить лучший и худший. Обычно получалось пять лучших и пять худших. «А вообще, – глубокомысленно говорилось мне, – они у тебя все разные. Тебе надо что-то одно», – и каждый указывал на удачный, по его мнению, рассказ.
Желая тем временем привлечь к себе внимание редакций с тем, чтобы меня там хоть читали толком, я со свойственной мне практичностью решился на эффективный шаг. Со скоростью три страницы в час (быстрее не умел печатать) я испек три «рассказа» до бреда фривольного характера. «Брать» они должны были первой же фразой – чтоб уж не оторваться до конца. Автор выглядел маньяком не без юмора, помешанным на, как бы это, интимной стороне жизни. Расчет строился на природном любопытстве, скажем так, сотрудников редакций.
Пока я распечатывал шесть экземпляров, дабы закинуть приманку сразу в шесть журналов, с творчеством сим ознакомились несколько друзей. Не надо быть провидцем, чтобы сообразить, что именно это они объявили отличной литературой, а читанное ранее – ерундой. Это окончательно подорвало мое доверие к читательским откликам, так что акция моя имела уже минимум одно положительное следствие, – не считая того веселья, с каким я эту ахинею порол.
В собственноручно склеенных розовых папках с зелеными тесемками я отправил свой доморощенный «Декамерон» радовать центральные редакции (из предосторожности не указав своего адреса), а через месяц повторил второй серией. Выработав таким образом у редакторов положительный условный рефлекс на мою фамилию, я отправил настоящие рассказы, считая, что теперь их по крайней мере сразу прочтут. И в общем не совсем ошибся.
Лишь один из шести журналов не ответил. Прочие отреагировали сразу. Наиболее симпатизирующий ответ, трехстраничный, скорбел: «Печально, что присущее вам, судя по предыдущим рассказам, чувство юмора направлено пока лишь на привлечение внимания к себе». Настоящие рассказы у них, как явствовало, так же как и у моих друзей, интереса не вызвали.
Пока я изучал литературный процесс, мои университетские друзья продвигались по службе. Подстрекаемый их практическими советами, я пришел к выводу о неизбежности личных контактов. Я стал налаживать личные контакты. Меня посвятили в два самых привилегированных литобъединения. Я отсчитывал в Доме писателей копейки на малолюбимый мной кофе. Но повторялось неуклонно: всем нравилось разное, что трактовалось мне в ущерб.
В редакциях мне советовали изучать жизнь. Я бестактно возражал, что перегонял скот на Алтае, строил железную дорогу в Мангышлаке и т. д. Тогда мне советовали больше работать: работал я ежедневно до упора. Тогда, морщась, объясняли, что я еще в поиске и не нашел своей темы, что подтверждается наличием совершенно непохожих рассказов. И этот камень преткновения мне было не спихнуть. Я опасался, что если прочту редактору лекцию на тему «что такое рассказ», литературные взгляды его, возможно, и расширятся, но перспектива нашего сотрудничества сузится до черты порога.
Эти две формулировки – «молодой автор находится в поиске» и «писатель еще не нашел своей темы» – реяли над моим бедствием как два черных вороновых крыла. Впоследствии прибавилась еще пара дубинок: «нарочитая усложненность» и «неясно авторское отношение».
Мне же всегда хотелось писать именно разные рассказы. Не то чтобы хотелось – они должны быть разные. Так я чувствую и понимаю. Каждый материал сам выбирает свою форму, и каждый рассказ – это не изложение неких фактов и мыслей, но больше – это всегда нахождение единственного органичного воплощения материала, построения его, языковых средств, позиции автора, чтобы в результате из этого единого целого возникла та, если можно так выразиться, надыдея, которая и является сутью рассказа.
В идеале каждый рассказ – это открытие другого мира, а не еще одна дверь в мир один и тот же.
Можно, найдя удачную формулу и «поставив руку», писать рассказы схожие, где автор ясен сразу по одному рассказу. «Мир Лондона», «мир Шукшина». У каждого – своя сфера, за ее пределы он не ходок. Пусть он гений, талант, мир его уникален, воззрение самобытно, – но жизнь-то – всякая! Каждая комбинация элементов неповторима и дает другой мир; должны быть разными и рассказы, а не ситуации и даже не характеры, – мир рассказов должен быть разным.
Подобными объяснениями я пытался оправдывать свою преступную разноплановость и непохожесть рассказов. В чем мало преуспевал. Я казался сам себе то бесталанным Дон-Жуаном от новеллистики, то неправильной пчелкой из «Винни-Пуха», которая делает неправильный мед.
На мое везение, был конкурс ленинградских фантастов (анонимный!), и мой рассказ занял первое место. Его напечатали в Риге, взяли в альманах, перевели в Болгарии и охаяли в других местах, – кому это не знакомо. Но – стали брать: по одному рассказу из пяти-шести, советуя и надеясь, что в будущем получат все рассказы наподобие понравившегося, «сильного», – чтоб попохожее.
И только на тридцатом году жизни я познакомился с одним более чем признанным писателем, автором десятка книг и среди прочего – мощных рассказов, который поведал, как, будучи помоложе, наполучал критических шпилек за «разнородность» своих рассказов, за убежденность, что рассказы и должны быть разными. Я, помнится, дернулся и помахал руками. И весь тот вечер норовил макать сигареты в чай и перебивать старшего единомышленника маловразумительными восклицаниями в том духе, что как это здорово.
И всегда хотелось мне выпустить такую книгу, чтоб все рассказы в ней были разные – даже если у меня есть и сходные. Потому что сборник рассказов представляется мне не в виде строя солдат, или производственной бригады, или даже компании друзей или семейства за столом, а в виде собрания самых различных людей, по которым можно составить представление о человечестве в целом. Отбор по росту, расе, полу или профессии здесь просто неуместен. По человеку – всех рас, народов, ростов и судеб. А общего у них то, что все они люди с одной планеты. И чем более разными они будут, тем богаче и полнее составится в единое целое мозаика жизни.
Лодочка
Октябрьский день был ясен и чист насквозь. Я бродил по Михайловскому саду: сухое стынущее сияние осени, ограненное в узорную чернь оград. Перспективы обнажались. Отдыхали на скамейках старички, курили молодые стильные мамаши, мелькала детвора в азарте. Мальчишки пускали в пруду бумажные кораблики, они скользили по чернолитой плоскости. Один достиг берега около меня. Я поднял его, размокшая бумага развернулась; чернила расплылись на ней.
«……и место рождения: 14 авг. 1900 г., с. Ольговка бывш. Екатеринославской губернии (Днепропетровская обл.).
Партийность, год вступления: член КПСС 1919 г.
…нер-экономист, Ленинградский по
…тут в 1930 г.
немецким – объясняюсь
…в 1956 г.
Жена: Х Х Х
Дочь: Х Х Х
…густ 1917 г. – рассыльный страхового акц
…ства «Волга».
…18–2/II1920 – боец 270 стрелкового полка 24 Пролет
…таря ревтрибунала 2 Донской дивизии.
…чик Ленинградского торгово…
…п/х «Роза Люксем…
6/X1930–26/II1938 – редактор Лениздата водного трансп…
партбюро 202 полка
Гангутского полка
…лховский фронт
41 г.
…евраль 1942 г. – комиссар 24 инж. бригады
…краинский ф
3 танковая армия
VIII1946 – преп. инж. дела военной ка…
…953 – инженер-экономист
Совета рабочих, крестья…
…тов – секретарь.
юзный комитет – зампре…
1936, орден Красной Звезды – 1940, ор…
йны I степ. – 1943, медали «За оборону С…
ие Праги» – 1945, «За победу над фашистс…
1975 г.
ул. Белградская, д. 106, корп……
Поправки к задачам
Августовское солнце грело приятно. Листва уже набирала желтизну. Маршал дремал на скамеечке. Он услышал шаги и открыл глаза. Генерал с молодым усталым лицом стоял перед ним. В первые моменты перехода к бодрствованию маршал смотрел с неясным чувством. Старческая водица пояснела на его глазах. Генерал был в форме того, военного, образца. «Забавно», – маршал понял, улыбнувшись: это он сам стоял перед собой и ожидал, возможно, указаний.
– Ну, как командуется? – спросил он.
– Трудно, товарищ маршал, – ответил генерал, поведя подбородком, и тоже улыбнулся.
– Трудно… – повторил маршал. Треть века назад, подтянутый в безукоризненно сидящей форме, он был хорош… – А иначе и не должно.
Пологий склон переходил в лес на высотах. Его наблюдательный пункт находился в сотне метров. НП был такой, как он любил: основательный блиндаж накатов в шесть и рядом вышка, пристроенная к высокой сосне, маскируемая ветвями. Маршал пришел в определенно приятное расположение духа.
Генерал достал портсигар.
– Кури, – разрешил маршал. – «Казбек»? Правильно, – одобрил. – Садись, не стой. Это мне перед тобой теперь стоять надо, – пошутил он и вздохнул.
Тихо было. Спокойно. Даже птички пели.
– Волнуешься?
– Гм… Да как вам сказать, – затруднился генерал.
– Главное что, – приступил маршал и задумался… Рядом сидящий, в значимости энергии главных дел жизни, в нерешенности тревог, ощущался им по-сыновнему близким, и было в этой приязни нечо неприличное, и зависть была, и снисходительное сожаление. Явился вот, поправок небось ждет, замечаний… – Главное – тебе надо контрудар выдержать, не пуская резервы. Заставить их израсходовать на тебя все, что имеют. Иначе – хана тебе. Прорвут. Чем это пахнет – ясно?
– Ясно…
– Иначе – срыв всей операции, а тебя разрежут и перемелют. Сейчас от твоей армии все зависит. Успех двух фронтов зависит от тебя.
Генерал пошевелил блестящим сапогом. Рука с папиросой отдыхала на колене, обтянутом галифе.
Маршал развивал мысль. Знание и победы утратили абсолют, – томление списанных ошибок овладело им; анализ был выверен; он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством.
– А… стиль руководства? – спросил генерал.
Маршал сказал:
– Над собой ты волю чувствуешь постоянно, – и под тобой должны. Одного успокоить, довести до него, что все развивается нормально. На другого – страху нагнать! чтоб и в мыслях у него не осталось не выполнить задачу. Тут уж актером иногда надо быть!.. – он глянул и рассмеялся: – Эть, как я тебя учить стал, а?..
– Ничего, – рассмеялся и генерал. – Все верно!
– А в деталях? – спросил он.
– Да у тебя лично вроде так, – сказал маршал недовольно, добросовестно сверяясь с памятью. – Только, – покрутил пальцами…
– Общей достоверности не хватает?
– Вот-вот, – поморгал, подумал. – Ну, давай, – напутствовал. – Командуй! – и остался на своей скамеечке.
Поковырял палкой лесную землю, сухую, слоеную.
Растеснил воздух нежеваный механический звук мегафона:
– Всем по местам! Перерыв окончен!
На съемочной площадке приняла ход деловитая многосложная катавасия.
Генерал подошел к режиссеру.
– Что Кутузов? – спросил режиссер и изломил рот, нарушив линию усов.
– Получил краткое наставление по управлению армией в условиях мобильной обороны, – сообщил генерал.
Режиссер крякнул, махнул рукой и наставил мегафон:
– Свет! Десятки! Пиротехникам приготовиться!!
Генерал со свитой полез на вышку. Звуковики маневрировали своими журавлями; осветители расправляли провода; джинсовые киноадъютанты сновали, художник требовал, монтажники огрызались, статисты дожевывали бутерброды и поправляли каски; запахло горячей жестью, резиной, вазелином, озоном, тальком, лежалым тряпьем; оператор взмывал, примериваясь. Режиссер заступал за предел напряжения не раз до команды: «Внимание! Мотор!», пока щелчок хлопушки не отсек непомерный черновик от чистой работы камеры.
Переводя дух, потный, он закурил. Сцена шла верно. Картина двигалась тяжело. У него болело сердце. Он боялся инфаркта.
Черная «Чайка» маячила за деревьями. В перерыве маршал вступил с объяснениями. Маршал, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но передвижение техники в этом районе и направлении выглядит явно бессмысленным, а пиротехнические эффекты вопиюще не соответствуют действительности. Режиссер, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но если привести натуру в копию действительности, то на экране ничего не останется от этой самой действительности.
– Все делается единственно верным образом. И благодаря вам тоже, – любезность иссякала; прозвучало двусмысленно. Он отошел в осатанении от консультанта.
Недоказуемость истины бесила его.
Он отвечал головой за каждый кадр. Это была его главная картина. Он боялся инфаркта.
Маршал мешал как мог. Он стал злом привычным.
Генерал перегнулся с вышки:
– Ви-ид отсюда, – поделился он.
Тяготимый несчислимыми условиями, —
– Дубль! – назначил режиссер, желая гарантии, терзаясь потребностью идеального совпадения кадра с постигнутой им истиной.
«Дубль…» – хмыкнул маршал.
Ему не было нужды лезть на вышку, чтобы отчетливо увидеть картину сражения. Он знал ясно, как за тем увалом, на невидимом отсюда поле заглатывая паленый воздух артиллеристы бьют по безостановочно и ровно подминающим встречное пространство танкам, как сводит на трясущихся рукоятях руки пулеметчиков, как сближает прицел вжатая в окопы пехота. Он знал хорошо, что будет здесь сейчас, если танки панцерной дивизии пройдут через порядки его ИПТАПов.
Последний танец
Под фонарем, в четком конусе света, отвернув лицо в черных прядях, ждет девушка в белом брючном костюме.
Всплывает музыка.
Адамо поет с магнитофона, дым двух наших сигарет сплетается над свечой: в Лениной комнате мы пьем мускат с ней вдвоем.
Огонек волнуется, колебля линии картины.
– А почему ты нарисовал ее так, что не видно лица? – спрашивает Лена.
– Потому что она смотрит на него, – говорю я.
– А какое у нее лицо, ты сам знаешь?
– Такое, как у тебя…
– А почему он в камзоле и со шпагой, а она в таком современном костюмчике, мм?..
– Потому что они никогда не будут вместе.
Щекой чувствую ее дыхание.
Мне жарко.
Лицо у меня под кислородной маской вспотело. Облачность не кончается. Скорость встала на 1600; я вслепую пикирую на полигон. 2000 м… 1800, 1500, 1200. Черт, так может не хватить высоты для выхода из пике.
Мгновения рвут пульс.
Наконец, я делаю шаг. Почему я до сих пор не научился как следует танцевать? Я подхожу к девушке в белом брючном костюме. Я почти не пил сегодня, и запаха быть не должно. Я подхожу и мимо аккуратного, уверенного вида юноши протягиваю ей руку.
– Позволите – пригласить – Вас? – произношу я…
Она медленно оборачивается.
И я узнаю ее.
Откуда?..
– Откуда ты знаешь?
Я в затруднении.
– Разве они не вместе? – спрашивает Лена.
– Нет – потому что она недоверчива и не понимает этого.
– Ты просто осел, – говорит Лена и встает.
Я ничего не понимаю.
900–800–700 м! руки в перчатках у меня совершенно мокрые. Стрелять уже поздно. Я плавно беру ручку на себя. Перегрузка давит, трудно держать опускающиеся веки. Когда же кончится облачность! 600 м!!
И тут самолет выскакивает из облаков.
И от того, что я вижу, я в оторопи.
В свете фонарей, в обрамлении черных прядей, мне открыто лицо, которое я всегда знал и никогда не умел увидеть, словно сжалившаяся память открыла невосстановимый образ из рассеивающихся снов, оставляющих лишь чувство, с которым видишь ее и вдруг понимаешь, что знал всегда, и следом понимаешь, что это опять сон.
– Пожалуйста, – говорит она.
Это не сон.
Подо мной – гражданский аэродром. «Ту», «Илы», «Аны» – на площадке аэровокзала – в моем прицеле. Откуда здесь взялся аэродром?! Куда меня еще сегодня занесло?!
И в этот момент срезает двигатель.
Я даже не сразу соображаю происшедшее.
Лена обнимает меня обеими руками за шею и долго целует. Потом гасит свечу.
– Я люблю тебя, Славка, – шепчет она мне в ухо и голову мою прижимает к своей груди.
– Боже мой, – вдыхаю я, – я сейчас сойду с ума…
Она улыбается и подает мне руку. Я веду ее между пар на круг, она кладет другую руку мне на плечо; и мы начинаем танцевать что-то медленное, что – я не знаю. Реальность мира отошла: нереальная музыка сменяется нереальной тишиной.
И в нереальной тишине – свистящий гул вспарываемого МиГом воздуха. С КП все равно ничего посоветовать не успеют. Я инстинктивно рву ручку на себя, машина приподнимает нос и начинает заваливаться. Тут же отдаю ручку и выравниваю ее. Вспомнив, убираю сектор газа.
– Боже мой, – выдыхаю я, – я сейчас сойду с ума…
Я утыкаюсь в скудную подушку, пахнущую дезинфекцией, и обхватываю голову. Я здесь уже неделю; раньше, чем через месяц, отсюда не выпускают. Мне сажают какую-то дрянь в ягодицу и внутривенно, кормят таблетками, после которых плевать на все и хочется спать, гоняют под циркулярный душ и заставляют по хитроумным системам раскладывать детские картинки. Это – психоневрологический диспансер.
Сумасшедший дом.
– Вы хотите знать! Так вы все узнаете! – визжит Ирка.
Ленины родители стоят бледные и растерянные.
– Да! Да! Да! – кричит Ирка, наступая на них. – Все знают, что он жил со мной! Все общежитие знает! – она топает ногами и брызжет слюной.
– Я из-за него развелась с мужем! Я делала от него три аборта, теперь у меня не будет детей! Он обещал жениться на мне!
Она падает на пол, у нее начинается истерика.
Лена сдавленно ахает и выбегает из комнаты.
Хлопает входная дверь.
Я слышу, как она сбегает по лестнице.
Как легки ее шаги.
Она танцует так, как, наверное, танцевали принцессы. Как у принцессы, тонка талия под моей рукой. Волосы ее отливают черным блеском, несбывшаяся сказка, сумасшедшие надежды, рука ее тепла и покорна, расстояние уменьшается,
все уменьшается…
До земли все ближе. Я срываю маску и опускаю щиток. Проклятые пассажиры прямо по курсу. К пузачу «Ану» присосался заправщик. Толпа у трапа «Ту». Горючки у меня еще 1100 литров, плюс боекомплект. Рванет – мало не будет.
Хреновый расклад.
Старые кеды, выцветшее трико, рваный свитер… плевать!.. У меня такие же длинные золотые волосы, как у моего принца, и корабль ждет меня с похищенной возлюбленной у ночного причала. Смуглые мускулистые матросы подают трап, я веду ее на капитанский мостик, вздрагивают и оживают паруса, и корабль, пеня океанскую волну, идет туда, где еще не вставшее солнце окрасило розовым прозрачные облака.
На их фоне за холодным окном, за замерзшей Невой, вспучился купол Исаакия.
– А вы все хорошо обдумали? – спрашивает меня наш замдекана, большой, грузный, и очень добрый, в сущности, мужик.
– Да.
– Это ваше последнее слово?
– Последнее.
– Что ж. Очень жаль. Очень, – качает головой. – И все же я советую вам еще раз все взвесить.
– Я все взвесил, – говорю я. – Спасибо…
Мне не до взвешивания.
Машина бешено сыплется вниз. Беру ручку чуть-чуть на себя и осторожно подрабатываю правой педалью. Черта с два, МиГ резко проваливается. Не подвернуть. На краю аэродрома – ГСМ, дальше – ровный луг, за ним – лесополоса. Тихо, едва-едва, по миллиметру подбираю ручку.
Спокойно, спокойно…
Сейчас все в моих руках, только не осечься…
– …Как вас зовут? – спрашиваю я.
– Какая разница, – отвечает она.
Хоть бы не кончалась музыка; пока она не кончилась, у меня еще есть время.
– Откуда вы? – спрашиваю я.
– Издалека.
– Я из Ленинграда… Вы дальше?
– Дальше.
Отчуждение.
Эмоций никаких.
Как по ниточке, тяну машину. Тяну. Не хватит высоты – буду сажать на брюхо. Луг большой – впишусь.