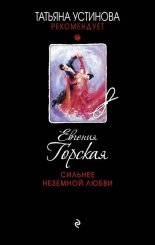Прощание с Матерой Распутин Валентин

– Все вместе, что ли?
– Ага, все вместе.
– Я и так помню: шестьсот сорок рублей.
Председатель подумал, спросил:
– Бухгалтер не приехал?
– Нет, он к вечеру будет, не раньше.
– Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.
– Кто?
– Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.
Кузьме он сказал:
– Ты сиди.
И снова занялся с бумагами.
Стали подходить специалисты.
Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.
В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.
Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:
– Садись пока, подождем.
Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.
Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.
Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:
– Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.
Наконец появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с краю.
Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.
Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.
Наконец он начал:
– Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело. – Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил – спокойным, ровным голосом: – Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, история хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.
Кузьма простонал:
– Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.
– Тебя никто не спрашивает. Спросят – тогда скажешь. – Председатель повернул голову к другой стене. – Ну как, товарищи специалисты?
Специалисты молчали.
Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними как на судилище и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан.
Но кто-то сказал:
– Дать, конечно, надо.
– Надо дать, – твердо повторил председатель. – Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.
– Согласны, чего там! – ответил за всех агроном. Остальные молчали.
– Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.
– Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? – оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.
– Ты ничего не должен, – недобрым голосом сказал председатель. – Это дело добровольное. Не хочешь – забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.
– Да я согласен, согласен, – торопливо закивал ветеринар.
– Смотри сам.
– Согласен, согласен.
– Не надо полностью. – Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. – Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. – Теперь он говорил специалистам: – Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали…
Председатель оборвал его:
– Ты тут не торгуйся. Дают – бери, бьют – беги, а торговаться нечего.
– Так у меня совесть-то есть или нету?
– Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? – Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами. – Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.
– Да я разве…
– Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.
Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма.
Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.
Молчали.
Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:
– Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.
Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:
– Подожди меня.
Он убрал папки в стол, проверил, закрыл ли сейф, и стал одеваться.
Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.
Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать – такой это беспутный час.
Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:
– Зайдем, если не торопишься.
Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:
– Спирт.
– Где это ты его взял?
– Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.
От этих слов у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:
– Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.
– А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год, – пригрозил председатель.
– Может, у нее правда не было.
– Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!
– Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?
– Прижму как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее так, без пользы, лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя – вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.
– Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже – ты заставил.
– Ничего, обойдутся. Ну пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал – да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех. – Председатель усмехнулся. – Я знаю: когда вместе – так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один – больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это давно запримечено.
– А ведь и правда, – удивленно согласился Кузьма.
– Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше из жизни.
– Я все у тебя спросить хочу, – сказал Кузьма. – Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?
– На кого – на вас?
– Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.
– А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.
– Да оно и при чем и ни при чем – смотря с какой стороны подойти.
– Брось ты, Кузьма, – отмахнулся председатель. – Что теперь об этом говорить?
Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то решил бы, что он пьян.
– Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? – сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму. – Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так. – Словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул. – Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.
– Вот-вот.
– Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало… – Председатель помолчал и улыбаясь, но твердо добавил: – Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.
Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.
– Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.
– Давно ждешь, Евгений Николаевич?
– Так давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал – надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда; не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.
– Смотри-ка ты, как получилось!
– Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.
– Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.
– Значит, нужны деньги?
– Нужны, Евгений Николаевич.
– Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.
Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.
– Чего их считать? Все тут.
– Ну смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.
– Это само собой, Евгений Николаевич.
– Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда – это знаешь что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?
– Правильно, – засмеялся Кузьма. – Смотри, как ты рассудил! – И еще раз засмеялся.
Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.
– Правильно, Витька? – крикнул ему Евгений Николаевич. – Проходили вы про половцев?
– Правильно. Я книжку про них читал.
– Ну и как? Похоже?
– Похоже.
– Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?
Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.
– Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.
– Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.
– Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было – сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить – человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?
– Это правильно.
– Вот видишь. – Евгений Николаевич осмотрелся. – Мария-то болеет, что ли?
Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:
– Болеет.
– Что с ней?
– Голова болит.
– А, ну это не страшно.
У порога Евгений Николаевич негромко спросил:
– Как там у тебя – обещают ссуду-то?
– Обещают.
– Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет. Ну, я пошел.
Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом – невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой – той, которая ничего не знала, – завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.
Кузьма подошел и сказал:
– Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.
Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.
Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову – это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он подождал, но она так ни о чем и не спросила.
Тогда он разделся и лег.
И второй день подошел к концу.
Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни – значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.
Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул – другого выхода нет.
Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошел.
Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.
– Кузьма! А Кузьма! Ты спишь?
– Чего тебе?
– Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.
Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:
– Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.
Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.
– Спи, спи, бабуся, свои, – шепчет парень.
Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.
Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма – привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.
Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:
– Ты ничего, что я тебя поднял?
– Да я почти и не спал. Так, дремал.
– Чего это?
– Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.
– A-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю.
Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:
– А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?
– Ага.
– Они что, правда такие или притворяются?
– По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.
– Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер – да еще на людях.
– Они, видно, всегда так.
– Врет он, что не бегал от нее.
– Кто его знает? Может, и не врет. По-моему, не врет.
– А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?
– Ага.
– А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!
Парень останавливается, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:
– За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.
Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.
– Курим, – говорит ей парень.
– Другого места не нашли, где курить.
– Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего – и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?
– Ты вот пооскорбляй меня…
– Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.
Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.
Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:
– У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.
– Сам, наверное, виноват.
– Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало – и на водку, и на семью. Я говорю: принцип. – Отдохнув, он говорит спокойнее: – Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.
– Ребятишки-то есть у вас?
– Девчонка. Четвертый год.
– Вернется, поди. Как же ребенку без отца?
– Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.
– А ты к ней не ходил, не разговаривал?
– Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.
– Да-а.
Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни, – не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает – теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все непросто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.
Парень говорит:
– Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком несладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и… такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.
– Зачем одна? – с умыслом говорит Кузьма. – Найдет кого-нибудь.
– Пускай попробует, – зашевелился парень. – Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.
– Но раз вы разошлись…
– Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись – думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.
Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль – крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.
– Ч-черт! – выругался он.
На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих – видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.
Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.
Опять тихо, спокойно.
И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся – будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.
Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать – нет, скоро приедет и все узнает.
Парень вдруг спрашивает:
– Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?
– Не знаю, – осторожно говорит Кузьма. – Это тебе самому надо решать…
– Ну да. Я знаю, что самому. – Парень от волнения по-детски шмыгает носом. – Черт ее знает… – Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: – A-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет – на ней белый свет не сошелся. – Он хочет свести этот разговор к шутке: – А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.
Он признается:
– Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.