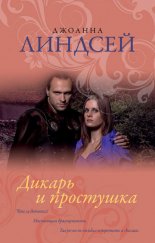Сын менестреля. Грейси Линдсей Кронин Арчибальд

Я как стоял, так и остался стоять, кипя от бешенства, а он как ни в чем не бывало снова углубился в изучение бумаг на письменном столе. Тогда я круто развернулся и поплелся обратно в свою келью. Теперь я чувствовал себя уже не маленьким Дэвидом, а одной из тех бутылок, что он успел отмыть только наполовину. Я решительно не мог осуществить свою угрозу, и Потрошитель это прекрасно понимал. Как я буду выглядеть в глазах моей дорогой мамочки, если вернусь к ней в «Риц»? Нет, никогда, никогда! Я должен с честью выйти из положения. Во мне еще осталась какая-никакая сила духа. Слуга по-прежнему стоял рядом с чемоданом. Он знал, что я непременно вернусь.
– Сеньор, эта маленькая комната будет выглядеть лучше, гораздо лучше, если здесь прибраться.
Наши глаза встретились, и я понял его взгляд. И, воздав хвалу Господу за мой хороший испанский – факт, оставшийся неизвестным сидящему у себя в кабинете сукину сыну с садистскими наклонностями, – я спросил:
– Как тебя зовут?
– Мартес, сеньор.
Я достал из бумажника прекрасную новенькую, хрустящую банкноту достоинством пятьдесят песет и помахал ею у него перед носом. Я знал, что пятьдесят песет – для него целое состояние. Он знал это не хуже моего.
– Мартес, пригласи сюда приятеля, с мылом, ведром воды и подручными средствами для уборки. Достаньте чистое белье, чистые занавески, принесите ковер из другой комнаты. Сделайте так, чтобы тут все сияло и блестело, – и деньги твои.
Он поставил чемодан на пол и пулей выскочил из комнаты. Я дождался, пока он вернулся с другим слугой, которого Мартес представил мне как Хосе. С собой они принесли тряпки, щетки и ведра с водой. Пока я поднимался по лестнице, за моей спиной уже вовсю кипела работа.
Примерно с час я бродил по территории семинарии, и за это время успел обнаружить заброшенные теннисные корты, где оставили свои визитные карточки отбившиеся от стада коровы с соседних ферм, площадку с высокими стенами для игры в пелоту[16] и старое футбольное поле. Я заглянул в старинную церковь в испанском стиле и про себя отметил, что церковь в хорошем состоянии, очень красивая и благостная. Поскольку занятия еще не закончились, я не встретил ни одной живой души.
Наконец я вернулся в свою комнату. Двое слуг уже ждали меня снаружи и с готовностью проводили внутрь. Я был буквально ошеломлен тем, что им удалось сделать. Они оттерли и надраили мою каморку до блеска. На чисто вымытом оконце красовались новые льняные занавески, а на выложенном плиткой полу лежал симпатичный испанский коврик. И, как еще один дар из пустующей комнаты наверху, плетеное кресло с мягким сиденьем. Комод, теперь источающий приятный запах пчелиного воска, оказался антикварным, причем подлинным образчиком андалузского стиля. И в довершение всего, кровать починили и застелили свежим белоснежным постельным бельем.
Я бросил признательный взгляд на своих благодетелей, которые смотрели на меня с выжидательной улыбкой.
– Чудесная комната, сеньор. Здесь тихо, спокойно. А летом прохладно.
Я достал бумажник и извлек оттуда еще одну новехонькую банкноту в пятьдесят песет, полученную непосредственно из рук кассира в «Рице». Когда я вручил каждому по заветной бумажке, радости их не было границ.
– Сеньор, мы будем приходить так часто, как только сможем, чтобы здесь все блестело.
– Да будет так, Мартес и Хосе, ведь отныне вы мои друзья.
Когда они вышли, одарив меня напоследок признательными улыбками, я распаковал вещи и разложил их по ящикам, застеленным чистой бумагой, потом поставил на комод две небольшие фотографии, запихнул пустой чемодан под кровать и, с удовольствием оглядев напоследок комнату, вышел во двор, где нос к носу столкнулся со своим врагом.
– Что, пришлось потрудиться, Фицджеральд?
– Не больше, чем обычно, отец мой.
– А ну-ка давай пойдем посмотрим.
И он начал спускаться по лестнице. Из соображений благоразумия я решил за ним не ходить. Наконец, обследовав, вне всякого сомнения, все от и до, выдвинув ящики и потрогав мое нижнее белье, он с широкой улыбкой на губах вернулся ко мне:
– Мои поздравления, Фицджеральд! Ты прекрасно потрудился. Я от тебя такого не ожидал. – И с этими словами он с деланой сердечностью положил мне руку на плечо.
Я выскользнул из его неискренних объятий и посмотрел ему прямо в глаза:
– Вы ведь прекрасно знаете, что я палец о палец не ударил. Так что не старайтесь выставить меня лжецом. Что бы вы там обо мне ни думали, я никогда таковым не был, и вам не удастся заманить меня в эту ловушку.
Он долго молчал, а потом уже своим обычным голосом произнес:
– Неплохо, Фицджеральд. У меня еще есть шанс сделать из тебя миссионера. А теперь настало время нашего вкуснейшего второго завтрака. Пойдем, я покажу тебе трапезную.
Трапезная находилась в дальнем крыле нового здания. Это был большой зал с подиумом у одной стены и по меньшей мере двадцатью длинными узкими столами, расположенными чуть пониже, за которыми уже собрались для приема пищи мои будущие товарищи. Указав мне мое место в конце одного из столов, Хакетт уселся между двумя священниками в центре стола на подиуме. Потом была прочитана благодарственная молитва. Пока какой-то парень читал с аналоя отрывки из «Книги мучеников», начали разносить тарелки с едой, а это означало, что я смогу наконец-то поесть.
Увы, блюдо оказалось совершенно безвкусной ольей подридой, состоящей из риса и гороха и плавающих в мерзком вареве кусочков жесткой говядины, которую нужно было рубить топором. Я, давясь, впихнул в себя то, что лежало на моей тарелке, поскольку прекрасно понимал, что если не научусь хлебать эти помои, годные только для свиней, то рано или поздно просто-напросто умру с голода. Затем нам подали кислый козий сыр с ломтем хлеба, что на вкус было не так уж плохо, и напоследок по кружке какой-то черной бурды, замаскированной под кофе. В два глотка я выхлебал это пойло, которое хотя бы было горячим.
Между тем я внимательно рассматривал обитателей семинарии, большинство из которых не понравилось мне с первого взгляда. Причем особую неприязнь вызвал у меня сидевший во главе центрального стола здоровенный, уродливый туповатый детина, которого все звали Дафф. Что касается представителей духовенства, то только один, казалось, заметил мое присутствие. Это был похожий на большого ребенка человечек, румяный и седовласый, который непрерывно хмурился и морщился в мою сторону. Когда я поинтересовался у своего соседа, кто бы это мог быть, тот шепотом, поскольку за столом следовало соблюдать тишину, произнес:
– Отец Петитт, учитель музыки.
«Боже мой! – подумал я. – Это последняя капля». А потому, когда все поднялись, возблагодарив Господа, и отец Петитт вдруг принялся делать мне знаки, я быстро поднялся и, смешавшись с толпой, стал поспешно пробираться к своей келье. Я начал писать письмо в отведенный нам час отдыха, а закончил его уже вечером следующего дня, при свете свечи.
И поскольку я не могу подвергать сие послание опасности цензуры кровожадного Хакетта, то собираюсь вручить письмо своему маленькому испанскому другу, чтобы тот отправил его из деревни.
Дорогой Алек, прости меня за сей пространный и вымученный опус. Я просто хотел, чтобы ты знал, как я устроился и что ожидает меня, если я, конечно, выживу, ближайшие четыре года.
Передай мои наилучшие пожелания твоей дорогой матушке.
Нежно любящий тебя
Десмонд
P. S. Отрубленная рука в кабинете Хакетта, как оказалось, является реликвией. Она хранится в память об одном из выпускников семинарии, молодом священнике, изувеченном, а потом и убитом в Конго; его тело обнаружили бельгийские солдаты, которые и прислали сюда его руку. Так что ставлю Хакетту «отлично» за то, что бережет и почитает святыню.
Глава 2
Какой вывод можно было сделать из этого действительно пространного, сумбурного, но такого характерного для Десмонда письма? Я дал почитать его маме, которая обожала Десмонда и интересовалась его успехами на ниве служения Господу. Но мама только головой покачала:
– Бедный мальчик! Он никогда не сможет этого сделать.
Однако письма, которые затем начали систематически приходить, казалось, опровергали мамино пророчество. Безрадостные, жалобные, освещенные редкими искорками юмора или вспышками ярости против Хакетта, они были столь однообразными и столь недостойными Десмонда, что я их никому не показывал. По сравнению с событиями, ждавшими Десмонда впереди, то был самый унылый период его жизни. На ранних этапах его послушничества у Десмонда был один-единственный друг среди неотесанных парней – юноша с не менее тонкой душевной организацией, чем у него самого, которому здесь дали прозвище Полоумный. Именно с ним Десмонд проводил часы отдыха. Они играли в теннис допотопными ракетками и изношенными мячами на поле, усеянном высохшими на жарком солнце коровьими лепешками. А иногда они молча гуляли по старому аббатству, впитывая в себя красоту и спокойствие сей находящейся в пренебрежении части семинарии. В дождливые дни они прятались в библиотеке, где читали, конечно, не толстые тома «Книги мучеников», коими были заставлены все полки, но гораздо менее безгрешную литературу. Еще они сочиняли вдвоем достаточно грубые лимерики, посвященные Хакетту. Стишки эти, написанные левой рукой, потом разбрасывались в туалетах и в других общественных местах.
За исключением отца Петитта, остальные наставники из числа духовенства особо не жаловали Десмонда, так как он частенько оскорблял их в лучших чувствах, демонстрируя, что знает гораздо больше того, чему они пытались его научить. Но вот отец Петитт, пожилой, розовощекий, довольно застенчивый маленький человечек, который во время первой трапезы морщился и хмурился в сторону Десмонда, с самого начала был расположен к юноше, чей школьный отчет представлял первостепенный интерес для хормейстера, вынужденного блуждать в дебрях окружающего его музыкального невежества. И все же он и не решался предъявлять права на нечто большее. Отец Петитт играл на церковном органе, обучал желающих игре на фортепьяно или на скрипке, набрал в хор нужное количество певчих, способных исполнять церковные гимны, литании и григорианские хоралы, но при этом старательно следил за тем, чтобы песнопения не переросли в заунывный вой. Как отец Петитт попал в семинарию, можно было только гадать, поскольку он был не только не слишком разговорчив, но и болезненно застенчив. Любой заданный в лоб вопрос вгонял его в краску. Он, вне всякого сомнения, был с раннего детства очень музыкален и уже в подростковом возрасте играл в оркестрах центральных графств Англии, причем играл на флейте, что вполне соответствовало его характеру. Как и почему он внезапно решил учиться на священника – тайна, покрытая мраком. Отец Петитт упорно молчал и о том, что заставляло его перекочевать из одного прихода, куда он был назначен после рукоположения, в другой. Святой отец был не создан для успеха, даже в деле служения Господу, но его музыкальные знания были всегда при нем, и он счел Божьей благодатью то, что в конце концов оказался в семинарии Святого Симеона. Здесь он был любим всеми, и особенно отцом настоятелем, который явно покровительствовал «маленькому собрату».
Вскоре после их первой встречи отец Петитт все же ненавязчиво завлек Десмонда в музыкальную комнату – усиленное стропилами длинное помещение, расположенное над крытой галереей старого аббатства, подальше от бетонных строений и вообще от всех режущих глаз видов и режущих слух звуков.
– Присаживайся, Десмонд, и позволь мне с тобой побеседовать.
Когда они сели на потертый диван возле пианино, маленький священник, страшно волнуясь и тяжело дыша, что не ускользнуло от внимания Десмонда, заговорил:
– Мой дорогой Десмонд, в отчете из школы Святого Игнатия сказано, что, помимо прочих достоинств, ты обладаешь исключительными вокальными данными. Когда я прочел эти строки, то задрожал, не в силах побороть волнение от предвкушения чуда. Но тебе нечего бояться. – Священник ласково положил руку на плечо Десмонда. – Никакие силы в мире не заставят меня бросить тебя на растерзание бесталанному сброду, что воет в церкви и способен исполнять исключительно церковные гимны и простейшие произведения Баха и Гайдна, которые я в него вдолбил. Нет, мой дорогой Десмонд. У меня есть мечта, которую я лелею уже очень давно, – дрожащим голосом произнес отец Петитт. – Возможность, мечта, словом, проект, который я вынашиваю в течение многих потраченных впустую лет. – Он вздохнул и после небольшой паузы сказал: – Но, прежде чем продолжить, я хочу попросить тебя о небольшом одолжении. Не мог бы ты спеть для меня?
Слова «маленького собрата» заинтриговали Десмонда.
– Что вам исполнить, отец мой?
– Ты знаешь «Аве Мария» Шуберта?
– Конечно, отец мой.
– Сложная вещь. – Отец Петитт кивнул в сторону пианино и спросил: – Хочешь, чтобы я тебе аккомпанировал?
– Вовсе не обязательно. Благодарю вас, отец мой.
Десмонд любил этот церковный гимн, а потому пел с радостью и наслаждением.
Закончив, он бросил взгляд в сторону отца Петитта. Крошечный человечек сидел, закрыв глаза, его губы шевелись в беззвучной молитве. Наконец он открыл увлажнившиеся глаза и, пригласив юношу сесть рядом, произнес:
– Мой дорогой Десмонд, я благодарил милосердного Господа нашего Иисуса Христа за то, что Он внял моим молитвам, которые я посылал Ему более трех лет. Послушай, что я тебе скажу. Кстати, ты не возражаешь, чтобы я называл тебя Десмонд?
– Мне будет только приятно, отец мой.
С тех пор как Десмонд попал в семинарию, к нему впервые обращались по имени. И в течение десяти минут он, затаив дыхание, внимал откровениям отца Петитта. После того как священник выговорился, в помещении воцарилось долгое молчание. Затем отец Петитт спросил:
– Ну что, Десмонд, согласен попытаться?
– Если вы считаете, что стоит, святой отец.
– Я верю, что это шанс, дарованный тебе Господом, и ты не должен его упустить.
– Тогда я попытаюсь.
И они обменялись рукопожатием.
– Думаю, ты будешь приходить сюда в свободное время после полудня дважды в неделю, скажем, по вторникам и пятницам, с трех до пяти. Мы будем беседовать и работать, да-да, работать в поте лица, – улыбнулся маленький человечек. – А чтобы ты мог отдохнуть, я буду играть тебе Бетховена или кого-нибудь другого. Словом, все, что пожелаешь. Я распоряжусь, чтобы в конце занятий нам приносили легкие закуски. Сегодня я этого не сделал, так как не был уверен, что ты согласишься.
И аскетичная, полная ограничений семинарская жизнь повернулась для Десмонда новой, более привлекательной стороной. У него появились возможность расслабиться, которую он всегда ценил очень высоко, и цель, практически недостижимая, но будоражившая кровь, когда время от времени он представлял себя в роли победителя и тихо шептал, смакуя каждое слово: «Золотой потир».
Итак, занятия по вторникам и пятницам начались и продолжались с завидной регулярностью. При всей любви к пению, у Десмонда никогда не было педагога, он пел, как умел, и техника пения у него, естественно, хромала. Маленький отец Петитт разучивал с ним очень сложные произведения, не уставая его критиковать.
– Десмонд, не тяни последнюю ноту так, будто она тебе настолько нравится, что ты боишься ее отпустить. Пошлый и слишком уж сентиментальный трюк. Повтори этот пассаж, там у тебя было легкое вибрато. Бойся вибрато, как смертного греха. Оно погубило немало хороших теноров. Не нажимай на высокие ноты для пущего эффекта, чтобы они замирали вдали, словно лягушка, из которой выпустили воздух. А теперь, Десмонд, скажи, какую песню ты выберешь для соревнования. Ведь именно от выбора музыкального произведения зависят оценки судей.
На обдумывание у Десмонда ушло меньше минуты.
– Я хотел бы исполнить арию Вальтера «Розовым утром алел белый свет» из «Мейстерзингеров» Вагнера, – сказал Десмонд и, чуть подумав, добавил: – Вагнер не самый мой любимый композитор, но эта песня прекрасна. Она не только вдохновляет, но и уносит ввысь, к вершинам успеха, а это именно то, что нам нужно.
– Да, великолепная ария, – кивнул Петитт. – Но слишком длинная и сложная для исполнения. Ну-с, посмотрим, на что ты способен.
По определенным дням Десмонду петь не дозволялось: он просто отдыхал на диване, в то время как «маленький собрат», подложив на табурет подушечку, сидел за пианино и играл те произведения Брамса, Листа, Шуберта и Моцарта, которые Десмонд особенно любил.
Ровно без четверти пять обычно приходил Мартес и приносил с собой что-нибудь такое, что готовилось специально для стола священников. Нередко Мартес приходил пораньше и слушал, стоя за дверью. Отец Петитт доставал откуда-то из буфета чайник и спиртовку и заваривал чай.
Такая нежданно-негаданно свалившаяся на него возможность отдохнуть от суровых семинарских будней, которая так соответствовала его вкусам и характеру, несомненно, помогла Десмонду не сломаться и не свернуть с пути, предначертанного ему свыше. Десмонд нередко возвращался к этой теме в своих письмах, рассказывая, как потихоньку, шаг за шагом, добился права пользоваться музыкальной комнатой по своему усмотрению и приходить туда всякий раз, когда у него появлялась возможность вырваться из семинарской рутины. Письма он теперь писал, находясь в блаженном уединении, а еще он любил поваляться с полчаса на стареньком диване, чтобы передохнуть перед работой и переварить несъедобный второй завтрак. В ящике под сиденьем высокого табурета, стоящего у пианино, Десмонд обнаружил целую кипу нот произведений немецких композиторов. Он играл и пел отрывки из них до тех пор, пока не научился читать ноты с листа. Десмонд даже выучил наизусть некоторые вещи полегче. Особенно ему пришлись по сердцу две песни Шуберта: «Der Lindenbaum» и «Frhlingstraum», а еще сладкая любовная песня Шумана «Wenn ich in deiner Augen seh». В его репертуаре была и серьезная музыка, например «Der Tod das ist die khle Nacht» Брамса и, как ни странно, отрывки из оратории Генделя «Мессия», исполняемые на английском языке, особенно берущая за душу ария «А я знаю Искупитель мой жив».
В один прекрасный день, когда Десмонд, вкладывая в пение всю душу, исполнял свою любимую арию «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» из «Мессии» Генделя, дверь в комнату неожиданно открылась. Обернувшись, он увидел крупную фигуру грозного Хакетта, почувствовал на своем плече огромную, но вполне дружелюбную руку и услышал не лающий, а непривычно мягкий голос отца настоятеля:
– Это было поистине прекрасно, Фицджеральд. Я, конечно, не специалист, но истинный талант распознать могу. Продолжай, продолжай в том же духе и завоюй во славу нашей семинарии Золотой потир. – И, сделав паузу, отец Хакетт продолжил: – Кстати, не желаешь ли сменить свою комнату на спальню попросторнее на верхнем этаже?
– Благодарю вас, святой отец, но нет. Меня вполне устраивает моя келья.
– Хороший ответ, Фицджеральд. Возможно, я все же сумею сделать из тебя мученика, – улыбнулся, да-да, улыбнулся, Хакетт и вышел из комнаты.
Десмонд, не жалея легких, запел осанну и с грохотом спустился по лестнице. Все, теперь можно не таиться. Он получил официальное одобрение, даже благословение. Музыкальная комната в его полном распоряжении.
После того как Хакетт проявил к нему такую неожиданную доброту, неприязнь Десмонда к бывшему врагу несколько поубавилась. И все же он не мог до конца принять, что при обучении в семинарии основной упор делался на подготовку к миссионерской деятельности, причем именно миссионерство чаще всего становилось темой коротких, но ярких проповедей отца Хакетта.
Одна утренняя воскресная проповедь произвела на Десмонда особенно сильное впечатление. Отец Хакетт начал ненавязчиво восхвалять достоинства и необходимость миссионерского служения во исполнение повеления Христа: «Итак, идите, научите все народы» (Евангелие от Матфея, 28: 19), а также слов святого Павла: «И горе мне, если я не благовествую» (Послание к Коринфянам, 9: 16). Отец настоятель заявил, что Иисус Христос неоднократно подчеркивал евангельскую миссию Церкви, необходимость благовествовать о Христе и нести слово Божье в народ.
– Католическая церковь по сути своей является миссионерской, – вещал Хакетт. – Повинуясь воле Иисуса Христа, необходимо оказывать моральное воздействие на общество для достижения социальной справедливости, строительства школ, больниц, бесплатных амбулаторий для нищих, невежественных и угнетенных.
Затем отец настоятель принялся перечислять великих людей, прославивших себя на ниве миссионерской деятельности, – предмет, наиболее близкий и дорогой его сердцу. Начал он со святого апостола Павла, который нес христианство язычникам, святого апостола Иакова-старшего в Испании, святого апостола Фомы, обращавших в христианство индусов Малабарского берега. А потом перешел к святому Мартину, епископу Турскому во Франции, святому Патрику и святому Колумбану в Ирландии, святому Августину, ставшему в 597 году первым архиепископом Кентерберийским.
Отец Хакетт сделал особый акцент на деятельности великих миссионеров-иезуитов, рассказав о деятельности миссионера-иезуита итальянца Маттео Риччи, который в начале XVI века добился больших успехов в Китае благодаря глубокому знанию китайского языка и культуры страны. Он подарил императору Ваньли механические часы и спинет, тем самым добившись его благосклонности и получив возможность учить и проповедовать. А в Индии иезуит Роберто де Нобили, переняв образ жизни брахманов, превзошел их в аскетизме и обратил в свою веру тысячи и тысячи человек, принадлежащих к высшим слоям общества.
– Но разве можно хотя бы на минуту себе представить, – продолжал Хакетт, – что вся эта грандиозная работа была бы сделана без самопожертвования, величайшего самопожертвования. Так, за один год только в Конго во время исполнения священной миссии было жесточайшим образом умерщвлено сто шесть священников, двадцать четыре брата и тридцать шесть сестер. – Тут отец настоятель сделал паузу и дрогнувшим голосом произнес: – И выпускник нашей семинарии – один из многих миссионеров, которых мы из года в год посылали во все концы света, – благороднейший и достойнейший юноша, отец Стивен Риджуэй, во время выполнения им высокой миссии нести слово Божье в диких и неосвоенных джунглях Верхнего Конго был зверски убит, а потом расчленен. Вы все прекрасно знаете о священной реликвии, обнаруженной бельгийскими солдатами и присланной нам бельгийскими отцами из Кинду. Я говорю о кисти руки этого мужественного и благородного юноши, которая была отрублена одним ударом ножа дикаря и каким-то чудесным образом, повторяю, чудесным образом сохранилась и даже не разложилась, словно до сих пор является живой частью живого тела нашего Стивена. Вы все видели сию реликвию, которую мы выставляем для поклонения во время торжественной мессы в память годовщины принятия Стивеном мученической смерти. Она наша величайшая ценность и будет представлена во всей своей чудесной нетленности, когда я подам прошение о канонизации этого святого юноши, который является гордостью нашей семинарии и служит образцом для подражания, стимулом и побудительным мотивом для каждого из присутствующих здесь. И как возрадуются Небеса и я, смиренный защитник миссионерской жизни, если, помимо этих отважных добрых душ, что уже выбрали сию via dolorosa[17], среди вас найдутся другие, которые скажут мне: «Я тоже внял посланию, нет, повелению Господа нашего Иисуса Христа: „Итак, идите, научите все народы“»[18]. – И после небольшой паузы отец Хакетт продолжил: – А теперь встанем и споем хором замечательный гимн «Вперед, Христовы воины!»
Отношение отца Хакетта к послушнику, которого он поначалу так сурово принял, несомненно, улучшилось. И тем не менее Десмонд не мог должным образом ответить на усилия отца настоятеля пойти на сближение. Его постоянно грызла одна мучительная мысль, а потому как-то раз, после очередной страстной проповеди отца настоятеля, придя в музыкальную комнату, он не выдержал и спросил своего наставника:
– Вам не кажется, что зацикленность отца Хакетта на миссионерстве выглядит как-то дешево? Если он так уж серьезно относится к данному вопросу, то почему бы ему вместо того, чтобы призывать нас к мученичеству, не попробовать испытать это на себе?
От неожиданности маленький отец Петитт даже выронил ноты, которые держал в руках. Бросив на Десмонда строгий взгляд, он сказал:
– В высшей степени жестокое и неуместное замечание!
– Но разве это не так?
Отец Петитт снова с удивлением сердито посмотрел на Десмонда:
– Неужели ты не знаешь, что отец настоятель посвятил двенадцать лет жизни миссионерской деятельности? Сразу же после рукоположения он отправился в Индию, чтобы работать среди неприкасаемых, представителей низшей и самой презренной касты. Он собственными руками построил амбулаторию, потом – небольшую школу, начал одевать и учить голодных, оборванных ребятишек, обитавших на самом дне Мадраса. Он донимал своих друзей на родине просьбами выслать денег, чтобы одеть и накормить сирых и убогих детей, научить их катехизису, сделать из них примерных христиан. При этом сам он жил в беднейшем районе города, где холера была, можно сказать, эндемическим заболеванием. И естественно, поскольку он, не щадя живота своего, выхаживал больных, то заразился холерой, но справился со страшным недугом и по состоянию здоровья был отправлен домой. В его отсутствие молодой американский священник продолжил сие доброе дело, а когда отец Хакетт вернулся, то присоединился к нему. Работая рука об руку, они творили чудеса, но тут желтая лихорадка поразила провинцию в глубине страны. Тогда, оставив миссию в Мадрасе на попечение своего товарища, отец Хакетт отправился в очаг эпидемии. В течение шести недель он самоотверженно ухаживал за больными и умирающими, но коварная болезнь не пощадила и его. Он чудом выжил, но настолько ослаб и обессилел, что его отправили на родину, навсегда запретив возвращаться в Индию. И поскольку по состоянию здоровья ему необходимо было жить в теплом климате, он получил эту – относительно легкую – должность в Испании.
Отец Петитт закончил свое повествование, и в комнате воцарилась тишина. Десмонд сидел не шелохнувшись, а на его лице появилось какое-то странное выражение. Неожиданно он резко вскочил на ноги:
– Извините меня, святой отец. Мне надо вас оставить. – И с этими словами Десмонд опрометью выбежал из комнаты.
Возможно, маленький отец Петитт догадался о причине столь внезапного исчезновения Десмонда и предвидел его скорое возвращение. Он подошел к пианино и взял первые аккорды своей любимой «Аве Мария».
Когда Десмонд и в самом деле вернулся, отец Петитт не прекратил играть, но, внимательно посмотрев на своего ученика, лукаво прошептал:
– Ты выглядишь счастливым. Что, очистил душу?
– И получил прощение от священника, достойного быть причисленным к лику святых, – смиренно произнес Десмонд.
Глава 3
Теперь жизнь Десмонда в семинарии текла спокойно и гладко, поскольку его божественный голос служил ему защитой от всех невзгод и напастей. Избалованный в еде, он даже смирился с безвкусной бурдой, которую здесь подавали, поскольку теперь их рацион милосердно разрешили разнообразить фруктами, в основном персиками, из близлежащих садов. У Десмонда сложились на удивление хорошие отношения с отцом настоятелем, который вдруг обнаружил у странного послушника достоинства, доселе остававшиеся сокрытыми.
Теперь письма от Десмонда приходили достаточно редко, в них не было прежнего надрыва; скорее, наоборот, каждая строчка дышала надеждой и преданностью, а еще энтузиазмом, который с течением времени только усиливался. Да, это вполне можно было бы назвать энтузиазмом, конечно, с учетом того обстоятельства, что жесткая дисциплина, царящая в семинарии, обуздывала его природную несдержанность.
Во время последующего периода обучения, достаточно продолжительного, но складывающегося весьма благоприятно, Десмонд благополучно прошел различные этапы послушничества, став последовательно иподиаконом и диаконом. И как отрадно было сознавать это его матери, которой не терпелось увидеть своего сына в облачении священника.
Один раз в две-три недели миссис Фицджеральд приглашала нас с мамой на воскресный ланч. Разговор, естественно, в основном крутился вокруг Десмонда. Миссис Фицджеральд была уже совсем плоха и жила исключительно предвкушением великого события, но я сомневался, что ей удастся дотянуть до дня рукоположения Десмонда. Я уже был почти что дипломированным врачом – оставалось сдать последние экзамены, – и симптомы ее заболевания: сердечная недостаточность, нездоровая бледность, одышка, отечность щиколоток – были мне совершенно ясны. Последние сомнения в ее диагнозе развеялись, когда она показала мне рецепт на лекарство, прописанное ей доктором: таблетки дигоксина. Так как теперь я работал врачом-стажером у сэра Джеймса Маккензи и жил на полном пансионе при Западном лазарете, то мог снять с маминых хрупких плеч часть денежных забот. Рассчитывая в скором времени компенсировать ей все лишения, я уговорил ее подать в муниципалитет Уинтона прошение об отставке с тем, чтобы она могла наконец уйти с работы, которая столько трудных лет позволяла нам держаться на плаву.
Вот такая спокойная и безмятежная жизнь продолжалась как у меня, так и у Десмонда еще несколько месяцев, пока неожиданно, словно гром среди ясного неба, не пришло письмо со знакомой испанской маркой. Письмо было длинным, написано явно впопыхах, и я, даже не распечатав его, сразу почувствовал недоброе.
Мой дорогой Алек!
Случилось страшное. Я погружен в бездну отчаяния, повергнут в уныние, унижен, оскорблен, втоптан в грязь. Меня чуть было не исключили из семинарии, моя карьера священника поставлена под угрозу, причем все это, повторяю, все, если судить непредвзято и быть до конца откровенным, произошло по моей собственной вине. И только сейчас я могу уже приподнять голову и, взывая к твоему сочувствию, подробно описать обстоятельства дела.
Кажется, в предыдущих письмах я уже упоминал о том, что единственным послаблением в нашем строгом режиме была возможность раз в неделю, по четвергам, ходить после обеда в город, причем без сопровождения наставников, чтобы купить фрукты или другие дозволенные продукты у многочисленных торговцев, у которых семинаристы были основными покупателями. При этом нам никогда не разрешали отсутствовать больше часа.
Трудно выразить словами, с каким нетерпением мы ждали такой возможности не только ненадолго отдохнуть от суровых семинарских будней, не только прикоснуться к живому биению жизни, но и купить чудесных фруктов всего за пару песет. А что еще интересного, помимо лавок, может быть в типичном маленьком испанском городке с одной-единственной пыльной улочкой, извивающейся между нагретыми солнцем белыми домишками, перед которыми сидят, занимаясь шитьем или сплетничая, одетые во все черное старые женщины? Темные узкие проходы вели в темные маленькие лавчонки, где ввиду близости семинарии продавали также мыло, зубную пасту и зубные щетки, самые простые лекарства, почтовые открытки и даже конфеты. И специально для семинаристов на прилавки выкладывали сезонные фрукты: виноград, апельсины из Малаги и персики.
Персики – это моя слабость. Впрочем, не только моя, но и остальных послушников тоже. А потому у въезда в городок нас всегда встречала молодая женщина, если точнее, девушка, которая, чтобы опередить других торговцев, выходила нам навстречу с большой плоской корзиной на плече, наполненной сочными свежими фруктами. В интересах своего бизнеса она завязала с нами дружеские отношения, и у нас уже вошло в привычку ненадолго останавливаться, чтобы поболтать с ней, а заодно и попрактиковаться в испанском.
И вот в один злосчастный четверг меня задержал отец Петитт, мой замечательный учитель музыки, которого чрезвычайно взволновало долгожданное известие из Рима насчет предстоящего конкурса. Вот почему я позже других вышел из ворот семинарии, а когда, запыхавшись, присоединился к товарищам, то, к своему немалому огорчению, обнаружил, что персики закончились.
– Ох, дорогая Катерина, ты мне ничего не оставила!
Она покачала головой и улыбнулась, показав чудесные белые зубки:
– Ты опоздал, мой милый маленький священник, а на свидания с дамой опаздывать нельзя!
Мои товарищи и особенно Дафф, костлявый юнец из Абердина, который меня явно недолюбливал, с нескрываемым интересом следили за тем, как мне удастся выпутаться из щекотливой ситуации.
– Я весьма огорчен, так как считал себя твоим любимым покупателем.
– Итак, ты огорчен, по-настоящему огорчен.
– Да, по-настоящему огорчен.
– Тогда улыбнись скорее своей прекрасной улыбкой! – И к моему величайшему изумлению и удовольствию, она достала из-за спины два больших и сочных персика, каких мне еще не доводилось видеть.
Смешки и гогот вокруг нас немедленно стихли, когда, повесив корзину на плечо, она подошла ко мне, держа в каждой руке по персику.
– Неужто ты хоть на секунду мог подумать, что я способна о тебе забыть? На, бери. Это тебе.
Я полез в карман за деньгами и, к своему ужасу, обнаружил, что карман пуст. Второпях я забыл взять кошелек. Мое огорчение не осталось незамеченным не только для зрителей, но и для Катерины, когда я, запинаясь, промямлил:
– Сожалею, но я не могу заплатить тебе.
Она подошла ко мне совсем близко, продолжая лукаво улыбаться:
– Так у тебя нет денег? Я рада. Тогда ты должен заплатить мне поцелуем.
И она, пока я стоял в растерянности, вложила мне в руки по персику и сжала меня в страстных – здесь двух мнений быть не могло – объятиях, прижалась губами к моему рту, при этом нашептывая мне на ухо:
– Приходи в любой вечер после шести, мой милый маленький попик. Калье де лос Пинас, семнадцать. Для тебя это будет бесплатно.
Когда она наконец разжала объятия и посмотрела на меня блестящими карими глазами все с той же призывной улыбкой на губах, воцарившуюся вокруг гробовую тишину нарушил тощий абердинец:
– Хватит, парни! Все, пошли дальше.
Я последовал за ними в состоянии какой-то странной эйфории. Это сладостное объятие, эти пахнущие персиками руки полностью выбили меня из колеи, лишив самообладания. Плетясь в хвосте процессии семинаристов, я с трудом привел в порядок находящиеся в полном смятении чувства и вернул себя к жизни только после того, как съел оба восхитительных плода.
Даже на обратном пути в семинарию никто не сказал мне ни слова. Я, будучи без вины виноватым, превратился в парию.
На следующее утро возникшая напряженность как будто ослабла, но в одиннадцать часов я получил приказ явиться в кабинет к отцу настоятелю. Я подчинился, ощущая смутную тревогу в груди, и мое беспокойство еще более усилилось, когда, войдя в комнату, я увидел у окна высокую тощую фигуру Даффа.
– Фицджеральд, против тебя выдвинуто весьма серьезное обвинение, – с места в карьер начал сидевший за письменным столом отец настоятель и, поскольку я упорно молчал, продолжил: – В том, что ты обнимал эту девицу Катерину и, более того, вступил с ней в распутную связь.
Я был настолько ошеломлен, что кровь бросилась мне в голову. Я посмотрел в сторону ангела мщения у окна. Он старательно избегал моего взгляда.
– Кто выдвинул такие обвинения? Слива Дафф?
– Фицджеральд, его зовут Дафф. Он был свидетелем того, как ты обнимал ту девицу Катерину. Ты что, будешь отрицать?
– Целиком и полностью. Это не я, а она обнимала меня.
– И ты не противился?
– У меня не было возможности. В каждой руке у меня было по крупному спелому персику.
– Но ведь именно она дала тебе персики. Причем не потребовав оплаты. Разве такое не подразумевает близкие отношения?
– Она просто веселая девчонка, которая со всеми дружит. Мы все были ее постоянными покупателями, так что в каком-то смысле и остальные были с ней в близких отношениях. Мы все шутили и смеялись вместе с ней.
– Только не я! – донесся замогильный голос со стороны окна. – Я сразу понял, падре, что она шлюха.
– Помолчи, Сл… Дафф! Из всех остальных она выбрала именно тебя и с тобой на самом деле была особенно близка. Причем настолько, что назначила тебе свидание на сегодняшний вечер. И ты сказал: «хорошо».
Я уже был вне себя от ярости.
– Никогда, слышите, никогда я не мог бы позволить себе такое вульгарное и пошлое выражение! Кто посмел меня в этом обвинить?
– У Даффа острый слух.
– Но слишком большие уши.
Проигнорировав мое замечание, отец настоятель снова бросился в атаку:
– Я навел справки. Эта Катерина Менотти, хотя формально и не является проституткой, официально признана fille de joie[19].
– Вот-вот, ваше преподобие, и я о том же. Она ему и адрес дала.
– Молчать, ты, неслух шотландский! – То, что Дафф вызывал у отца настоятеля явное раздражение, несколько воодушевило меня, но тут Хакетт продолжил: – Ты отрицаешь, что когда-либо навещал ее по данному адресу?
– Если я уже навещал ее, то с чего бы ей тогда давать мне свой адрес? Ведь в этом случае я наверняка должен был бы его знать.
Отец настоятель вопросительно посмотрел на Даффа, который немедленно выпалил:
– А может, она сказала, чтобы напомнить, если он, паче чаяния, запамятовал!
После такого смелого предположения в комнате стало тихо и повеяло ледяным холодом. Затем отец настоятель нарушил молчание:
– Ты можешь идти, Дафф.
– Уверяю вас, ваше преподобие, что довел это до вашего сведения исключительно из высочайших соображений морали и для сохранения доброго имени нашей школы, а еще потому, что я нисколечко не верю, будто Фицджеральд…
– Немедленно вон, Дафф! В противном случае я буду вынужден наказать тебя, причем с показательной суровостью.
Когда Дафф, тряся головой, все же убрался, отец настоятель долго молчал, задумчиво изучая меня. Наконец он заговорил:
– Фицджеральд, я ни секунды не сомневаюсь, что ты не посещал тот дом и не вступал в плотские отношения с той девицей. В противном случае тебе пришлось бы уже сегодня днем покинуть семинарию. И тем не менее ты дал повод заподозрить тебя в неподобающем поведении, пятнающем позором и бросающем тень на наше учебное заведение. А потому мне необходимо посоветоваться с коллегами относительно того, какой приговор тебе вынести. А пока – вне зависимости от того, покидаешь ты семинарию или нет, – я хочу дать тебе хороший совет. Ты, бесспорно, обладаешь необычайной притягательностью для противоположного пола. Так что будь начеку и опасайся любого рода заигрываний. Старайся контролировать свои эмоции. Веди себя отстраненно, сдержанно, сохраняй хладнокровие, чтобы суметь распознать опасность уже в зародыше и тотчас же устранить ее. Если послушаешь меня, то избежишь многих печалей и многих бедствий. А теперь можешь идти. О своей участи ты узнаешь завтра днем. Ступай в церковь и молись о том, чтобы мне не пришлось исключить тебя.
Я молча кивнул и, покинув кабинет отца настоятеля, направился прямо в церковь, где принялся истово молиться. Я прекрасно знал, каким суровым способен быть Хакетт, ведь всего несколько месяцев назад он исключил молодого послушника лишь за то, что юноша затянулся окурком сигары. Будучи уже единожды предупрежден, послушник нарушил приказ. И этого оказалось достаточно.
На следующий день я мучился неизвестностью до самого вечера. Наконец в пять часов ко мне подошел наш добрейший хормейстер отец Петитт и обнял меня за плечи:
– Меня делегировали сообщить тебе, Десмонд, что тебя оставляют. Тебе запрещено покидать пределы семинарии до конца семестра, но, хвала Господу, ты спасен не только для священства, но, – улыбнулся отец Петитт, – и для предстоящего нам в следующем месяце набега на Рим. – И, остановив взмахом руки поток моих благодарностей, он продолжил: – Да, ты можешь быть мне благодарен. Думаю, мне удалось перевесить чашу весов в твою пользу. Такой голос, как у тебя, встречается только раз в сто лет, и то не всегда.
Итак, мой дорогой Алек, ты получил почти стенографический отчет о тяжелых испытаниях и горестях, выпавших на долю твоего нежно любящего тебя друга. С нетерпением жду весточки от тебя. Пиши мне сразу, как узнаешь результаты своих выпускных экзаменов. Ты, наверное, не знаешь, но я часто представляю себе, как ты усердно трудишься в своей маленькой пустой комнате. А я в свою очередь обязуюсь подробно, ничего не скрывая, доложить о предполагаемой поездке в Рим.
Искренне преданный тебе
Десмонд
Глава 4
Итак, сдав экзамен на бакалавра в области медицины и бакалавра в области хирургии, я принял на себя обязанности временного заместителя партнера, уехавшего на неопределенное время доктора Кинлоха, пожилого и всеми уважаемого врача общей практики в Уинтоне. И хотя я стремился совсем к другому и вовсе не собирался останавливаться на степени бакалавра, эта временная должность дала мне возможность оставаться рядом с мамой, а мой гонорар в сорок фунтов позволил ей бросить работу в трущобах и скинуть с плеч тяжкий груз, который она безропотно несла столько лет.
В следующий раз я заехал к миссис Фицджеральд уже не в качестве гостя, а для выполнения своих профессиональных обязанностей. Я был серьезно обеспокоен резким ухудшением состояния ее здоровья, и когда она позволила себя осмотреть, то сомнений в диагнозе у меня уже не оставалось. Острый стеноз митрального клапана, с частичной закупоркой коронарной артерии. Я уговорил миссис Фицджеральд пригласить для консультации доктора Кинлоха. Доктор подтвердил первоначальный диагноз, и хотя, выписывая назначения, он старался всячески ободрить пациентку, его прогноз оказался еще более мрачным: она должна соблюдать постельный режим до тех пор, пока не пройдут отеки. Но когда мы возвращались домой в его маленьком кабриолете, доктор Кинлох сказал:
– С таким сердцем она может уйти в любую минуту.
Мечтой всей ее жизни было увидеть своего возлюбленного сына рукоположенным в сан служителя Божьего. И вот сейчас надо было сообщить миссис Фицджеральд, что в ее теперешнем состоянии ей просто не доехать до Рима. Я был не в силах нанести ей столь сокрушительный удар, и моя мама, которая благодаря появившемуся у нее свободному времени могла навещать свою подругу каждый день, а кроме того, обладала изрядной толикой житейской мудрости, уговорила меня хотя бы месяц повременить с дурными вестями.
И вот случилось так, что мать Десмонда, однажды вечером легла спать, рисуя в голове яркие картины блестящего будущего сына, заснула и уж более не проснулась, а следовательно, не столкнулась с ужасной действительностью, полной отчаяния и разочарования. Она ушла из жизни с миром и не чувствуя боли.
Десмонд, которого немедленно известили телеграммой, приехал за день до похорон. Он был печален, но вел себя сдержанно, без аффектированных проявлений скорби, которых можно было от него ожидать. Я заметил, насколько он изменился. Пять лет учебы в семинарии не прошли для него бесследно, научив хладнокровию и выдержке. Моя мама резюмировала это следующим образом: «Десмонд наконец повзрослел».
Даже стоя у края свежевырытой могилы, он держался очень хорошо, хотя по его щекам все же текли слезы, и слезы горькие. Поскольку из семинарии его отпустили всего на три дня, сразу же после похорон он встретился с адвокатом. Ежегодная рента прекратила свое существование одновременно с миссис Фицджеральд, которая, однако, сумела сберечь для Десмонда более трех тысяч фунтов. Кроме того, он должен был получить деньги от переуступки прав на аренду дома. Многие вещи из ее прекрасного гардероба, включая меховое манто и новенький с иголочки костюм, несомненно предназначавшиеся для церемонии рукоположения, она завещала моей маме, как и некоторые наиболее ценные предметы обстановки, – драгоценные дары, вызвавшие слезы на глазах у их получательницы. И хотя лично я ни на что не рассчитывал, миссис Фицджеральд завещала мне сто фунтов.
Поезд Десмонда отходил только в полночь, а потому сразу после вечернего приема больных я пришел к своему старому другу, и мы молча сидели в притихшем доме, чувствуя такую близость, будто и не расставались вовсе.
И вполне естественно, что Десмонд снова заговорил о матери, хотя в конце разговора не смог удержаться от того, чтобы не изречь банальной истины:
– Скажи, разве не удивительно, сколько хорошего может сделать мужчине хорошая женщина?
– И сколько плохого, причем очень плохого тоже. Оглянись, кругом полным-полно таких.
– Алек, ты у нас реалист, – улыбнулся Десмонд. – Степень ты уже получил. Что собираешься делать теперь?
Я объяснил ему, что это всего лишь первая ступень и я собираюсь писать докторскую диссертацию, а потом попытаюсь получить звание члена Королевского колледжа врачей.
– Впрочем, задачка не каждому по зубам. Дело чрезвычайно непростое.
– Алек, ты непременно справишься.
– Десмонд, а как ты представляешь себе свое будущее?
– Не так ясно, как твое. Буквально через несколько недель меня посвятят в духовный сан, а поскольку начальство не всегда было мной довольно, то у меня нехорошее предчувствие, что в наказание мне дадут самый захудалый приход, скорее всего, в Ирландии, где я родился.
– Но тебя подобная перспектива не устраивает.
– Не устраивает, хотя это может пойти мне на пользу. Мои взгляды немало изменились, в частности, благодаря трогательной заботе добрейшего отца Хакетта. – И, поймав мой удивленный взгляд, он продолжил: – Алек, этот Хакетт – чрезвычайно странный парень. Ведь поначалу я всеми печенками его ненавидел, а он в свою очередь всячески демонстрировал мне свою неприязнь. Я считал его грубияном и садистом. Но на самом деле он просто фанатик. Он одержим идеей миссионерства. Он хотел бы вместе с выпускниками возглавляемой им семинарии нести слово Божье дикарям. Я считал его помешанным. Но теперь уже нет. Он напоминает мне одного из апостолов – возможно, Павла. И теперь я люблю и уважаю его. На самом деле он меня покорил.
– Ты что, видишь себя вторым святым Патриком?
– Не смейся, Алек! – вспыхнул Десмонд. – Нам не дано знать, что ждет нас впереди. Ведь и ты можешь ни с того ни с сего бросить медицину и сделаться писателем. А я в один прекрасный день могу отойти в мир иной где-нибудь в тропических джунглях. – При этих словах я не выдержал и громко расхохотался, а Десмонд тут же ко мне присоединился, но потом, снова став серьезным, продолжил: – Так или иначе, теперь я понимаю и уважаю Хакетта и хочу отплатить ему добром за добро. В Риме должен состояться конкурс под эгидой Римского музыкального общества при поддержке Ватикана с участием молодых, недавно рукоположенных священников или послушников, которых должны посвятить в духовный сан. Основная идея конкурса – поощрять использование вокальных данных во время пения мессы, литании и так далее. Воистину благородная идея и название носит не менее благородное – Золотой потир. И отец Хакетт хочет, чтобы я поборолся за приз. – И после непродолжительной паузы Десмонд добавил: – Мы ведь совсем небольшая семинария в Торрихосе, причем страдающая комплексом неполноценности и значительно менее известная, чем наша соперница в Вальядолиде. Какой душевный подъем это даст и какую известность позволит приобрести, если нам, конечно, удастся выставить приз – Золотой потир – в центральном окне.
– И когда состоится сие счастливое событие?
– В следующем июне. Так что сначала придется подсчитывать очки соперников, а Италия богата на молодых теноров, выступающих на сцене перед группой экспертов из мирян и священнослужителей, а затем – изливать душу в песне перед публикой в зале.
– Десмонд, ты обязательно победишь, причем легко. Давай поспорим!
– Если учесть, что меня вот-вот должны рукоположить, я не имею права жертвовать медяки в пользу очень славного, но хитрого шотландца, – улыбнулся Десмонд и посмотрел на часы. – А теперь, боюсь, нам пора. Давай пройдемся пешком до Центрального вокзала.
Когда мы в последний раз обошли дом, Десмонд поднял чемодан и, грустно потоптавшись на пороге, закрыл дверь на замок со словами:
– Это замок Чабба. У агента есть ключ. – По дороге на вокзал он взял меня под руку. – Алек, извини, что задержал тебя допоздна.
– Я привык работать допоздна, даже далеко за полночь. Позволь, я возьму твой чемодан.
Но Десмонд только головой покачал:
– Нет, сейчас я сам должен нести свою ношу. Послушай, Алек, можно задать тебе медицинский вопрос?
– Конечно. – Я был заинтригован, но никак не ожидал услышать такого.
– Только не удивляйся и ответь мне серьезно. Скажи, если человеческую руку отсечь в области запястья, она рано или поздно разложится?
– Несомненно. Через неделю она начнет невыносимо вонять, разлагаться, размягчаться и, наконец, гнить, затем кости пясти отделятся от запястья и со временем распадутся на отдельные фрагменты.
– Спасибо, Алек. Большое тебе спасибо.
Больше за всю дорогу мы не проронили ни слова и очень скоро оказались на Центральном вокзале. Я проводил его до купе третьего класса.
– Не стоит ждать отправления поезда, дорогой Алек. Ненавижу долгие проводы. Кроме того, я знаю, более того, абсолютно уверен, что в один прекрасный день мы с тобой снова будем вместе.
Мы обменялись рукопожатием, я резко повернулся и быстрым шагом зашагал прочь. Я надеялся, что он прав и в один прекрасный день наши пути снова пересекутся. А еще я надеялся, что последний трамвай до Вестерн-роуд еще не ушел.