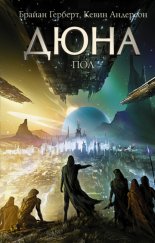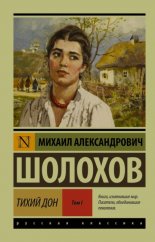Джек, который построил дом Катишонок Елена

Мать часто повторяла: «Книжки читать надо!» В библиотеке ему выдали «Судьбу барабанщика» Гайдара. Книжка показалась Янику страшнее, чем слово «вещуньина». Что-то он читал еще – не страшное, но скучное; не запомнилось.
А потом он перешел в пятый класс. Урок чтения теперь назывался «литературой». Появилась другая учительница, молодая и приветливая. На смену мучителю Крылову пришел Пушкин. На портрете Пушкин Янику понравился: загорелый, давно не стриженный мальчик подпер щеку рукой, отвернулся к окну – то ли наказали, то ли обиделся. Понравилось, что Пушкин тоже любил сказки. О дэвах няня ему не рассказывала, зато знала про царя Салтана и про мертвую царевну. Потом учительница вслух читала «Бесов» и задала выучить наизусть.
Яник не мог понять, почему дома было так трудно читать. Стихотворение выглядело совсем иначе, словно в строчках бушевала вьюга, но не было ни ямщика, ни надежных коней. Он ходил по комнате, бормоча головоломные строчки, которые никак не запоминались, и со страхом ожидал урока. В школу шел обреченно, частичкой души надеясь, что его не вызовут.
Вызвали. Сосед по парте тихонько подвинул ему учебник, но Яник не мог больше смотреть на заколдованные строчки.
– Читай, Богорад, – улыбнулась учительница. – Мы слушаем.
Он перевел дыхание и начал:
- – Мчатся тучи, вьются тучи;
- “Эй, пошел, ямщик!..” – “Нет мочи:
- Невидимкою луна
- Коням, барин, тяжело;
- Освещает снег летучий –
До конца он не дочитал – все заглушил смех, и некуда было спрятаться от этого смеха, который становился все громче.
– Тихо! – учительница подняла руку. Когда смолк шум, она повернулась к Янику: – Признайся, Богорад: ты нарочно устроил этот балаган?
Она смотрела прямо на него и больше не была приветливой.
– Я не… не балаган…
– А что ты устроил? – она повысила голос. – Зачем ты издевался над Пушкиным?
– Так в учебнике…
Стихи были напечатаны в два столбца. Никто не сказал, что надо сначала прочитать первый столбик, а потом второй, поэтому, заучив строчку первого столбика, он переводил взгляд на второй и проборматывал параллельную строку. Яков хохотал, мать сердилась: «Это же элементарно!»
Двойка по литературе была не последней; выше тройки ему не ставили, как и по другим предметам; кроме математики.
– А чего это, теть Клара, все ваши учатся да учатся? – спросила как-то на кухне Ксения. – Ну, малой-то понятно – без восьми классов никуда; но зачем Аде институт?
У самой Ады спросить она никогда не решилась бы. Ну ее, заполошную, никогда не угадаешь, какое у ней настроение.
– Почему «все»? – Клара Михайловна улыбнулась. – Я вот не учусь.
– Ну, вы вон шить умеете, вам и незачем.
Ксения домывала пол и с удовольствием топталась босыми ногами по чистым просыхающим половицам. Мыла она всегда добросовестно, как мать-покойница учила: руками да на коленках, чтобы в углах грязь не оставалась.
– Не, ну правда. Работа у ней чистая…
Выполоскала половую тряпку, отжала крепкими руками и распялила сушиться на батарее. Вспомнила, как позвала однажды Аду на танцы, намекнув, что можно брата взять – может, он стесняется? Другая бы побежала завиваться, юбку гладить… Какое там! Оборала ни за что ни про что: «У меня зачет, как вы не понимаете! А брат мой ученый и ни в каких ваших танцах не нуждается!» Ну и сиди дома со своим зачетом, больно надо. Потому небось и мужик бросил – им не больно-то зачеты нужны.
Все они там ученые – зашибись. От Ады только и слышно: «у нас в редакции» да «у нас в институте», зато дом держится не на редакции и не на институте, а на одной тете Кларе, недаром она так высохла. Всех обстирать, комнату убрать, жратву приготовить. И не как другие, чтобы сразу наварить кастрюлю супу да котлет сварганить на неделю, нет: тетя Клара торчит у плиты каждый день. Упаси бог, если разогретое – может, и есть не будут; только свеженькое, с пылу с жару.
– Вы сами, Ксюша, не думаете дальше учиться? – спросила Клара Михайловна.
– Не, теть Клара, куда мне! ПТУ кончила, разряд у меня есть…
И без Ксюшиного вопроса Клара Михайловна постоянно беспокоилась о дочери. Надежды не сбылись: Ада обрела диплом инженера-технолога, но мужа не нашла, что уж говорить о личном счастье. Хотя счастье – вот оно, одним глазом в тарелку смотрит, другим в журнал. Ест Яник, в отличие от сына, немного, хлеб отламывает маленькими кусочками. Яков – тот всегда как из голодного края: жадно хватает горячие куски, торопливо жует. Это с военного времени, с четырех лет недоедал. Клара Михайловна помнила, как приносила каждый день с работы миску, где в остывшем супе лежала небольшая порция «второго» – ложка пюре или чечевицы и размякшая котлета; можно было незаметно смешать оба блюда и вынести с фабрики. Так делали многие. Дома она разогревала на сковородке принесенный обед, и дети, хлюпая, вылавливали размякшую котлету без запаха и вкуса. Какое было счастье, когда там же, в мисочке, оказывался хлеб! – если она могла удержаться, чтобы не съесть его. Адочка всегда первой клала ложку: «Доедай». А ведь самой-то было сколько – двенадцать, тринадцать? Самый рост… Отдавала брату: старшая. Вот Яшка до сих пор и не научился прилично есть. И почти все – с хлебом. Допьет чай – и к письменному столу: работать, точно не с работы пришел. За него Клара Михайловна не беспокоилась: наука держит крепче, чем бутылка пьяницу. Яше не надо жениться – наука ему жена. Звонили женщины, девушки; он бегал на свидания, но всегда возвращался к своим чертежам и расчетам. Это не просто брак, а брак по любви. В науке Клара Михайловна не разбиралась, но верила, что любовь эта взаимная: сын блестяще защитил одну диссертацию и готовил вторую, докторскую. Только бы здоровья хватило с куревом этим, а то ведь легкие слабые, долго ли хворобе вернуться?..
…Науке соперница только музыка. Мечтал Яков о скрипке, да какая скрипка в войну – выжить бы… А как Ада в консерваторию поступила, так Яшка снова загорелся: скрипку! В одиннадцать лет, сказали, для скрипки поздно; приняли в музучилище на виолончель. Повесит на себя громадину и тащит. Он способный оказался, после музучилища звали в консерваторию, да где там – уехал в Ленинград, в университет.
Оба музыкальные: Ада после школы на вокальное отделение поступила, мечтала в опере петь, однако через два года бросила ради филфака. Счастливая была, пока училась; это Ксюше не объяснить.
У дочери в учебе главное – пятерку получить. Нахватала пятерок, окончила институт… и что? Из редакции уволилась, работает на заводе, в лаборатории, где новые синтетические материалы, что ли, испытывают. И добивается, чтобы на курсы какие-то попасть – квалификацию повысить. Яша смеется: «Вот дура! Ты сначала приобрети квалификацию, потом повышай!» Хоть по разным углам их растаскивай. Пока в институте училась, курить стала. Перед каким-то трудным экзаменом всю ночь не спала – зубрила с сигаретой; экзамен сдала, но курить не бросила. Теперь оба смолят при ребенке. Того и гляди Яник начнет курить – или уже балуется папиросами. Совсем ребенок, хоть и восьмой класс. Так и вырос без отца – тот хорошо если раз-другой в год приедет да звонит по телефону в праздники. За мужика в доме Яша, хотя какой он мужчина – такой же мальчишка: как засядут в шахматы играть, не сразу поймешь, кто старше…
Клара Михайловна смотрела на дочь с грустным удивлением. Отчего не складывается у нее нормальная жизнь, не сидеть же век с учебниками? Или что-то сложилось, а в дом не приводит? Да только непохоже: беспокойная, дерганая, чуть что – в крик. Хоть бы на заводе среди инженеров нашелся достойный человек… Однако Клара Михайловна помнила, как возлагала когда-то надежды на институт, и вздохнула. Не успеешь оглянуться, как внука пора будет женить.
Яник начал покуривать в седьмом классе. Скоро к нему присоединился Миха – Михеев Алексей по классному журналу и сосед по парте. Миха, тучный неуклюжий мальчик, был типичный «жиртрест» и к тому же очкарик, которого то и дело освобождали от физкультуры. Только Яник знал, что Миха сам себе выписывал освобождение на рецептурных бланках, стопочкой лежавших у матери на столе рядом с перекидным календарем. Трюк легко сходил ему с рук, тем более что фамилия у мамы-доктора была другой. В отличие от Яника учился Миха очень хорошо, но нимало этим не гордился. «Бери пример с Михеева, Богорад», – однообразно напоминали учителя, однако шло к тому, что Михеев начинал брать пример с нерадивого соседа. На уроках он сидел с таким же отсутствующим видом: то ли наполовину дремал, то ли витал где-то далеко. Успеваемость его тем не менее не пострадала, но у Богорада оценки лучше не стали. Сколько раз, бывало, Миха совал ему перед уроком тетрадь: «Скатай, успеешь!» В эти минуты он был удивительно похож на щедрого детсадовского «друга», так и оставшегося в Яниковой памяти безымянным, который отдал ему самосвал.
Яник отказывался. Почему – сам не знал; что-то мешало – как на том уроке, когда Миха придвигал ему учебник с «Бесами».
Миха был единственным, кто тогда не смеялся.
Оба мальчика росли в одинаково несимметричных семьях: отец Алеши Михеева давно оставил мать и жил с новой женой на Дальнем Востоке. Михина мать, как и Ада, домой приходила поздно вечером или не приходила совсем, если в больнице выпадали ночные дежурства. «Мальцу батька нужен», – бухтела Алешина бабка, обращаясь к холодильнику, духовке или к Яну, когда внука не было рядом. Оказалось, никакая не бабка, а домработница, по совместительству нянька, появившаяся в доме еще до развода родителей. «Маманя писала диссертацию, – пояснил Миха с набитым ртом, – ухо-горло-нос, сиськи-письки-хвост!» Оба захохотали. «В это время родился я», – важно закончил Миха, и это прозвучало еще смешнее.
Яков заменял Яну брата, товарища, был «мужским началом» в семье, но воспринимать его дядей, то есть родственником старшего поколения, мальчик не умел. Разница в восемнадцать лет не убеждала – Ян ее не чувствовал. Этому способствовало отношение матери к Якову. Когда родился брат, орущий младенец Яшенька, ей было восемь лет, и хотя много лет он уже курил, храпел по ночам, успешно занимался сложной наукой и волочился за бабами, он оставался для нее младшим братишкой – вечным ребенком, нуждающимся в присмотре, на которого можно прикрикнуть, чтобы не разбрасывал повсюду свои паршивые носки, сколько раз я буду тебе повторять!.. Яник подрастал; Ада чувствовала себя ответственной за обоих «мальчиков». С годами слово «мальчики» приобрело кокетливое звучание, вызывая недоумение собеседников. Яник этого не замечал, но чувствовал отношение бабушки: для нее все трое были детьми. Двое старших отдавали матери зарплату, и он твердо знал, что когда вырастет, будет поступать так же.
Время от времени приезжал отец. Он останавливался в гостинице, брал Яника в ресторан и гулял с ним по городу. Как-то сказал вдруг: «У тебя сестричка родилась…» Он ждал, наверное, что тот обрадуется, станет расспрашивать… Десятилетний сын интереса не выказал – во всяком случае, внешне.
Почему-то он рассказал Михе о «сестричке», хотя не знал о ней ровно ничего. Тот махнул рукой: «Лажа. Мой папаня тоже размножается». Лажа было Михиным любимым словом и обозначало все фальшивое – или не стоящее внимания. «Лажа, – повторил он с нажимом. – Скажи нет?» – «Ну», – кивнул Яник.
Это была формула: на «Скажи нет?» существовал один-единственный ответ: «Ну», подтверждающий полную солидарность.
…Когда Ян был младше, то всякий раз, возвращаясь домой после встречи с отцом, он без всякой причины чувствовал себя виноватым перед мамой. Начиналось это в парадном, до которого отец его провожал. По лестнице Яник шел медленно, подолгу останавливаясь на площадках. На четвертом этаже останавливался, считал плитки, потом неохотно ставил ногу на ступеньку. В дверь тоже не спешил звонить – мать, он знал, распахнет ее сразу: «Наконец-то! Замерз? Иди покушай!» – и кинется целовать его на виду у соседей, стаскивать пальтишко…
Теперь отец все реже звал его детским именем Ганик и домой не провожал – они прощались у гостиницы, потом Ян возвращался домой. Больше не думал, ждет его мать или нет, и виноватым себя не чувствовал, но какая-то несвобода осталась. Если встречал Павла Андреевича, выходившего на свой променад, охотно присоединялся к нему. Сосед уже не курил трубку – перешел на сигареты, и они медленно шли рядом, подросток и пожилой мужчина с прокуренными усами.
Иногда Яник натыкался на соседа с Яковом, они курили, негромко разговаривая. Чаще всего это происходило по вечерам, потом Яков снова припадал к радиоприемнику, вылавливая сквозь какофонию заглушки «вражьи голоса». Слушал молча, иногда цедил сквозь зубы что-то невнятное. Потом выключал, хватал пиджак, уходил.
…Яник легко затянулся первой сигаретой – так, словно курил давно и привычно. Миха несколько раз давился дымом, потом давиться перестал – и курить тоже. Решительно отвел протянутую пачку: «Не-а, не буду. Потом от рук воняет».
Начиная с пятого класса, всех школьников периодически терзали сочинениями «на свободную тему», которая весьма условно была свободной, как условно осужденный в первую очередь осужденный, и уже поэтому несвободен. Темы варьировались от безобидно-скучной «Как я провел каникулы» до «Человек велик трудом» и «Мечта – могучая сила». Каждый раз Яник терялся, в то время как Алеша Михеев, отрада глаз учительницы, без усилий начинал и первым сдавал тетрадь. Он останавливался время от времени только для того, чтобы, нежно дыхнув на каждое стеклышко, медленно протереть очки. Скашивая глаза в тетрадь Яна, шептал углом губ: «Перед “глядя” запятая, “не может” раздельно», – и снова надевал очки.
Правописание было проклятием Яника. Правила существовали сами по себе, тетрадка расцветала красными учительскими чернилами, вялые тройки к восьмому классу сменились уверенными двойками.
– Мой сын?! – Аду трясло от негодования. Не помогал ее диплом филолога, стаж работы в редакции, знание литературы – ничего. Сыну грозило ПТУ.
– Все потому, что ты мало читаешь! Я в твоем возрасте…
– Ты в моем возрасте «Робинзона» читала, – вспыхнул Ян, – знаю. Слышал.
Чтобы не наговорить лишнего, выбежал из комнаты. Миха прав: лажа, все лажа. В том числе «Робинзон», которым его так часто корила мать. Ян давно прочитал его, взяв у Михи. Книжка оказалась длинной, скучной и угнетающе хозяйственной, с этими робинзоновскими походами с острова на разбитый корабль, откуда он перетаскивал все, на что падал взгляд: авось пригодится. Зачем ему, например, три экземпляра Библии, он же не книжный спекулянт? Или деньги, на необитаемом-то острове? Но перетаскивал. И только когда забрал все, корабль утонул окончательно, а Робинзон, потирая руки, затеял натуральное хозяйство. Как мать могла таким зачитываться?..
Он открыл «Тиля Уленшпигеля». Книга, прекрасная и страшная, прожгла его насквозь. Он вытащил ее дома из секции, где стоял длинный глянцевый ряд «Библиотеки всемирной литературы», наугад, привлеченный необычным названием, и не сразу поставил обратно.
Прочитав, Миха согласился, что «Тиль» – это не лажа. Оценка была высокой. После школы зашли к Михе. Стоял теплый апрель, солнце нагрело подоконник, на котором они сидели. Миха наблюдал, как Ян заштриховывает карандашом горбоносый профиль. Крохотной – в ладонь – странички дешевого блокнота не хватило для фигуры, карандаш только наметил острые плечи.
– Нарисуй Ламме, – подсказал Миха.
– Что, самому слабо? – Ян закрыл блокнот. – У тебя лучше получится.
Мальчики переглянулись, и Миха прыснул. Действительно, рядом с высоким и тощим Яником он удивительно напоминал добродушного толстого фламандца.
Легко и упруго, несмотря на свой вес, Миха спрыгнул с подоконника и взял со стола ватманский листок. Кончик карандаша скользил по бумаге легко, охотно, словно твердо знал, чего хочет рука мальчика.
– Держи.
Две мужские фигуры, удаляющиеся по каменистой дороге. Высокий и худой чуть наклонился к маленькому бочкообразному спутнику. Тот повернул голову, слушая. Дорога слегка намечена, только неожиданно четко прорисованы разорванные бусы, оброненные или брошенные кем-то из друзей. «Это зачем?» – удивился Ян. – «Четки».
Рисунок остался у Яна, «Тиль» – у Михи.
Блокнотик Яна, полный странными рисунками, вконец истрепался, пришлось выкинуть. Он вел карандаш, наслаждаясь предощущением рисунка и не зная, чем станет линия – контуром облака или локоном, выбившимся из-под шапочки пробежавшей девушки. Вьющаяся прядь легко переходила в струящийся дым от сигареты, облако скрывалось за каменной стеной. Стена тянулась вдоль улицы, застроенной высокими зданиями, но сама улица на рисунке выходила другой. Тротуар изгибался, уходя в переулок, и открывалась улица, заставленная домами – с черепичными крышами, арками, колоннами. По мере удаления дома становились меньше и превращались в мелкую штриховку. На другом рисунке улица начиналась маленьким, почти игрушечным домишком-кубиком с едва намеченными прорезями окон, за ним шли дома один другого выше – каждый следующий словно нависал над предшествующим. «Классная перспектива», – похвалил Миха.
Ян никогда не знал заранее, каким выйдет на рисунке дом и дом ли это будет или что-то иное, однако рука привычно рисовала улицу за улицей – то знакомые, то ни разу не виденные, возникшие из путаного сна. Иногда он торопливым бледным контуром набрасывал дом и только черепичную крышу вырисовывал очень подробно, причем в кирпичной кладке трубы вдруг оказывалось окно с бликами на стеклах… «Дом Эшера», – понимающе усмехнулся Миха.
Лживая геометрия Эшера Яну не нравилась. Он рисовал иначе. До Михи ему было далеко – тот рисовал давно, много и серьезно, хотя никогда не писал об этом ни в одной «свободной» теме. Потому что школа – это лажа, в отличие от рисования. Все было ясно для Алеши Михеева, прекрасно успевающего по всем предметам: после школы он поступит в художественную академию. Не пройдет с первого раза – поступит через год; он не мог представить, что не поступит.
Из кухни донеслось сердитое громыхание посуды. Ян подхватил папку.
– Мне пора.
– Давай вместе в академию! – загорелся Миха. – Конкурс будь здоров, это ежу понятно. Рисунок ты сдашь, я уверен…
В слово «рисунок» они вкладывали разный смысл. У Яника сразу оживал в памяти злосчастный урок в первом классе, когда учительница трясла его тетрадкой.
По пути домой Ян угрюмо пытался представить себе, как осенью пойдет в ПТУ. Потом работа на заводе. Где, на каком? А, все равно. Все лажа.
Мать решила иначе: никаких ПТУ, любой ценой.
Цена оказалась доступной и даже слишком скромной, если учесть высокую квалификацию репетитора. Нашла ее Ада каким-то сложным путем, не без помощи той самой заводской многотиражки. Анна Матвеевна была дамой лет тридцати с небольшим (или большим), с ровно подстриженными прямыми русыми волосами, всегда одетая в один и тот же серый костюм. Она преподавала литературу в пединституте. Слово «пединститут» заворожило Аду настолько, что ей не пришло в голову поинтересоваться, какую именно литературу преподавала Анна Матвеевна. Непонятно было, что заставило доцента кафедры зарубежной литературы заняться репетиторством, однако Анна Матвеевна взяла Яника в «ежовые рукавицы», как охотно повторяла мать.
Ян этого не почувствовал. Ему понравилась Анна Матвеевна тем, что не была похожа ни на мать, ни на учительницу русского языка – и ни на одного из школьных учителей. «Пушкина! Вы Пушкина с ним пройдите, – встревала Ада, – он не знает русской классики!..» Анна Матвеевна не спорила, вежливо пережидала, но не выражала готовности немедленно заняться Пушкиным. Яну пояснила: «Мы спешить не будем. До Пушкина созреть надо». Наверное, так думала только она, потому что Пушкин изрядно надоел всем недозрелым школьникам своей «Барышней-крестьянкой» и лишним человеком Онегиным.
Спокойно, деловито, насыщенно проходили занятия, на которых постепенно начали приоткрываться ему таинства школьной грамматики. То, что становится понятным, перестает пугать, и даже собственные многочисленные ошибки больше не вгоняли в ступор. Он стал замечать некоторое сходство грамматики с алгеброй – правило становилось чем-то вроде формулы. Диктант обрел смысл.
– Проверь сам, – Анна Матвеевна неожиданно вернула листок, – отметь ошибки, которые заметишь… цветным карандашом, любым.
В поисках карандаша он вытряхнул из папки все содержимое. Михин рисунок плавно спланировал на стол.
– Дон Кихот и Санчо Панса? – Анна Матвеевна кивнула на листок.
Так начали говорить о книгах – урывками, короткими фразами; имена запоминались.
Мать всегда твердо знала: что когда следует читать, какой писатель заслуживает интереса; знала все о литературных течениях. Томас Манн был «упадочническим», Оскар Уайльд «аморальным эстетом», Анатоль Франс… «у него слабая композиция, тебе пока рано». Книги для Яна различались цветом обложек и количеством томов. «Библиотека всемирной литературы» представлялась ему общежитием, собравшим под похожими обложками всех уцелевших от материнской классификации – в этом он убедился после «Тиля». Теперь ему хотелось читать по-настоящему, но приближались экзамены, а композиция его собственных сочинений была слабее даже, чем у Анатоля Франса.
Анна Матвеевна помогла Яну побороть страх перед трескучими свободными темами, внушая, что чем бессмысленней звучит название, тем легче наполнить его содержанием. «Как пустой сосуд: ты можешь налить в него лимонад, вино, молоко… воду, наконец». Как и делают многие, подумала с усмешкой. «Главное, – продолжала вслух, – не забудь, что ты наливаешь, не смешивай молоко с пивом». Итог оказался неожиданным: Ян справился с сочинением, удивив и чуть ли не разочаровав школьную учительницу. После сочинения другие предметы были просто лажей. Вместо ПТУ предстоял девятый класс. Занятия с Анной Матвеевной (после сокрушительного успеха с сочинением она превратилась для матери в «Аннушку») прервались на лето.
Начались каникулы. Дачная комната, которую сняла Ада, пустовала днем и оживала к вечеру, когда она приезжала с работы. Яков, всю жизнь высмеивающий пользу свежего воздуха и совершенно равнодушный к дачному отдыху, предпочитал оставаться в городе. Только один раз он примчался вечером и без обычного своего «что курим?» осел на скамейку. Это был август шестьдесят восьмого. «Ты понимаешь, что случилось?» – громким шепотом кричал Яков.
«Случилась» Чехословакия. Ады не было, они вдвоем нависли над «Спидолой». По дороге на станцию Яков непрерывно говорил. «Это как тогда в Венгрии, в пятьдесят шестом. Э-э, ты совсем сопливый был, а я тогда поддерживал наших, представляешь? Я только в институт поступил. И мятеж в Венгрии: коммунистов убивали, звезды на груди у них вырезали, – ну как есть фашисты! Не я один – все такие идиоты были, глотки дерем, никто никого не слышит. И в газетах снимки убитых и наши танки. Вот увидишь: завтра все газеты будут про Чехословакию свистеть, все навалятся». «Нашим… звезды вырезали?» – спросил Ян. «А черт их знает, этих мадьяров, – у них своих коммунистов хватало. Сейчас еще больше. Главное – никто ничего не моги, против танка не попрешь…»
Ян открыл газету на следующий день – едва ли не впервые в жизни. Невозможно, да и не нужно, запоминать казенные слова; глаз зацепился только за беспрепятственное продвижение войск братских стран, откуда понял, что навалились все, как Яков и предсказывал.
В том же августе заболела бабушка – поднялось давление.
Было непривычно, что бабушка могла заболеть – раньше такого не случалось. Участковая врачиха не разрешила вставать. Из ее вопросов Яник с удивлением узнал, что бабушке семьдесят три года. Каждый день приходила толстая медсестра «ставить уколы», как она сама говорила. Ян запомнил красные пухлые руки медсестры с квадратными ногтями. После ее ухода собирал и выбрасывал пустые ампулы. На дачу в том августе он не вернулся: нужно было дожидаться медсестру, ходить в магазин. Однажды Яник принес из рыбного небольшой пакет и на вопрос Клары Михайловны гордо сообщил: «Это тунец». Она поднялась и развернула влажную бумагу. Внутри лежали четыре заиндевевших стручка, похожих на кильки. «Все брали… Тунец это», – растерянно повторял Яник. «Не хочется сегодня рыбу делать», – сказала бабушка. «Тунец» был отправлен в морозильник. Яник научился варить рис и жарить картошку.
…Бабушка выздоровела. Слово «давление» снова выплыло на уроках физики, и всегда оно было связано с разбитыми ампулами, пухлыми розовыми руками медсестры и чудным выражением «ставить укол», а бабушке долго было семьдесят три года, словно цифра возраста застыла, как ртуть на разбитом градуснике. Все это прочно связалось с Чехословакией и рыбой под названием «тунец».
Тащились бесконечные школьные дни, но летом снова было взморье, запах нагретых шпал на перроне смешивался с ароматом жасмина. Была та или другая дачная комната, где можно было по утрам поздно валяться на раскладушке или диване, составленном из утробно ноющих пружин, скрытых гор и кратеров с глубокими провалами.
…Клара Михайловна металась между очередями и кухней, чтобы накормить сына и передать еду с Адой на дачу. Мальчик растет, у него впереди два года школы. Тоненький, худющий, особенно рядом с Алешей, крепеньким боровичком.
В хорошую погоду Ян пропадал на море. Ни купание, ни волейбол, ни азартное шлепанье картами не привлекали его. Кто-то шелестел газетами, но газеты на пляже почему-то выглядели совсем нелепо; перелистав, их ставили «шалашиком» над головой и распластывались под солнцем. Ян приходил с книгой и часами лежал, медленно переворачивая страницы и сдувая песок. Иногда поднимал голову: море издали всегда выглядело темнее, чем вблизи. На мокром твердом песке возились и галдели дети, кто-то строил дворцы из песка, как и сам он когда-то любил делать: набирал песочную жижу в горсть и превращал бесформенную струйку, вытекавшую из ладони, в колонну или башню. Пальцы сами знали, сколько песка зачерпнуть и как быстро донести до нужного места, чтобы расползавшаяся масса стала крепостью с естественным рвом вокруг, из которого он выгребал новые и новые песочные горсти. Теперь изредка странные замки с туннелями и мостами выходили из-под его карандаша, причем карандаш знал следующую линию лучше его самого.
Приезжая в город, Ян снимал с полки книги, которые запомнились из разговоров с Анной Матвеевной. Прочитал «Кандида», «Дон Кихота». Уайльда, «аморального эстета», начал листать – и поставил на место: после Сервантеса показался несерьезным, однако заинтересовал.
На взморье часто приезжал Миха. Блондин, он быстро обгорал на солнце и ходил с приклеенным на нос листком. К пятнадцати годам его детская тучность сменилась здоровой плотностью. На свежем румяном лице голубели глаза – точь-в-точь летнее безоблачное небо. Время от времени к ним летел мяч, неудачно пасованный кем-то из игроков. Девушки бежали к дюнам, замедляя бег на глубоком сухом песке: «Эй, длинный, кинь мяч!» Они переводили взгляд со смущенного нахмуренного лица Яна на лукавое, со смеющимися голубыми глазами, Михино, крутя и подкидывая мяч в руках: «Мальчики, давайте к нам, а?» – «У меня освобождение от физкультуры», – дурачился Миха.
В школе выдали список литературы, которую нужно было прочесть к девятому классу. В списке значился Достоевский, «Преступление и наказание». Времени до сентября оставалось немного, но Ян медлил и часто закрывал книгу. Роман стал для него настоящим наказанием. Исступленные споры героя с самим собой, разговоры посторонних людей, изнурительно длинные письма, каких никто не пишет – они бы и в конверт не влезли, – однако в романе люди строчат их и шлют, – все это выворачивало ему душу, как плохая еда выворачивает желудок, только вместо облегчения оставляло тупую боль и раздражение. Зачем это все, хотелось ему спросить, но не у матери же…
Ян ожидал от девятого класса чего-то нового, но ничего нового не последовало. Лажа, только в больших количествах.
Тройки, тройки… Да что же это такое, недоумевала Ада. Совсем не так она представляла себе сына в средней школе. Ее сын – и троечник! Он должен быть совсем не таким; а раз так, то он и будет другим, не сомневайтесь. Ничем не хуже пузатого очкарика, который трется возле сына. Казалось, очкастому живчику достаются все лавры, предназначенные для ее сына, тогда как Яник остается в тени. Хорош друг, нечего сказать! И глазки голубенькие невинные-невинные, рожа хитрая. Что, разве он умнее?! За сына надо бороться, вот как с русским было: ребенка почти выпихнули в ПТУ, в то время как очкарик пошел бы в девятый класс и не оглянулся. Надо и дальше бороться. Кто позаботится о ребенке, кроме матери?.. Главное, никаких интересов у него нет – у ее сына! Химия, физика – все учебники новенькие, будто только что из типографии, словно не раскрывал. Яшка баламутит, чтобы ребенка оставить в покое – сам, дескать, сориентируется. Держи карман шире. Репетитора надо.
Брат поднял ее на смех:
– Кому?! Д-дура… За каким чертом ему репетитор, он сам кого хочешь натаскать может.
– А тройки по математике почему? – возмущалась Ада. – Почему тройки?
– Да скучно ему! – взорвался брат. – Я с ним решал задачи посложнее, чем в школе задают. Оставь ты парня в покое наконец!
Оставить в покое исключалось. Мать она ребенку или не мать?..
– Он уже не ребенок, он взрослый парень, – урезонивал Яков. – Он скоро по бабам шляться будет, а ты заталдычила: «ребенок, ребенок». Здоровый лоб!
Словно кипятком плеснул. Вот оно что… Может, в этом и дело? Вертихвостка какая-нибудь. Ее сын увлекся, и теперь не до учебы. Не может быть, нет! А если… Так не бывать этому!
Ада втайне гордилась успехами брата в покорении женских сердец. Много баб – лучше, чем одна, потому что Яшка рано или поздно возвращается домой. В то же время мысль о сыне-ловеласе бросала в оторопь. В кого?..
При всей необходимости найти виноватого Ада понимала, что мужа, хоть он уже тринадцать лет ей мужем не был, обвинять в этом нельзя. Тихий, стеснительный, Исаак ухаживал за ней три года, смотрел восхищенно, с обожанием; чуть не на руках носил. А бывало, носил – буквально. Носил бы и посейчас, если бы не свекровь – гадина, гадина! – все могло быть иначе. Гадина, стерва. Помыкала сыновьями – все по струнке ходили, невестки метались по дому с виноватыми лицами. Все, кроме нее: не на такую напали.
Мать ее предупреждала: богатая семья, тебе трудно будет. И вздыхала.
Свекровь оценивающе посмотрела, кивнула: приняла. Как будто Аде не все равно было, примет или нет – она не за старую ведьму замуж выходила.
Молодым выделили комнату на втором этаже дома, но старуха входила часто, неожиданно и без стука – как, впрочем, и во все остальные комнаты. Ада возмущалась, муж улыбался беспомощно: «Не сердись на маму». Ада сердилась не на свекровь – на него: что за бесхребетность? А вдруг она вломится… не вовремя? Молчал, обнимал ласково. По утрам, уже одетый, возвращался от двери и целовал. В одно такое утро старуха – словно в плохой пьесе – уверенной рукой открыла дверь.
При разговоре мужа со свекровью Ада не присутствовала: щадя беременную жену, он вышел за матерью. Ее крики были слышны всему дому – как и все, что делала старая ведьма: ходила, говорила, распекала, с утра до позднего вечера пила чай, в который добавляла пряности. В первые месяцы беременности Аду мутило от висящих в воздухе душных паров корицы, кардамона… что там она еще в свой чай добавляла. Старуха невозмутимо подносила ко рту изогнутый турецкий стакан, напоминающий женскую фигуру, тянула горячий чай. В хрустальной вазе перед ней лежали изюм, урюк, орехи; на блюде лиловели матовые фиги, тускло просвечивал виноград. «Угощайся», – садистка насмешливо щурилась. Ада давилась слюной, выбегала из комнаты. Переехать к матери? Об этом и речи не было. Вернее, речь была, Ада пылко и страстно произнесла ее перед мужем, но тот покачал головой: «Мама обидится». У него дрожал подбородок. Старуха прочно держала семейные вожжи и не собиралась их отпускать.
Когда родился сын, легче не стало. Йоханан, это же надо придумать!.. Откуда взялось это несуразное имя?! «Отцовская причуда», – неохотно поясняла Ада, хотя была уверена, что «причуда» исходит от свекрови. Сама она не могла пойти в загс – с трудом кормила, ребенок плакал. Вот и поплатилась…
И не только имя. Нужна была коляска для ребенка, но именно для коляски не нашлось денег. Деньги тоже были в крепких руках свекрови – сыновья отдавали матери всю зарплату. Старуха сама планировала семейные траты и, надо сказать, была временами щедра: могла подарить невестке-фаворитке золотое кольцо или серьги, отрез шелка на платье… Ада, младшая невестка, никогда любимицей не была, угодить не старалась, а потому и надежда на милость в виде коляски для малыша была беспочвенной. Старуха покачала головой: «Молодая, крепкая; на руках поносишь». Она говорила по-русски с акцентом и восточной поющей интонацией, и голос плескался, как чай в стакане. Муж отводил глаза. Подбородок у него дрожал. У матери денег не попросишь: брат учился в школе, Клара Михайловна с трудом сводила концы с концами.
Пришлось Аде носить сынишку на руках, что делать. Да ведь ребенка всю жизнь на руках носишь… А потом какая-нибудь вертихвостка, пустышка, ногтя его не стоящая, пальчиком поманит и уведет, вот и награда за твою материнскую любовь!
Ада нечасто вспоминала свекровь, однако сейчас, в мучительных подозрениях о «вертихвостке», впервые задумалась, что, должно быть, именно так и происходило в старухиной жизни: невестки пытались увести сыновей и если бы не ее железная материнская воля и непререкаемый авторитет, увели бы, хоть и вертихвостками не были.
…Сама, наверное, и сегодня сидит в затемненной от жаркого солнца комнате, потягивая огненный темный чай, сладкий как сироп. Одета, как всегда, в просторное шелковое платье с пестрым восточным рисунком; такой же шелковый платок на волосах, иссиня-черных, словно возраст их не коснулся. У матери, ровесницы свекрови, тоже когда-то были черные волосы, давно превратившиеся в седой узел на затылке, как у всех матерей. Однако старуху, потягивающую свой вечный чай, время не тронет, в этом Ада была уверена. Гладкое смуглое лицо без морщинки, такие же гладкие пухлые руки с ямочками там, где у матери выпирают артритные суставы. Вот старуха медленно, лениво протягивает руку, чтобы отщипнуть просвечивающую матовую ягоду винограда с пародийным названием «дамские пальчики». Некогда дочь зажиточных родителей, потом жена небедного мужа, она сохранила, при обильном теле, легкую поступь и гладкое лицо, – в таких семьях женщины не работают. Она перестала быть женой в тридцать восьмом, оставшись с троими сыновьями. Двое старших удачно женились: достоинства невесты – приданое и безоговорочное повиновение свекрови; и только младший сын глубоко разочаровал мать. Если бы бесприданница Ада старалась ей понравиться, лишний раз – а лишнего раза не бывает – угодить, очаровать, может и снискала бы благоволение старухи, ведь не могла та не видеть красоты невестки, влюбленности сына, не могла не порадоваться внуку. Нет, Ада вовсе не старалась понравиться ни свекрови, ни всей новой родне. Более того, не принимала правил большой семьи, а продолжала жить, как жила – заканчивала университет, чем вызывала презрительное удивление старухи, не смягчившееся во время Адиной беременности: что, брюхатых она не видела? Сама троих родила. Родила бы еще, да мужа забрали. Спасибо дети ценят: лучший кусок – матери, совета спросить – у матери, все заработанные деньги тоже матери. Разве жена появляется, когда парень усы брить начинает? Не-е-ет: когда мать позволит.
И вопреки желанию живо представился турецкий чайный стакан (из другого старуха не пила): небольшой, фигурный, в изящном подстаканнике. Глупое, бессмысленное название, как и сам вычурный стакан, и никак не вспоминается, хоть убей… А свекровь вспомнилась из-за мужа. Кто виноват, что у Яника тройки? Ребенок рос фактически без отца, вот и вырос… безынициативный. Всегда букой был; весь в отца. Кто ж еще виноват? Себя ей не в чем было упрекнуть – она отдала сыну всю жизнь, а ведь могла бы свою судьбу устроить, если бы не вкладывала всю душу в ребенка. Не теперь (она покосилась на зеркало), а раньше, когда мужчины поворачивали головы в ее сторону, как подсолнухи к солнцу. Взять хотя бы главного технолога с подшефного завода, который специально в командировки ездил, надо и не надо. Когда понял, что не надо, командировки прекратились. А как ухаживать пытался! В ресторан приглашал или по городу погулять. И совсем уже несуразное: «А то, может, в домашней обстановке? Человек я холостой, неизбалованный». Намек на домашнюю обстановку Ада «не услышала», от ресторана наотрез отказалась, а по городу гулять – обращайтесь в экскурсионное бюро. Интеллигентный человек, считала Ада, пригласил бы в театр или на концерт, а то в ресторан…
Обескураженный технолог улыбнулся смущенно и отправился в ближайшую пельменную вместо вымечтанного вечера в ресторане, за крахмальной скатертью, рядом с этой красивой раздраженной женщиной. Не задел ли он ее чем-то ненароком?.. Оформил следующую командировку, потом еще две или три, после чего приезжать перестал – отпала производственная необходимость.
Ада привыкла видеть его в лаборатории – высокий, всегда свежевыбритый, будто только что из парикмахерской – когда успел? – он радостно поворачивался на звук ее голоса; Ада хмурила брови, заранее готовясь дать решительный отпор очередному приглашению. Когда главный технолог перестал приезжать, жизнь на подшефном заводе не остановилась – время от времени появлялись другие командировочные, какие-то две заполошные бабы, одна бестолковей другой; Ада зачем-то с особенной тщательностью пудрилась и красила губы, но главный технолог тут ни при чем, конечно.
Как и человек со странным именем Линард, бывают же такие имена. Тот самый мужчина, который сидел с главным редактором в кафе, куда она забежала за булочкой, а нашла работу. Мужчина рассматривал ее так внимательно, что не сразу стало понятно, кто тут, собственно, главный. Потом, уже в редакции многотиражки, где она с остервенением осваивала азы корректуры, стало известно, что зовут его Линардом: зашел как-то перед обеденным перерывом, и все вдруг заволновались: «Линард!.. Линард идет, девочки!» – и схватились за пудреницы. А что такое, собственно, Линард? Пожилой стиляга.