У нас всегда будет Париж Брэдбери Рэй
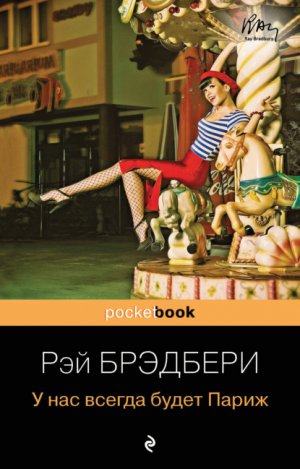
Как-то в Париже, душной июльской ночью с субботы на воскресенье, около двенадцати, я собрался пройтись своим любимым маршрутом, который неизменно начинался от собора Парижской Богоматери, а заканчивался подчас у самой Эйфелевой башни.
Жена в тот вечер легла рано, часов в девять, но словно почувствовала, когда я был в дверях, и сказала:
— Можешь не спешить, но купи мне пиццу.
— Заказ принят: одна пицца, — сказал я и вышел в коридор.
Из отеля мой путь лежал на другой берег Сены, к собору Парижской Богоматери; я заглянул в Шекспировскую книжную лавку и повернул обратно по бульвару Сен-Мишель в сторону уличного кафе «Два маго», где Хемингуэй — поколение с лишним тому назад — угощал своих друзей граппой, перно и Африкой.
Наблюдая за толпами парижан, я немного посидел в кафе, заказал перно, потом пиво и двинулся в сторону набережной.
Улица, идущая от «Двух маго», больше напоминала узкий проезд между рядами антикварных магазинов и художественных салонов.
Здесь я оказался практически в одиночестве, и вдруг вблизи Сены произошло нечто из ряда вон выходящее — пожалуй, никогда в жизни со мной ничего подобного не бывало.
Я понял, что за мной следят. Но слежка велась довольно странно.
Оглянувшись, я не увидел ни одной живой души. Посмотрел вперед — и метрах в сорока заметил молодого человека в летнем костюме.
Вначале мне и в голову не пришло, что это не случайно. Но, задержавшись у одной из витрин, я поднял взгляд — и обнаружил, что он, теперь метров с тридцати, наблюдает за мной через плечо.
Стоило нам встретиться глазами, как он зашагал дальше, но через некоторое время, замедлив шаги, оглянулся.
Когда мы обменялись молчаливыми взглядами еще несколько раз, у меня уже не осталось никаких сомнений. Вместо того чтобы следовать за мной по пятам, незнакомец шел впереди и оглядывался, не теряя меня из виду.
Так мы прошли целый квартал и в конце концов на перекрестке поравнялись.
Это был рослый, стройный блондин, достаточно привлекательный, по всем признакам — француз; спортивная фигура выдавала в нем не то пловца, не то теннисиста.
Я даже не сумел разобраться в своих ощущениях. Приятно, лестно, неловко?
Столкнувшись с ним лицом к лицу, я помедлил и обратился к нему по-английски, но он лишь покачал головой.
И тут же заговорил со мной на французском; теперь уже я покачал головой, и мы оба посмеялись.
— Французский — нет? — уточнил незнакомец.
Я стал мотать головой.
— Английский — нет? — спросил я, и он снова качнул головой, и мы оба расхохотались, потому что стояли одни среди ночи на парижском перекрестке, не могли обменяться даже парой слов и плохо понимали, что нас туда привело.
Наконец он указал рукой в сторону бокового переулка.
При этом он произнес какое-то слово — мне послышалось имя Джим. В растерянности я покачал головой.
Незнакомец повторил, а вслед за тем пояснил:
— Жимназиум, спортзал, — сказал он, еще раз махнул рукой в ту же сторону, сошел с тротуара и оглянулся, чтобы меня не потерять.
Я стоял в нерешительности, пока он переходил через дорогу. На другой стороне он вновь обернулся в мою сторону.
Ступив на мостовую, я направился к нему, спрашивая себя, зачем искать приключений на свою голову. И молча повторил: «Какого дьявола меня туда несет?» Париж, глубокая ночь, духота, случайный прохожий меня поманил — и куда? Какой, к черту, спортзал? А вдруг я оттуда не вернусь? Нет, в самом деле, что за безумие — в чужом городе увязаться за чужим человеком?
Это меня не остановило.
Мы поравнялись в середине следующего квартала, где он меня поджидал.
Кивнув в сторону ближайшего здания, он повторил слово «жимназиум».
Увидев, что он спускается по ступенькам в подвал, я поспешил за ним. А он достал свой ключ и кивнул, приглашая меня в темноту.
Действительно, это был небольшой спортивный зал, оснащенный стандартным инвентарем: тренажеры, гимнастический конь, маты.
Любопытно, подумал я и шагнул вперед; мой провожатый запер за нами дверь.
Сверху доносились приглушенные звуки музыки и чьи-то голоса; не успел я и глазом моргнуть, как почувствовал, что на мне расстегивают рубашку.
Я стоял в темноте; меня прошибла испарина, по лицу стекали ручейки пота. Слышно было, как незнакомец, не двигаясь с места и не произнося ни слова, снимает с себя одежду — и это происходило в Париже, глухой ночью.
У меня в голове опять мелькнуло: «Какого черта?»
Парень шагнул вперед и почти коснулся меня, но в этот миг где-то рядом открыли дверь, кто-то разразился смехом, поблизости отворилась и захлопнулась еще одна дверь, сверху послышался топот, хор голосов.
От неожиданности я вздрогнул; меня затрясло.
Должно быть, незнакомец это почувствовал: вытянув руки, он положил их мне на плечи.
Казалось, нас охватила одинаковая растерянность, и той глухой парижской ночью мы приросли к месту, глядя друг на друга, словно незадачливые актеры, забывшие свой текст.
Сверху долетали раскаты смеха и звуки музыки; похоже, там откупоривали шампанское.
В полумраке я заметил, как с его носа сорвалась капля пота.
Сам я, до кончиков пальцев, тоже был весь в поту.
Так мы и стояли без движения, пока он на французский манер не повел плечами; я тоже пожал плечами ему в ответ, и мы опять негромко посмеялись.
Он подался вперед, взял меня за подбородок и молча поцеловал в лоб. Потом, отступив на шаг, потянулся куда-то в темноте и накинул мне на плечи рубашку.
— Bonne chance, — прошептал он; а может, мне это только послышалось.
На цыпочках мы двинулись к выходу. Незнакомец приложил палец к губам, сказал «тсс» и выбрался вместе со мной на улицу.
А дальше мы шли бок о бок по узкому проезду, который тянулся от кафе «Два маго» в сторону набережной Сены, Лувра и моего отеля.
— Надо же, — выдохнул я. — Провели вместе полчаса — и даже не познакомились.
Он бросил на меня непонимающий взгляд, и что-то подсказало мне ткнуть его пальцем в грудь.
— Ты Джейн, я Тарзан, — сказал я.
Услышав это, незнакомец разразился смехом и стал вторить мне:
— Я Джейн, ты Тарзан.
Мы захохотали, впервые за все это время стряхнув напряжение.
Он приблизился, как в прошлый раз, молча поцеловал меня в лоб, а потом развернулся и зашагал в другую сторону.
Когда нас разделяло метра три-четыре, он выговорил на неуверенном английском, не глядя в мою сторону:
— Как жаль.
Я ответил:
— Да, очень жаль.
— В другой раз? — спросил он.
— В другой раз, — отозвался я.
И он скрылся из виду; больше некому было вести меня за собой.
Я вышел на набережную Сены и, минуя Лувр, вскоре добрался до отеля.
Было два часа ночи, но духота не отступала; уже в дверях нашего люкса я услышал шорох простыней и голос жены:
— Забыла спросить: ты билеты купил?
— Конечно, — ответил я. — Летим во вторник на «конкорде», дневным рейсом до Нью-Йорка.
Жена явно успокоилась, а потом со вздохом сказала:
— Господи, как я люблю Париж. Давай на будущий год сюда вернемся.
— «У нас всегда будет Париж», — подтвердил я.
Раздевшись, я присел на краешек кровати. Жена, лежа на своей половине, спросила:
— А пиццу принес?
— Пиццу? — рассеянно переспросил я.
— Как ты мог забыть? — расстроилась жена.
— Сам удивляюсь.
Я почувствовал легкое жжение над бровями и коснулся рукой середины лба, куда меня поцеловал на прощанье незнакомый парень, устроивший за мной слежку, чтобы указывать путь.
— Сам удивляюсь, — повторил я, — как меня угораздило. Черт его знает.






