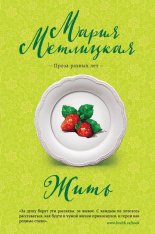Фиалки по средам. Новеллы Моруа Андре

– А что вы думаете? Эти и еще много других… Но я вернусь к Сильвии. Фабер тут же пересел поближе к ней, отлично разыграл свою роль, и Сильвия была обольщена. На следующий день началась осада. Звонки по телефону, цветы, ложа в театре… Инженер в то время находился в Турции. Сильвия, свободная, слишком свободная, после дней героического сопротивления безумию стала любовницей Фабера. Это было прискорбно, потому что он, как всегда, видел в ней красивую вещь, уже потускневшую, использованную. Тем не менее, будь это другой мужчина, все могло бы остаться в тайне. Но Фаберу доставляло еще большее удовольствие ославить женщину, чем обладать ею. Когда Нуартель вернулся, весь Париж уже был наслышан и судачил об этом. Сама же Сильвия, умная Сильвия, вела себя самым неразумным образом. Даже если бы муж не узнал правды, она, я думаю, сама бы выложила ее.
– Просто она была очень влюблена.
– В Лондоне должны были играть одну из пьес Фабера. Он предложил ей поехать туда с ним. Она приняла решение не сразу: понимала, что это будет разрывом с мужем, с семьей… Фабер с яростью настаивал, требовал от нее этого доказательства ее страсти, и она сдалась.
– И муж отверг ее?
– Нет. Ее муж, человек великодушный, хотел дать ей шанс вернуться ради детей и поначалу скрыл ее отсутствие. Но на них обрушилась целая вереница катастроф… Фабер приносит несчастья… Авария, в которую попал автомобиль, где она находилась с Фабером, – это уже скандал. После катастрофы ее лицо было обезображено… Возмущенная родня мужа требует развода… Менингит и смерть ее малыша Жака, в то время как она была в Лондоне. И развод, поскольку ситуация становилась невозможной и абсурдной… А Фабер вскоре навсегда бросил Сильвию, потому что нашел себе любовницу помоложе.
Франсуаза, перестав иронизировать, наклонилась и сорвала на склоне клевер с четырьмя листочками.
– Какая трагическая история! – сказала она. – И что же сталось с Сильвией?
– Одна из этих покинутых горестных женщин, которых так много в Париже… Последний штрих ужасен… Как-то, будучи в «Комеди Франсез», когда я в антракте в фойе разговаривал с Фабером, она прошла мимо нас, опустошенная, с изуродованным глубокими шрамами лицом. Он увидел ее, рассмеялся своим дьявольским смехом и сказал мне: «Иезавель… Я называю ее Иезавель, потому что она всегда помпезно разукрашена, „как в день своей смерти“[6]… Она меня ненавидит… Она просто потаскуха». Вот так этот донжуан предает своих женщин.
Франсуаза долго молчала. Нас обогнала машина, оставив после себя клубы пыли и запах бензина.
– Вернемся… – сказала Франсуаза. – Я устала…
Вечерние посиделки на террасе были, как никогда, хороши. Листья на деревьях словно замерли. Лишь изредка что-нибудь нарушало тишину: крик ночной птицы, отдаленный лай собаки в деревне, гудок поезда в долине. Гости Сент-Арну, разбившись на маленькие группки, тихо беседовали. Я сидел один, углубившись в кресло, и смотрел на звезды. Огромность мира создавала у меня ощущение тщетности наших земных волнений. Фабер уселся рядом с Франсуазой и, склонившись к ней, воодушевленно что-то говорил. Я с грустью видел, как она внемлет ему.
«Все величественно вокруг нас, – думал я, – кроме нас самих… Что за важность для Фабера еще одна победа при виде этой таинственной, бесконечной Вселенной? Но он плетет свои сети, как паук. Он кружит над женщинами, словно летучая мышь, которая гоняется в ночи за мошками… Но в конце концов, что за важность, если у каждого существа свои инстинкты?»
И еще я подумал:
«Это много значит, когда дело касается нашей белой расы… Бедная Франсуаза… Я-то думал, что спас ее».
Меня окликнула Дениза:
– К чему такое блистательное одиночество? Вы грезите?
– Да, – ответил я, – мне пригрезился кошмар.
Позже, когда все разошлись, Франсуаза и Фабер пожелали друг другу спокойной ночи так подчеркнуто, что мои опасения подтвердились. Вернувшись в свою комнату, я бросился к окну и увидел две темные фигуры, одну очень высокую, они удалялись к лесу. Я решил подождать их возвращения, но не дождался, уснул.
Утром я их не видел. Они вместе уехали в машине Фабера; уезжая, Франсуаза бросила несколько слов Бертрану Шмиту: «Не тревожьтесь обо мне, я срочно должна быть в Париже, и мсье Фабер любезно согласился подвезти меня. Он просит вас позаботиться о его жене, она еще спит».
Дальше все произошло так, как легко можно было себе представить: урожай несчастий, которые Фабер сеял в жизни любой женщины, познавшей печальную участь понравиться ему. Однако в случае с Франсуазой Кенэ худшего не случилось благодаря бесконечной доброте ее мужа, который с достоинством сумел спасти если не свою любовь, то по крайней мере свой семейный очаг. Что касается меня, то я долгое время не встречал их. Потом, через три года после той ночи в Сент-Арну, я оказался зимой в Ницце, в том же отеле, что и Франсуаза. Я не узнал ее, настолько она изменилась. Она сама непринужденно подошла ко мне и почти сразу заговорила со мной о нашей последней встрече.
– Эта звездная ночь… – проговорила она. – Я никогда не забуду ее… Вы оказались пророком.
– Увы, да… Я видел, как вы выходили вместе при свете луны… И естественно, он сказал вам…
– …все, что вы мне предсказали, слово в слово…
– И однако вы его выслушали…
– Ах! – воскликнула она. – Это было так красиво сыграно!
Она попыталась изобразить улыбку, но ее ужасающая худоба свидетельствовала совсем о другом. Она умерла в том же году. У бедной женщины был рак.
Ариадна, сестра…[7]
I. Тереза – Жерому
Эврё, 7 октября 1932 года
Я прочитала твою книгу… Да, ее прочитали все, и я в том числе… Не волнуйся: она мне понравилась… Мне кажется, будь я на твоем месте, меня преследовала бы мысль: «А как Тереза, считает ли книгу справедливой? Страдала ли, читая ее?» Но тебе-то, конечно, такие вопросы в голову не приходят. Ты ведь убежден, что проявил не только беспристрастие, но даже великодушие… Вот в каком тоне ты говоришь о нашем браке:
Пламенно мечтая о женщине, созданной моим воображением, не только возлюбленной, но и помощнице в работе, я не разглядел в Терезе реальную женщину. Но в первые же дни совместной жизни я обнаружил в ней черты, которые можно было предвидеть заранее и которые, однако, поставили меня в тупик. Я был человек из народа и в то же время натура артистическая. Тереза выросла в богатой буржуазной семье. Ей были свойственны все добродетели и пороки ее класса. У меня была верная, скромная, по-своему неглупая жена. Но увы, трудно вообразить существо, которое менее годилось бы в подруги человеку, чье призвание – борьба и апостольство духа…
Ты в этом уверен, Жером? Ты уверен, что приобщил меня к «апостольству духа», когда, уступив твоим мольбам, я согласилась вопреки советам моих родителей выйти за тебя замуж? А ведь сознайся, Жером, я отважилась тогда на смелый поступок. Ты был в те годы безвестным писателем. Твои политические идеи отпугивали и возмущали меня. Я покинула богатый дом, дружную семью, чтобы начать нелегкую совместную жизнь с тобой. Разве я роптала, когда годом позже ты объявил мне, что в Париже не можешь работать, и увез меня в глухую провинцию, в край суровый и мрачный, где в целом доме жила лишь маленькая забитая служанка – единственное существо, которое в ту пору моей жизни казалось мне еще более обездоленным, чем я. Я все терпела, на все соглашалась. Я даже долгое время делала вид, будто счастлива.
Но разве женщина может быть счастлива с тобой, Жером? Иной раз я смеюсь, горько смеюсь, когда газеты твердят о твоей силе, нравственной стойкости. Ты – сильный?.. Право, Жером, я никогда не встречала человека слабодушнее тебя. Ни разу. Нигде. Я пишу это без всякой ненависти. Пора обид миновала, и, с тех пор как мы не видимся, я вновь обрела спокойствие. Но тебе полезно это узнать. Твоя всегдашняя мнительность, неврастеническая боязнь людей, исступленная жажда похвал, наивный страх перед болезнью, смертью – да разве это признак силы, хотя плоды этого смятения – твои романы – и вводят в заблуждение твоих учеников?
Ты – сильный? Да какая же это сила, если ты настолько раним, что заболеваешь от неуспеха книги, и настолько тщеславен, что стоит глупцу обмолвиться о тебе добрым словом, и ты готов усомниться в его глупости? Тебе и в самом деле раза два или три в жизни пришлось бороться за свои идеи. Но ты вступал в борьбу, только тщательно все взвесив, когда был уверен в победе этих идей. В одну из редких минут откровенности ты однажды сделал мне признание, о котором, наверное, тотчас пожалел с присущей тебе осторожностью, признание, которое я не без злорадства храню в памяти.
«Чем старше становится писатель, – сказал ты, – тем радикальнее должны быть его взгляды. Это единственный способ привлечь к себе молодежь».
Бедные юноши! С наивным восторгом упиваясь твоими «Посланиями», они и представить себе не могли, насколько притворен пыл их автора, с каким продуманным макиавеллизмом они написаны.
Да, Жером, в тебе нет ни силы, ни мужественности… Может, на первый взгляд это покажется жестоким, но придется сказать тебе и это. Ты никогда не был настоящим любовником, милый Жером. После того как мы с тобой разошлись, я узнала физическую любовь. Я вкусила ее покой и блаженство, узнала счастливые ночи, когда женщина, не ведая больше никаких желаний, засыпает в объятиях сильного мужчины. Живя с тобой, я знала лишь грустное подобие любви, жалкую пародию на нее. Я не подозревала о своем несчастье; я была молода, довольно неопытна; когда ты твердил мне, что художник должен беречь свои порывы, я верила тебе. Правда, мне хотелось хотя бы спать рядом с тобой; я нуждалась в тепле твоего тела, в капле нежности, в капле жалости. Но ты избегал моих объятий, моей постели, даже моей комнаты. И при этом ты и не подозревал о моем отчаянии.
Ты жил только ради себя, ради шумихи вокруг твоего имени, ради того тревожного любопытства, какое пробуждал в твоих читательницах герой, который на самом деле – ты-то это прекрасно знал – не имел с тобой ничего общего. Три враждебные строчки в какой-нибудь газете волновали тебя больше, чем страдания женщины, любившей тебя. Тебе случалось уделять мне внимание, но лишь тогда, когда политические деятели или писатели, мнением которых ты дорожил, приходили к нам обедать. Тогда ты хотел, чтобы я блистала. Накануне этих визитов ты подолгу беседовал со мной; ты уже не ссылался на свою священную работу, ты подробно объяснял, что надо и чего не надо говорить, каковы прославленные чудачества такого-то критика и гастрономические вкусы такого-то оратора. В эти дни ты желал, чтобы наш дом казался бедным, ибо это соответствовало твоим доктринам, но чтобы от нашего угощения текли слюнки, ибо великие мира сего тоже люди.
Помнишь ли ты, Жером, то время, когда у тебя появились деньги, большие деньги? Это и радовало тебя, ведь в глубине души ты самый обыкновенный, жадный к земле крестьянин, и вместе с тем немного смущало, потому что твои идеи плохо согласовались с богатством. Как я потешалась тогда над наивными уловками, с помощью которых твоя алчность пыталась успокоить твою совесть! «Я раздаю почти все деньги», – говорил ты. Но я-то видела счета и знала, сколько у тебя остается. Иногда я с притворным простодушием замечала как бы вскользь:
– А ведь ты не на шутку разбогател, Жером!
А ты вздыхал:
– Ненавижу этот строй… Увы, пока он существует, приходится к нему приспосабливаться.
К несчастью, поскольку нападки на государственный строй были в моде, чем больше ты его осуждал, тем богаче становился. Вот ведь жестокая судьба! Бедняга Жером! Впрочем, надо отдать тебе должное: если речь заходила обо мне, ты и слышать не хотел ни о каких компромиссах. Когда я поняла, что ты стал миллионером, меня, как всех женщин, обездоленных в любви, потянуло к роскоши, к мехам, драгоценностям. Но должна признаться, что тут я всегда встречала самое добродетельное сопротивление с твоей стороны.
– Норковая шуба? – говорил ты. – Жемчужное колье? Как тебе это могло взбрести в голову! Разве ты не понимаешь, что скажут мои враги, если моя жена уподобится тем самым буржуазным дамам, сатирическими портретами которых я прославился?
Да, я понимала. Я отдавала себе отчет, что жена Жерома Ванса должна быть вне подозрений. Я сознавала все неприличие моих желаний. Правда, себя ты не лишал любимых игрушек – земель и ценных бумаг. Но ведь банковские счета невидимы, а бриллианты слепят глаза. Ты был прав, Жером, – как всегда.
Но я снова стерпела все. Стерплю и последнюю твою книгу. Я слышу, как вокруг все хором восхваляют смелость твоих взглядов, твою доброту (меж тем ты один из самых злых людей, каких мне приходилось встречать), твое благородство по отношению ко мне. Я молчу. Иногда подтверждаю. «Совершенно верно, – говорю я, – он был ко мне снисходителен, у меня нет никаких оснований жаловаться». Права ли я в своем великодушии? Разумно ли с моей стороны попустительствовать этой лестной для тебя легенде, которая растет и ширится вокруг твоего имени? Справедливо ли, чтобы молодежь считала своим учителем человека, которого я хорошо знаю и который даже не достоин называться мужчиной? Иногда я задаю себе все эти вопросы. Но я и пальцем не пошевелю, чтобы что-нибудь изменить. Я даже не стану, следуя твоему примеру, писать в свое оправдание мемуары. Зачем? Ты внушил мне отвращение к слову. Прощай, Жером.
II. Жером – Терезе
Париж, 15 октября 1932 года
Как и в былые времена, когда мы жили вместе, тебе захотелось сделать мне больно… Ну что ж, радуйся, тебе это удалось… Ты себя не знаешь, Тереза… Ты выдаешь себя за жертву, а ты – палач… Я тоже не сразу тебя раскусил. Я считал тебя такой, какой ты хотела казаться. Женщиной мягкой, всегда приносящей себя в жертву. Лишь мало-помалу мне открылась твоя ненасытная потребность в раздорах, твоя жестокость, твое вероломство. Натерпевшись в юности унижений от бестактных родителей, ты хочешь взять у жизни реванш. И отыгрываешься на тех, кто, на свою беду, тебя любит. Когда мы с тобой встретились, я верил в себя. Ты решила убить во мне эту веру; ты стала издеваться над моим умом, над моими взглядами, над моей внешностью. Ты сделала меня посмешищем в моих собственных глазах. Даже освободившись от тебя, я и по сей день не могу вспоминать без стыда тайные раны, нанесенные мне твоей откровенностью.
Каким безжалостным взглядом ты рассматривала меня. «До чего же ты мал, – твердила ты, – ну просто коротышка». В самом деле, я был мал ростом, и, как у большинства людей, ведущих сидячий образ жизни, у меня было больше жира, чем мускулов. Разве это преступление? Или хотя бы вина? Но я отлично понимал, что в твоих глазах это, во всяком случае, предмет для насмешки. Любовь нуждается в безоглядном доверии. Вместе с одеждой любящие отбрасывают прочь все страхи, подозрительность, застенчивость. А я, лежа рядом с тобой, все время чувствовал на себе враждебный взгляд женщины, которая, ни на минуту не теряя власти над своими чувствами, холодно и трезво оценивает меня. Да как же мог я быть хорошим любовником, когда я тебя боялся? Как мог я стать с тобой тем, кем должен быть в любви мужчина: предприимчивым, повинующимся инстинкту существом, когда со стороны моей партнерши я встречал только внутреннее сопротивление и преувеличенную стыдливость? Ты винишь меня за то, что я избегал твоего ложа. А ты не подумала о том, что сама согнала меня с него?
А ведь сознайся, – пишешь ты, – выходя за тебя, я отважилась на смелый поступок… Но разве ты уже и тогда не была убеждена, что меня ждет в скором времени громкая известность? Твой выбор, Тереза, пал на меня потому, что ты увидела во мне нечто живое, настоящее, что было в диковинку для тебя и твоего окружения. А может, еще и потому, что ты почувствовала мою ранимость, а ведь главная, единственная твоя услада – причинять боль другому… Мне теперь очень трудно припомнить, каким я был в пору нашего первого знакомства. Мне кажется, я был действительно человеком незаурядным – я верил в свои взгляды, в свое призвание… Но ты приложила все усилия к тому, чтобы убить во мне этого человека. Когда мне казалось, что я счастлив, ты сокрушала меня своей жалостью. Странное дело. Ты вышла за меня замуж, потому что чувствовала во мне силу. Но именно против этой силы ты и ополчилась. Впрочем, в твоих поступках не следует искать ни логики, ни умысла. Как и многие женщины, ты просто жалкая игрушка своей плоти и нервов. Несчастливая юность изломала тебя, неудачи озлобили. Пока ты жила с родителями, ты на них вымещала снедающую тебя ненависть, а с того дня, как твоим спутником жизни стал я, ты начала преследовать меня.
«Вот уж неожиданные попреки… – скажешь ты. – Он высосал эти обвинения из пальца, чтобы отомстить за мое письмо!..»
И ты с торжеством поспешишь указать на то место в книге, которое ты уже не преминула отметить: У меня была верная, скромная, неглупая жена. Но не доверяй этим чересчур снисходительным строкам, Тереза. Раз уж ты вынуждаешь меня к крайности, заставляешь ни перед чем не останавливаться, изволь, я покаюсь тебе: эта фраза – ложь. Сознательная ложь. Я хотел разыграть великодушие. Я был не прав. Лицемерие всегда вредит произведениям искусства. Мне следовало без всякой жалости показать, какое ты чудовище и сколько зла ты мне причинила.
«Верная»? Еще до того, как я разошелся с тобой, я уже знал, что ты мне изменяешь. Но зачем было это оглашать? Это только нанесло бы мне ущерб, а тебе стяжало бы лестные лавры ветреницы. «Скромная»? У тебя сатанинская гордость, и большинство твоих поступков вызвано жаждой властвовать, ослеплять. «Неглупая»? Да, многие теперь находят тебя умной. Ты и в самом деле поумнела. Но знаешь отчего? Это я сделал тебя такой. За двадцать лет ты позаимствовала у меня все, чего тебе недоставало: взгляды, знания, даже словарь. И теперь, после долгих лет разлуки, в тебе все еще жив тот дух, что я вдохнул в тебя, и даже письмо, которым ты надеялась меня сокрушить, всей своей силой обязано мне.
Я тщеславен? Нет, я горд. Я вынужден непрестанно твердить, что верю в свои силы, чтобы стряхнуть с себя злое наваждение – дело твоих рук. Не стану перебирать все строки твоего письма. Я не хочу играть тебе на руку, причиняя себе бесполезные страдания. Однако добавлю еще два слова. Я горько смеюсь, – пишешь ты, – когда газеты твердят о твоей силе… я никогда не встречала человека слабодушнее тебя… Ты отлично знаешь, Тереза, что в данном случае ты смешиваешь две разные вещи, хотя делаешь вид, будто не замечаешь этого. Ты не имеешь на это права. Каким я был в наших личных отношениях – касается только нас двоих. Теперь, как и ты, я считаю, что в этой борьбе я был слишком слаб. Я держал себя так из жалости, но к жалости зачастую примешивается трусость. Однако ты прикидываешься, будто не знаешь, что человек, слабый и беспомощный в повседневной жизни, может создавать могучие творения. А на самом деле очень часто так и бывает – именно слабые люди обладают громадной творческой силой. Поверь мне, Тереза, то, что молодежь видит в моих книгах, в них действительно есть. И по зрелом размышлении я прихожу к мысли, что, хотя ты и причинила мне много страданий, за них-то я и должен теперь, когда боль притупилась, поблагодарить тебя. Именно твоей постоянной ненависти я во многом обязан тем, чем я стал.
По натуре своей ты – прежде всего разрушительница. В эту форму облеклась твоя злоба. Поскольку ты не была счастлива, ты ненавидишь счастье, выпадавшее на долю других. Поскольку тебе несвойственна чувственность, ты презираешь наслаждение. Досада превратила тебя в проницательного и одержимого наблюдателя. Подобно тем лучам, которые сразу обнаруживают в громадном куске железа свищ – угрозу его прочности, ты мгновенно нащупываешь в человеке слабое место. Ты умеешь находить изъян в любом достоинстве. Это редкий дар, Тереза, но это проклятый дар. Потому что ты забываешь, что достоинства все-таки существуют и железные балки выдерживают проверку временем. Я знаю, что мне свойственны все те слабости, которые ты так безжалостно перечислила. У тебя зоркий глаз, Тереза, на редкость проницательный. Но слабости мои вкраплены в такую монолитную, твердую породу, что ни одному человеку не под силу ее сокрушить. Даже тебе это не удалось, и мое творчество, моя душа вырвались невредимыми из-под твоей пагубной власти.
Разве женщина, – пишешь ты, – может быть счастлива с тобой?! Я хочу, чтобы ты знала, что и я после развода с тобой узнал счастливую любовь. Я обрел покой в браке с простой и сердечной женщиной. Мне так и видится твоя усмешка: «Ты – возможно, но она?..» Если бы ты хоть мельком увидела Надин, ты поняла бы, что и она счастлива. Ведь не всем женщинам свойственна потребность убивать, чтобы жить… Кого ты убиваешь теперь?
III. Надин – Терезе
Париж, 2 февраля 1937 года
Вы, наверное, удивитесь, мадам, получив письмо от меня. Молве угодно считать нас врагами. Не знаю, как вы относитесь ко мне. Что до меня, то я не только не питаю к вам ненависти, но скорее, наоборот, чувствую к вам невольную симпатию. Если прежде, в пору вашего развода, я в течение нескольких месяцев видела в вас соперницу, которую любой ценой следовало вытеснить из сердца моего избранника, то вскоре после моего замужества вы стали для меня как бы невидимой сообщницей. Я уверена, что умершие жены Синей Бороды встречаются в памяти их общего супруга. Жером, сам того не желая, рассказывал мне о вас. А я пыталась представить себе, как вы держались с этим человеком, таким необычным, таким трудным, и мне часто приходило в голову, что ваша жестокость была разумнее моего терпения.
После смерти Жерома мне пришлось разбирать его бумаги. Среди них я нашла много ваших писем. Одно из них произвело на меня особенно сильное впечатление. Я имею в виду письмо, которое вы написали ему пять лет назад, после опубликования его «Дневника». Я не раз говорила ему, что эта страница вас оскорбит. Я просила вычеркнуть ее. Однако этот бесхарактерный человек проявлял редкостную твердость и упрямство, когда речь шла о его творчестве. Ваш ответ был безжалостен. Но вы, наверное, удивитесь, узнав, что я нахожу его не лишенным справедливости.
Не подумайте, что я предаю Жерома после его кончины. Я его любила; я храню ему верность; но я способна судить о нем беспристрастно и не умею лгать. Как писатель он достоин восхищения: он был и талантлив, и честен. О человеке же вы сказали правду. Нет, Жером не был апостолом, во всяком случае, если ученики принимали его за апостола, нас, своих жен, ввести в заблуждение ему не удалось. Он всегда чувствовал потребность окружать свои поступки, свои политические взгляды, вообще всю свою жизнь ореолом святости, но мы-то знаем, что мотивы, побуждавшие его действовать именно так, а не иначе, были довольно ничтожны. Он возводил в добродетель свою ненависть к светской суете, но истинная причина этой ненависти крылась в его болезненной застенчивости. Он всегда держал себя с женщинами как внимательный и почтительный друг, но и в этом сказывался, как вы писали ему, скорее недостаток темперамента, чем душевная мягкость. Он уклонялся от официальных почестей, но и это скорее из гордости и расчета, нежели из скромности. И наконец, ни разу он не принес жертвы, которая не обернулась бы выгодой для него, но при этом он хотел, чтобы мы слепо верили в его ловкую непрактичность.
Уверяю вас, мадам, что Жером сам не понимал своего истинного характера и что этот человек, так сурово и проницательно читавший в душах других людей, сошел в могилу, убежденный в своей жизненной мудрости.
Была ли я с ним счастлива? Да, была, несмотря на множество разочарований, потому что мне никогда не наскучивало наблюдать это вечно меняющееся, фантастически интересное существо. Сама его двойственность, о которой я сейчас говорила, превращала его в живую загадку. Я не уставала слушать его, расспрашивать, изучать. В особенности меня трогала его слабость. В последние годы я относилась к нему скорее как снисходительная мать, нежели как влюбленная женщина. Но не все ли равно, как любишь, когда любишь? Наедине с собой я его проклинала, но стоило ему появиться – и я прощала все. Впрочем, он и не подозревал о моих страданиях. Да и к чему? Я считала, что женщина, которая сорвала бы с него маску и показала ему в зеркале его подлинное лицо, навлекла бы на себя ненависть Жерома, ни в чем его не убедив. Даже вы решились высказать ему правду только тогда, когда поняли, что он для вас потерян безвозвратно.
И однако, какой след оставили вы в его жизни! После того как вы с ним расстались, Жером, живя со мной, год за годом только и делал, что вновь и вновь описывал историю вашего разрыва. Вы были его единственной героиней, главным персонажем всех его книг. Всюду под различными именами я вновь и вновь узнавала вашу прическу флорентийского пажа, вашу величавую осанку, вашу резкую прямоту, надменное целомудрие и жесткий блеск ваших глаз. Ему никогда не удавалось изобразить мои чувства и мои черты. Он неоднократно принимался за это, желая доставить мне удовольствие. Ах, если бы вы знали, как я страдала каждый раз, видя, как образ, который он лепит с меня, помимо воли скульптора, постепенно приобретает черты женщины, похожей на вас. Один из его рассказов назван моим именем – «Надин», но разве не ясно, что его героиня, неприступная и мудрая девственница, – тоже вы? Сколько раз я, бывало, плакала, переписывая главы, в которых вы появляетесь то в роли загадочной невесты, то в роли неверной, обожаемой жены, то в роли злодейки – ненавистной, несправедливой и все-таки желанной.
Да, с тех самых пор, как вы покинули его, Жером жил воспоминаниями, дурными воспоминаниями, которые вы оставили по себе. А ведь я старалась сделать его жизнь спокойной, безмятежной, чтобы он мог целиком посвятить себя творчеству. Теперь я задаюсь вопросом, права ли я была? Быть может, великому таланту нужно страдать? Быть может, однообразие для него пагубнее ревности, ненависти и боли? Ведь и вправду, самые человечные свои книги Жером написал в те годы, когда вы были его женой; а оставшись без вас, он все время мысленно возвращался к последним месяцам вашей совместной жизни. Даже жестокость вашего письма, которое сейчас лежит передо мной, не излечила его. Все последние годы он пытался на него ответить и в мыслях своих, и в книгах. Его последнее, незаконченное произведение, рукопись которого хранится у меня, представляет собой нечто вроде беспощадной исповеди, в которой он, пытаясь себя оправдать, предается самоистязанию. Ах, как я завидую, мадам, той страшной власти тревожить его сердце, какую вам давала ваша неуязвимая холодность.
Зачем я вам все это говорю теперь? Да потому, что мне уже давно хотелось вам это высказать. Потому, что только вы одна можете это понять, а также потому, что моя искренность, я надеюсь, расположит вас ко мне и вы согласитесь оказать мне небольшую услугу. Вам известно, что после смерти Жерома о нем много пишут. На мой взгляд, суждения о его творчестве недостаточно глубоки и не очень справедливы, но в эту область я не намерена вторгаться. Критики имеют право на ошибки: потомство вынесет свой приговор. Я считаю, что книги Жерома относятся к числу тех, которым суждено пережить их автора. Но я не могу сохранять такое же спокойствие, когда биографы искажают облик Жерома и мою жизнь с ним. Подробности семейного быта Жерома, интимные черты его характера были известны только нам с вами, мадам. После долгих колебаний я пришла к выводу, что не вправе унести с собой в могилу свои воспоминания.
Итак, я намерена написать книгу о Жероме. О, я знаю, что лишена таланта. Но в данном случае важна не столько форма, сколько материал. По крайней мере я оставлю свидетельство и надеюсь, что в будущем оно пригодится какому-нибудь талантливому биографу для воссоздания истинного портрета Жерома. Вот уже несколько месяцев я собираю необходимые документы. Однако мне все еще не хватает материалов об одном периоде – вашей помолвке и браке. Быть может, это не принято и слишком смело, но я решила со всей откровенностью и без церемоний обратиться к вам и просить вас о помощи. Пожалуй, я не отважилась бы на это, если бы не питала к вам, как я уже писала, необъяснимую, но искреннюю симпатию. Я вас никогда не видела, но у меня такое чувство, будто я знаю вас лучше, чем кто бы то ни было. Интуиция подсказывает мне, что я поступаю правильно, обращаясь к вам так откровенно, хотя это и граничит с дерзостью. Напишите мне, пожалуйста, где и когда я могу встретиться с вами, чтобы рассказать вам о своих планах. Я полагаю, что вам нужно время, чтобы найти и разобрать старые бумаги, если вы их сохранили, но, так или иначе, я хотела бы как можно скорее побеседовать с вами. Я хотела бы рассказать вам, как я задумала эту книгу. Тогда вы поймете, что с моей стороны вам нечего опасаться ни осуждения, ни даже пристрастных оценок. Наоборот, обещаю вам употребить весь свой женский такт на то, чтобы воздать вам должное. Я прекрасно знаю, что вы построили свою жизнь заново, и позабочусь о том, чтобы не процитировать ни одного документа, не сказать ничего такого, что могло бы поставить вас теперь в неловкое положение. Заранее благодарю вас за все, чем вы захотите – в этом я не сомневаюсь – облегчить мою задачу.
Надин Жером-Ванс
P. S. Этим летом я еду в Уриаж, чтобы, если можно так выразиться, описать с натуры те места, где Жером был впервые представлен вам на веранде отеля «Стендаль». Я бы хотела также посетить имение ваших родителей.
P. P. S. У меня не хватает данных о связи Жерома с мадам де Вернье. Известно ли вам что-нибудь о ней? Жером непрестанно говорил о вас, но на вопросы об этом юношеском романе отвечал всегда сдержанно, скупо и уклончиво. Верно ли, что мадам де В. приехала к нему в Модан в 1907 году и сопровождала его в поездке по Италии?
Как звали бабку Жерома по отцу – Ортанс или Мелани?
IV. Тереза – Надин
Эврё, 4 февраля 1937 года
К большому моему сожалению, мадам, я ничем не могу вам помочь. Дело в том, что я сама решила опубликовать «Жизнь Жерома Ванса». Правда, его вдова – вы, вы носите его имя, и поэтому томик ваших воспоминаний будет, без сомнения, хорошо принят публикой. Но нам с вами не пристало лукавить друг с другом: согласитесь, мадам, что вы очень мало знали Жерома. Вы вышли за него в ту пору, когда он уже стал знаменитостью и его общественная деятельность как бы затмила его личную жизнь. Зато я была свидетельницей рождения таланта и возникновения легенды, к тому же вы сами любезно признаёте, что лучшие из книг Жерома были написаны при мне или в память обо мне.
Не забудьте также, что ни одна серьезная биография Жерома не может обойтись без документов, которые принадлежат мне. У меня сохранилось две тысячи писем Жерома, писем, полных любви и ненависти, не считая моих ответов, черновики которых я тоже сберегла. Двадцать лет подряд я вырезала все статьи о Жероме и его книгах, собирала письма его друзей и неизвестных почитателей. Я храню все речи Жерома, его лекции и статьи.
Директор Национальной библиотеки, который недавно составил опись этих сокровищ, потому что я намерена преподнести их в дар государству, сказал мне: «Это выдающаяся коллекция». Приведу лишь один пример: вы спрашиваете меня, как звали бордоскую бабку Жерома, а у меня на эту Ортанс-Полин-Мелани Ванс заведено целое досье, как, впрочем, и на всех остальных предков Жерома.
Жером любил говорить о себе как о «человеке из народа». Но это выдумка. В конце XVIII века семейство Ванс владело небольшим поместьем в Перигоре; дед и бабка Жерома по материнской линии прибрали к рукам около сотни гектаров неподалеку от Мериньяка. При Луи-Филиппе дед Жерома был мэром своего городка, а один из братьев деда – иезуитом. Все в округе считали Вансов состоятельными буржуа. Я собираюсь рассказать об этом в своей книге. Не подумайте, что таким образом я хочу подчеркнуть тот снобизм наизнанку, который был одной из слабостей бедняги Жерома. Нет, я намерена быть беспристрастной и даже снисходительной. Но я не хочу ничего приукрашивать. Впрочем, это был, пожалуй, самый простительный недостаток великого человека, которого мы с вами, мадам, любили и… судили.
По отношению к вам я, разумеется, проявлю не меньшее великодушие, чем вы ко мне. Зачем терзать друг друга? Правда, я располагаю письмами, из которых явствует, что, прежде чем стать женой Жерома, вы были его любовницей, но я не собираюсь их цитировать. Я ненавижу скандалы, кого бы они ни затрагивали – меня или других. И потом, в чем бы я ни упрекала Жерома, я по-прежнему восхищаюсь его творчеством и готова служить ему по мере сил с полным самоотречением.
Поскольку наши книги, по-видимому, выйдут почти одновременно, нам, вероятно, следовало бы обменяться гранками. Таким образом мы избегнем противоречий, которые могут возбудить подозрения критиков.
Все, что касается старости Жерома, его угасания после первого апоплексического удара, вы знаете лучше меня. Этот период его жизни я полностью предоставляю вам. Я хочу довести свою книгу до того момента, когда мы с ним расстались (к чему вспоминать ссоры, которые начались вслед за этим?). Но в эпилоге я кратко расскажу о вашем замужестве, потом о моем и о том, как я узнала о смерти Жерома в Америке, где жила со своим вторым мужем. Сидя в кинотеатре, я вдруг во время показа хроники увидела на экране торжественную церемонию похорон, последние фотографии Жерома и вас, мадам, как вы спускаетесь с трибуны, опершись на руку премьер-министра. По-моему, это очень выигрышный конец для книги.
Впрочем, я совершенно уверена, что и вы напишете прелестную книжицу.
V. Мадам Жером-Ванс – издательству «Лис»
Париж, 7 февраля 1937 года
Я только что узнала, что мадам Тереза Берже (которая, как вам известно, была первой женой моего мужа) готовит том своих воспоминаний. Нам необходимо ее опередить и для этого опубликовать нашу книгу к осени. Я представлю вам рукопись 15 июля. Меня очень порадовало, что Соединенные Штаты и Бразилия сделали заявки на право издания книги.
VI. Тереза – Надин
Эврё, 9 декабря 1937 года
Мадам, в связи с успехом моей книги в Америке (Клуб книги присудил ей премию «Лучшей книги месяца») я недавно получила две длинные телеграммы из Голливуда и, прежде чем ответить на них, считаю своим долгом выяснить ваше мнение. Агент одного из крупнейших продюсеров Голливуда предлагает мне экранизировать «Жизнь Жерома Ванса». Вам известно, что Жером очень популярен в Соединенных Штатах в среде либеральной интеллигенции и его «Послания» считаются там классикой. По причине этой популярности, а также из-за того, что в фигуре нашего мужа американцы видят нечто апостольское, продюсер хочет, чтобы и фильм получился трогательный и благородный. Вначале у меня просто волосы встали дыбом от некоторых его требований. Но, поразмыслив, я решила, что мы обязаны пойти на любую жертву ради того, чтобы завоевать Жерому всемирное признание, содействовать которому в наше время может только кинематограф. Мы обе хорошо знали Жерома и понимаем, что и сам он поступил бы точно так же, потому что, когда речь шла о славе, историческая истина всегда отступала для Жерома на второй план.
Вот три наиболее щекотливых обстоятельства:
А. Голливуд очень дорожит версией о том, что Жером вышел из народа, терпел жестокие лишения, и хочет в трагическом свете изобразить, как он боролся с нуждой в юные годы. Мы знаем, что это ложь, но ведь, в конце концов, самому Жерому эта версия тоже была по душе. Так с какой же стати нам с вами быть в этом вопросе щепетильнее самого героя?
Б. Голливуд хочет, чтобы во времена «Дела Дрейфуса» Жером занимал решительную позицию и даже поставил на карту свою карьеру. Правда, исторически это неточно и хронологически невозможно, но эта неувязка никак не может повредить памяти Жерома, а скорее даже наоборот.
В. Наконец – и это самый трудный вопрос, – Голливуд считает неудобным вводить двух женщин в жизнь Жерома Ванса. Поскольку его первый брак был браком по любви (а конфликт с моей семьей вносит в это особую романтическую нотку), специфическая эстетика кинематографа требует, чтобы это был счастливый брак. Поэтому продюсер просит моего разрешения «слить» двух жен Жерома – то есть вас и меня – в один персонаж. Для концовки фильма он использует материалы, взятые из вашей книги, но припишет мне ваше поведение во время болезни и смерти Жерома.
Я предвижу, как оскорбит вас это последнее предложение, да и сама я вначале его отвергла. Но агент Голливуда прислал мне еще одну телеграмму, в которой привел весьма веские доводы. Роль мадам Ванс будет, разумеется, поручена какой-нибудь кинозвезде. А ни одна крупная актриса не станет сниматься в фильме, если ей предстоит играть только в первой серии. Он даже сослался на такой пример: для того чтобы заполучить известного актера на роль Босуэлла в «Марии Стюарт», пришлось сочинить какие-то идиллические эпизоды, связывающие Босвелла с юностью королевы. Согласитесь, что, если даже хорошо известные события истории приспосабливаются таким образом к требованиям экрана, нам с вами просто не к лицу проявлять смешной педантизм, когда речь идет о наших скромных особах.
Я хочу добавить, что: а) эта единственная супруга не будет похожа ни на вас, ни на меня, потому что играть нас будет актриса, с которой продюсер в настоящее время связан контрактом, а у нее нет никакого сходства ни с вами, ни со мной; б) Голливуд предлагает очень крупный гонорар (шестьдесят тысяч долларов, то есть более миллиона франков по нынешнему курсу), и, конечно, если вы согласитесь на указанные изменения, я готова самым щедрым образом оплатить ваше соавторство, связанное с использованием вашей книги.
Прошу вас телеграфировать мне, так как Голливуд ждет от меня немедленного ответа.
VII. Надин – Терезе
(телеграмма)
10. XII.37.
ВОПРОС СЛИШКОМ ВАЖЕН ОБСУЖДЕНИЯ ПИСЬМАХ ТЧК ВЫЕЗЖАЮ ПАРИЖ ЧЕТЫРНАДЦАТИЧАСОВЫМ 23 БУДУ У ВАС 18 ЧАСОВ тчк СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ=НАДИН
VIII. Тереза – Надин
Эврё, 1 августа 1938 года
Дорогая Надин!
Как видите, я снова в моем милом деревенском доме, который вам знаком и который вы полюбили. Живу здесь одна, потому что муж мой в отъезде на три недели. Я буду счастлива, если вы приедете ко мне и проживете здесь, сколько сможете и захотите. Вы будете делать все, что вам вздумается – читать, писать, работать, – я сама занята сейчас моей новой книгой и предоставлю вам полную свободу. Если вы предпочтете посмотреть здешние окрестности – а они прелестны, – моя машина в вашем распоряжении. Но если вечером на досуге вам захочется посидеть со мной в саду – мы поболтаем с вами о прошлом, о нашем «печальном прошлом», а также о делах.
Искренне любящая вас
Тереза Берже.
Пересадка
– Самая странная история в моей жизни? – переспросила она. – Вы ставите меня в тупик. В моей жизни было много историй.
– Думаю, что их и сейчас хватает.
– О нет! Я старею; я становлюсь умнее… Иными словами, я нуждаюсь в отдыхе… Я теперь рада, когда могу остаться одна на целый вечер, перечитать старые письма или послушать пластинку.
– Да быть не может, чтобы за вами больше не ухаживали… Ваши черты сохранили всю прелесть, а некий налет опыта, может быть, пережитых страданий, лишь добавляет им что-то торжественное… Вы неотразимы…
– Вы так любезны… Да, у меня еще есть поклонники. Беда в том, что я им больше не верю. Увы, я слишком хорошо знаю мужчин, мне знаком их пыл, пока они ничего еще не добились, а потом приходит безразличие – или ревность. Я говорю себе: чего ради еще раз смотреть комедию, если я уже знаю, чем все закончится?.. В молодости все было иначе. Каждый раз мне казалось, что я встретила замечательного человека, который избавит меня от неопределенности. Я отдавалась ему всей душой, я не жалела денег… Послушайте, еще каких-то пять лет назад, когда я познакомилась со своим мужем, Рено, у меня возникло впечатление, что все будет по-новому. Он был такой сильный, почти до грубости. Он стряхнул с меня все сомнения; он смеялся над моими тревогами и метаниями. Мне показалось, что с ним я обретаю вкус к жизни. Он вовсе не был совершенством: ему не хватало культуры и хороших манер. Но он давал мне то, чего у меня никогда не было: ощущение надежности… Спасательный круг… Во всяком случае, тогда я так думала.
– А теперь уже не думаете?
– Вы же знаете, что нет. Рено пережил крупные неудачи: мне пришлось его утешать, ободрять, поддерживать; я защищала защитника… По-настоящему сильные мужчины встречаются редко.
– Но хотя бы одного вы встретили?
– Да, я знала одного такого мужчину. О, совсем недолго и при удивительных обстоятельствах… Кстати, вы просили меня рассказать о самом странном приключении в моей жизни, так вот оно!
– Расскажите мне.
– О боже! О чем вы меня просите? Мне придется покопаться в памяти… И потом, эта история довольно длинная, а вы всегда так спешите. Вы готовы дать мне немного времени?
– Конечно, я весь внимание.
– Ну хорошо… Это случилось лет двадцать назад… Я тогда была очень молодой вдовой. Вы помните мой первый брак? Чтобы доставить удовольствие родителям, я вышла замуж за человека гораздо старше меня, к которому я, безусловно, испытывала нежность, но нежность скорее дочернюю… Занимаясь с ним любовью, я не получала удовольствия, а благодарно выполняла свой долг. Через три года он умер, оставив меня в относительном материальном благополучии, так что внезапно, после родительской опеки и опеки мужа, я получила свободу, я стала хозяйкой своих поступков и своей судьбы. Могу сказать не хвастаясь, что тогда я была довольно хорошенькой…
– Более чем хорошенькой.
– Ну, если вы настаиваете… Что бы там ни было, я нравилась мужчинам, и вскоре вокруг меня образовалась группа претендентов. Я выбрала молодого американца по имени Джек Паркер. Многие из французов, которые считали себя его соперниками, нравились мне больше. Они разделяли мои вкусы; они умели говорить красивые комплименты. Джек мало читал; из всей музыки он предпочитал блюзы и джаз, а что касается живописи, то он с наивным доверием следовал моде. Он очень неумело говорил о любви… Вернее, он вовсе не говорил о ней. Его ухаживания ограничивались тем, что в кино, в театре или в саду, при свете луны, он брал меня за руку и говорил мне: «You are just wonderful»[8].
Это все должно было бы нагонять на меня скуку… Но нет, я охотно принимала его ухаживания. Он казался мне спокойным, честным. Он давал мне то же ощущение надежности, что и мой теперешний муж в начале наших с ним отношений. Остальные мои друзья не могли определиться со своими намерениями. Кем они хотели стать – любовниками или мужьями? На этот счет они ничего не уточняли. С Джеком все было иначе. Сама мысль о связи приводила его в ужас. Он хотел жениться на мне, увезти меня в Америку, где я родила бы ему красивых детей, кудрявых, как он сам, с его коротким прямым носом, с его тягучим и гнусавым акцентом и таких же наивных. Он занимал должность вице-президента какого-то банка; со временем, может быть, он стал бы его президентом. В любом случае мы бы никогда ни в чем не нуждались и у нас была бы отличная машина. Так он представлял себе мир.
Признаюсь вам, я испытывала искушение. Вас это удивляет?.. А ведь это мне свойственно. Я сама человек довольно сложный, поэтому меня привлекают простые люди. Я плохо ладила с родственниками. Отъезд в Соединенные Штаты стал бы своего рода побегом. После нескольких месяцев стажировки в отделении банка в Париже Джек вернулся в Нью-Йорк. Перед его отъездом я обещала, что приеду к нему и выйду за него замуж. Заметьте, что я не была его любовницей. И не по своей вине: если бы он попросил, я бы уступила… Но он остерегался этого шага. Джек был американским католиком, из семьи со строгими нравами, и он хотел честную свадьбу в соборе Святого Патрика на Пятой авеню, со множеством шаферов в смокингах, с белыми гвоздиками в петлицах, и с подружками невесты в платьях из органди… Не могу сказать, чтобы эта идея мне не нравилась.
Мы договорились, что я приеду в апреле. Джек должен был заказать мне билет на самолет. Я намеревалась лететь самолетом «Эр Франс», и это было для меня настолько естественно, что мне в голову не пришло сказать об этом ему. В последний момент мне пришел билет Париж – Лондон и Лондон – Нью-Йорк, выписанный какой-то американской компанией, у которой в то время не было права садиться в наших аэропортах. Это мне не очень понравилось, но я, как вы знаете, человек покладистый, поэтому, вместо того чтобы предпринимать какие-то новые шаги, я просто приняла сложившуюся ситуацию. Я должна была прилететь в Лондон около семи часов вечера, там мне предстояло поужинать в аэропорту и в девять часов вылететь в Нью-Йорк.
Вы любите аэропорты? Я испытываю к ним необъяснимую тягу. Они гораздо чище и более современны, чем железнодорожные вокзалы. Они чем-то напоминают операционную. Странные голоса, непонятные из-за помех, через громкоговорители зовут пассажиров в далекие экзотические города. Через окна видно, как садятся и взлетают огромные самолеты. Ирреальная, но при этом не лишенная красоты обстановка. Я поужинала и доверчиво уселась в английское кресло, обитое кожей цвета мха, как вдруг громкоговоритель произнес длинную фразу, сути которой я не поняла, но ясно различила слово «Нью-Йорк» и номер моего рейса. Я немного забеспокоилась и огляделась по сторонам. Пассажиры вставали со своих мест.
В кресле рядом со мной сидел мужчина лет сорока, чье лицо меня заинтересовало. Изящная худоба, немного взлохмаченные волосы, распахнутый ворот наводили на мысль об английских поэтах-романтиках, в частности о Шелли. Глядя на него, я подумала: «Писатель или музыкант» – и захотела, чтобы наши места в самолете оказались рядом. Он заметил мою внезапную растерянность и сказал:
– Простите, мадам… Вы собирались лететь рейсом шестьсот тридцать два?
– Да… Что они объявили?
– Что из-за технической неполадки самолет вылетит только в шесть утра. Через несколько минут компания пришлет автобус за пассажирами, которые хотели бы переночевать в гостинице.
– Ну вот еще! Ехать в гостиницу, чтобы встать в пять утра! Это ужасно… А вы что будете делать?
– О, мадам, мне повезло: у меня есть друг, который работает и живет прямо тут, в аэропорту. Я оставил машину у него в гараже. Пойду заберу ее и вернусь домой.
Через мгновение он добавил:
– А вообще-то нет… Я воспользуюсь этой отсрочкой, чтобы кое-что осмотреть… Я строю органы, и время от времени мне надо проверять состояние моих инструментов в разных церквях Лондона… Так что мне представилась неожиданная возможность проведать два или три инструмента.
– А вы можете по ночам заходить в церкви?
Он засмеялся и вытащил из кармана огромную связку ключей.
– Ну конечно! Я обычно проверяю клавиатуру и мехи именно ночью, чтобы никому не мешать.
– А вы сами играете?
– Как умею.
– Наверное, это красиво – органные концерты в темноте и в одиночестве.
– Красиво? Не знаю. Я, конечно, люблю церковную музыку, но я не бог весть какой органист. Однако удовольствие я получаю, это точно.
Он поколебался минутку, а потом сказал:
– Послушайте, мадам, я хочу вам предложить одну странную вещь… Мы незнакомы, и я никак не могу рассчитывать на ваше доверие… Но если бы вам вдруг захотелось поехать со мной, я мог бы вас увезти и потом привезти обратно… Вы, наверное, музыкант?
– Да. Как вы угадали?
– А вы красивая, как мечта художника. Тут не ошибешься.
Признаюсь, этот комплимент меня тронул. В этом мужчине чувствовалась какая-то странная властность. Я понимала, что разъезжать глубокой ночью по Лондону с неизвестным мне человеком было бы неосторожно; я предвидела возможные опасности. Но у меня просто не хватило времени, чтобы отказаться.
– Пошли! – сказала я ему. – А как мне быть с сумкой?
– Положим ее в багажник, вместе с моей.
Я не смогу назвать вам три церкви, которые мы посетили той ночью, и рассказать, что именно играл мой таинственный спутник. Помню винтовые лестницы, по которым я поднималась с его помощью, свет луны, проникавший через витражи, и изумительную музыку. Я узнавала мелодии Баха, Форе, Генделя, но, по-моему, большую часть времени он импровизировал. И это меня потрясло. Мне казалось, что я слышу бурные излияния страдающей души. За ними следовали небесные акорды, похожие на нежную ласку. Я словно опьянела. Я спросила этого потрясающего музыканта, как его зовут. Он ответил: Питер Данн.
– Вы, наверное, знамениты, – сказала я. – Это же дар Божий.
– Не верьте в это. Это иллюзия, навеянная ночью и временем. Я посредственный исполнитель. Но меня вдохновляет вера, а сегодня – и ваше присутствие.
Заявление такого рода меня не удивило и не шокировало. Питер Данн был одним из тех людей, с которыми уже через несколько минут устанавливаешь удивительно близкие отношения… Он был не от мира сего. Когда мы вышли из третьей церкви, он просто сказал:
– Сейчас всего лишь полночь. Вы не хотите провести оставшиеся нам три или четыре часа ожидания у меня дома? Я приготовлю вам омлет. Есть еще какие-то фрукты. Завтра должна была зайти домработница и все это забрать.
Я почувствовала себя счастливой, и уж раз я все вам рассказываю, то признаюсь, что в глубине души я надеялась, что этот вечер станет началом любви. Женщины в большей степени, чем вы, мужчины, зависят от колебаний своих чувств, своего восхищения. Эта божественная музыка, эта наполненная песнями ночь, эта мягкая и сильная рука, ведшая меня в темноте, – все порождало эти смутные желания. Если бы мой спутник захотел, я бы отдалась на его милость… Так уж я устроена.
Мне понравилась его маленькая квартирка, заполненная книгами, со стенами, выкрашенными белой краской «под яичную скорлупу», с черным бордюром. Я сразу почувствовала себя как дома. Я сама сняла шляпу и дорожное пальто. Я предложила помочь ему приготовить нам ужин в его крохотной кухоньке. Он отказался:
– Нет, я привык сам. Возьмите книгу. Я вернусь через несколько минут.
Я выбрала «Сонеты» Шекспира и успела прочесть три или четыре, отлично соответствовавшие тому восторженному состоянию, в котором я пребывала. Потом Питер вернулся, поставил передо мной маленький столик и подал еду.
– Как все вкусно, – сказала я. – Мне так нравится… Я проголодалась. Вы просто удивительный человек! Вы все так хорошо делаете. Женщина, разделяющая с вами жизнь, просто счастливица!
– Никакой женщины в моей жизни нет… Но я бы больше хотел поговорить о вас. Вы ведь француженка, это очевидно. Вы переезжаете в Америку?
– Да, я выхожу замуж за американца.
Он не выглядел ни удивленным, ни недовольным.
– Вы его любите?
– Наверное, люблю, раз я решила, что мы должны быть всегда вместе.
– Это не обязательно, – сказал он. – Есть браки, в которые люди просто втягиваются, медленно и незаметно, хотя на самом деле их не желают. Внезапно осознаешь, что взял на себя обязательства. И уже нет смелости отступить. Вот и несостоявшаяся судьба… Напрасно я говорю вам все эти пессимистические вещи, ведь я ничего не знаю о вашем выборе. Невероятно, чтобы такая женщина, как вы, могла ошибиться… Единственное, что меня удивляет…
Он замолчал.
– Говорите… Не бойтесь меня смутить. Я самый открытый человек на свете… я хочу сказать, что я лучше всех на свете умею видеть свои поступки и судить их со стороны.
– Ну хорошо! – продолжал он. – Единственное, что меня удивляет, – это не то, что американец сумел вам понравиться (среди них есть очень яркие и даже очень привлекательные люди), а то, что вы захотели провести всю жизнь с ним, в его стране… Вы действительно увидите там «новый свет», где все ценности будут для вас чужими… Может быть, это английские предрассудки… Может быть, ваш нареченный сам по себе настолько идеален, что вы не придаете никакого значения обществу, которое будет окружать вас.
Я на минутку задумалась. Не знаю почему, но мне казалось, что все, что я говорю Питеру Данну, имеет огромное значение и что я обязана точнейшим образом растолковать ему тончайшие оттенки своих мыслей.
– Не думайте так, – сказала я. – Джек (мой будущий муж) вовсе не идеальный мужчина, и я уверена, что сам по себе он не сможет восполнить мне отсутствие милого моему сердцу окружения… Нет… Джек чудесный парень, очень честный человек, он будет мне хорошим мужем в том смысле, что он не станет меня обманывать и сделает мне здоровых детишек. Но помимо этих детей, помимо его работы, политики и историй о наших друзьях, у нас будет мало общих тем для разговоров… Поймите меня, Джек вовсе не глуп; он очень удачливый бизнесмен; у него определенно есть чувство красоты, достаточно определенные вкусы… Вот только стихи, картины, музыка для него ничего не значат. Он никогда о них не думает… Это важно? В конце концов, искусство – всего лишь один из видов деятельности человека.
– Разумеется, – ответил Питер Данн. – Можно быть очень чутким человеком, но при этом не любить искусство или, вернее, не знать его… Что до меня, я даже предпочитаю откровенное безразличие активному и шумному снобизму. Но быть мужем такой женщины… По крайней мере он достаточно тонок, чтобы угадывать тайные движения души той, которая станет жить рядом с ним?
– Он так далеко не заглядывает… Я нравлюсь ему; он не знает почему; он не задает себе этот вопрос. Он не сомневается, что сделает меня счастливой… Ведь у меня будет работящий муж, квартира на Парк-авеню, шикарная машина и отличные чернокожие слуги, выбранные его матерью, уроженкой Виргинии. Чего еще может желать женщина?
– Не надо сарказма, – сказал он. – Сарказм – это всегда признак нечистой совести. Если применять его к людям, которых нам следовало бы любить, это убьет всю нежность… да, это так… И это очень важно. Единственная надежда на спасение заключается в по-настоящему нежном и сочувственном отношении к людям. Почти все они так несчастны…
– Не думаю, что Джек несчастен. Он американец, он прекрасно устроен в обществе, в котором живет и которое искренне считает лучшим в мире. Разве ему есть в чем сомневаться?
– Скоро будет – в вас. Вы научите его страдать.
Не знаю, смогла ли я дать вам это почувствовать, но в ту ночь я находилась в таком состоянии души, что была готова на все. Для меня было довольно-таки странно оказаться в час ночи одной в квартире с каким-то англичанином, которого я встретила несколькими часами ранее в аэропорту. Еще удивительнее было то, что я исповедовалась ему в своей личной жизни и в своих планах на будущее. И уж совершенно невероятным было то, что он давал мне советы, а я прислушивалась к ним почти с уважением.
Но все было именно так. Доброта и достоинство, исходившие от Питера, делали ситуацию совершенно естественной. Он не стремился выглядеть предсказателем или пророком. Вовсе нет. Он не притворялся. Он смеялся от души, если я говорила что-то смешное. Но в нем угадывалась серьезная прямота, что встречается крайне редко… Да, в этом дело… Серьезная прямота… Вы понимаете? Большинство людей не говорят, что думают. За их словами всегда прячется какая-то задняя мысль. За тем, что они произносят, скрывается то, что они хотят утаить… Или же они говорят что попало, не думая. А Питер вел себя как некоторые персонажи Толстого. Он докапывался до сути вещей. Это настолько потрясло меня, что я спросила:
– В вас есть русская кровь?
– А что? Удивительно, что вы меня спросили об этом. Да, моя мать русская, а отец англичанин.
Я была настолько горда своим маленьким открытием, что продолжила задавать вопросы:
– Вы не женаты? У вас никогда не было жены?
– Нет… Дело в том… Вы решите, что дело в гордыне… Я берегу себя для чего-то более важного.
– Для великой любви?
– Для великой любви, но это не будет любовь к женщине. У меня есть чувство, что над жалкой видимостью нашего мира есть нечто прекрасное, ради чего стоит жить.
– И вы находите это «нечто» в церковной музыке?
– Да, и в поэзии. И еще в Евангелии. Я хотел бы, чтобы моя жизнь стала чем-то очень чистым. Прошу прощения, что так говорю о себе и что делаю это так… напыщенно… так не по-британски… но мне кажется, что вы так хорошо… так быстро все понимаете…
Я поднялась и села возле его ног. Почему? Не смогу вам объяснить. Я не могла по-другому.
– Да, я понимаю, – сказала я. – Я, как и вы, чувствую, что это безумие – растрачивать жизнь, наше единственное достояние, на какие-то жалкие мгновения, бесполезные усилия, мелочные ссоры… Я хотела бы, чтобы каждый час моей жизни был таким, как эти мгновения, проведенные рядом с вами… А ведь я знаю, что этого не будет… У меня нет сил… Я поплыву по течению, потому что так легче… Я стану миссис Джек Д. Паркер; я буду играть в канасту; я улучшу свои показатели в гольфе; зимой я буду ездить во Флориду, и так будет год за годом, до самой смерти… Наверное, вы скажете мне, что это нехорошо… Вы будете правы… Но что же делать?
Я прислонилась к его коленям; в эту минуту я принадлежала ему… Да, обладание ничего не значит; главное – согласие.
– Что делать? – переспросил он. – Не терять собственную волю. Зачем плыть по течению? Вы умеете плавать. Я хочу сказать: вы способны проявить силу и утвердить себя… Это так!.. К тому же, для того чтобы взять в свои руки собственную судьбу, не нужна долгая борьба. У человека за его жизнь выпадает несколько редких моментов, когда все решается, притом надолго. Именно в эти моменты и надо найти в себе смелость сказать «да» – или «нет».
– И по-вашему, сейчас у меня как раз тот момент, когда надо найти смелость сказать «нет»?
Он погладил меня по голове, потом быстро отдернул руку и словно задумался.
– Вы задаете мне, – сказал он наконец, – трудный вопрос. Я вас почти не знаю, я ничего не знаю о вас, о вашей семье, о вашем будущем муже – так какое же я имею право давать вам советы? Я рискую совершить страшную ошибку… Не я должен ответить, а вы. Потому что только вы знаете, чего ждете от этого брака; только вы знаете все детали, по которым можно предсказать последствия… Все, что я могу сделать, – это привлечь ваше внимание к тому, что, на мой взгляд, и, думаю, также и на ваш взгляд, действительно важно, и спросить вас: «Вы уверены в том, что не убиваете все самое лучшее в себе?»
Я тоже задумалась.
– Увы! Нет, я не уверена. Самое лучшее во мне – это упование на какие-то восторги; это жажда жертвенности… В детстве я мечтала стать святой или героиней… Теперь я мечтаю посвятить себя прекрасному человеку и, если смогу, помочь ему делать его дело, выполнять свое предназначение… Вот… Я никогда раньше никому не говорила того, что сейчас сказала вам… Почему именно вам? Сама не понимаю. В вас есть что-то, располагающее к признаниям – и вызывающее доверие.
– Это «что-то», – сказал он, – называется отречением. Наверное, человек, который не ищет для себя того, что люди называют счастьем, обретает способность любить других так, как они того заслуживают, и находить в этом иную форму счастья.
Тогда я совершила нечто смелое и немного безумное. Я схватила его за руки и спросила:
– А почему же вы, Питер Данн, не хотите получить свою долю настоящего счастья? Я тоже почти вас не знаю, и тем не менее мне кажется, что вы – тот человек, которого я бессознательно искала всю свою жизнь.
– Не верьте этому… Вы видите меня совсем не таким, какой я на самом деле. Я не смогу стать хорошим мужем или любовником ни для одной женщины. Я слишком занят своей внутренней жизнью. Я не выдержал бы, если б рядом со мной с утра до вечера и с вечера до утра находилось какое-то существо, которое поминутно требовало бы от меня внимания и имело бы на это право…
– Но внимание было бы взаимным.
– Конечно, но мне-то никакого внимания не нужно…
– Вы чувствуете себя достаточно сильным, чтобы в одиночку сражаться с жизнью… Я права?
– Точнее сказать, я чувствую себя достаточно сильным, чтобы сражаться с жизнью бок о бок со всеми людьми доброй воли… работать вместе с ними, чтобы сделать мир мудрее, счастливее… или по крайней мере попытаться это сделать.
– Но может быть, это было бы легче, если бы рядом с вами была подруга. Конечно, надо, чтобы она разделяла веру, которая воодушевляет вас. Но если она вас любит…