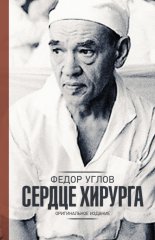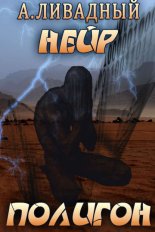Динка прощается с детством Осеева Валентина
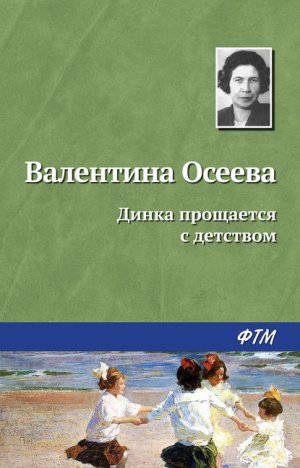
Дорогие мои читатели!
Повесть «Динка прощается с детством» является продолжением моей первой книги – «Динка». Думаю, что многие из вас знакомы с этой книгой, но на всякий случай коротко напомню вам основные события.
Действие повести «Динка» происходит в период после революции 1905 года. Отец Динки – революционер-подпольщик Арсеньев вынужден скрываться. Семья его живет на даче, на Волге. Здесь Динка знакомится с сиротой Ленькой, с которым на протяжении всей повести ее связывает большая дружба. С переездом семьи Арсеньевых в Киев у Динки появляется еще один друг и верный товарищ – Андрей Коринский, реалистик, мальчик, живущий в том же дворе, где живет Динка.
Весной по совету и с помощью партийных товарищей дядя Лека покупает для Арсеньевых уединенный, затерянный в глуши под Киевом хуторок, куда каждое лето после экзаменов переезжает вся семья. Хуторок служит и другим целям: там хранится нелегальная литература.
На хуторе у Динки завязывается дружба с дочкой сторожа из экономии пана Песковского голубоглазой Федоркой и с ее приятелем Дмитро.
В последней главе «Ничейный дед» на хутор неожиданно приезжает повидаться со своей семьей Александр Арсеньев.
В первой книге Динка еще девочка десяти лет.
Вторая книга переносит вас уже во времена первой империалистической войны, и вы встречаетесь с Динкой, когда ей уже пятнадцать лет.
Узнаете ли вы свою прежнюю подружку, которая в этой книге прощается со своим детством?
В. Осеева
Глава первая
Приходят и уходят поезда!
Сизый дымок вьется над дачной станцией. Приходят и уходят поезда. Одни идут на Киев, другие из Киева… Тянутся длинные воинские эшелоны. В запыленные окна вагонов видны забинтованные головы, бескровные лица, туго стянутые монашеские косынки сестер и свешивающиеся с верхних полок солдатские одеяла. На площадках и на ступеньках вагонов сидят молодые солдаты с забинтованными обрубками рук и ног; прыгая на костылях и теряя стоптанную туфлю, жадно выглядывает из дверей раненый и, поймав сочувственные взгляды женщин, ухарски машет рукой. Паровоз с коротким свистком дергает вагоны, и эшелон медленно проплывает мимо, туда, на Киев… А навстречу ему уже торопится другой длинный состав товарных вагонов. В распахнутых настежь дверях теплушек стриженые головы, безусые молодые лица, рассыпанные по щекам веснушки цвета спелой ржи, молодые васильковые, карие и черешневые, притуманившиеся глаза. Сыплются из солдатских карманов запасенные дома подсолнушки, ухает под тугими пальцами гармонь, и дружно из вагона в вагон подхватывается песня.
– Мене люды визьмуть… тебе люды визьмуть… Моя не будешь. Эх, жаль! Жаль!..
Исчезает вдали паровоз. Глохнет под стук колес песня. Долго смотрят вслед эшелону бабы с завязанными на затылках концами платков… Что делать? Война… Солдаты… Туда едут здоровые, многие ль вернутся хоть калеками… Не на гулянку едут хлопцы – на войну… Напал на родную землю германец, выставил проклятый кайзер Вильгельм закованную в железо армию, вот и поспешают они, молодые, наспех обученные новобранцы, чтобы сложить свои головы за веру, царя и отечество… Эх, жаль… Жаль…
Война… А к маленькой станции, лязгая колесами, расшатанные пассажирские вагончики подвозят дачников. Выгружаются на платформу чемоданы и картонки, звенят детские голоса, среди встречающих и провожающих молодые нарядные женщины, мамушки, нянюшки, старухи… Подлетают к станции экипажи, пролетки; сбруя на лошадях блестит под солнцем начищенными бляхами, на высоких облучках степенные кучера в бархатных безрукавках. Тянутся вдоль железнодорожных путей нарядные дачи с высокими шпилями на крышах. Из летних кухонь вьется аппетитный дымок, на клумбах цветут розы… Не пустуют дачи; душно сейчас в городе, на зеленый корм, на широкий воздух рвутся люди… Прошла весна, уже давно похозяйничал в лесу ветер, помог он столетним дубам развернуть длинные клейкие листочки. Давно раскудрявились беленькие, словно умытые зимним снежком березки, загустел орешник, вытянулись новые побеги тонкой рябинки, на желтых стволах сосен заблестели янтарные капельки смолы. А за лесом, за экономией пана Песковского, в глухой глуши словно пристыл к земле арсеньевский хутор не шевельнет закрытыми окнами, не потянет уютным дымком, не хлопает наглухо закрытыми дверьми, не перекликается веселыми молодыми голосами…
* * *
Все эти годы, как только у девочек кончались экзамены, Арсеньевы переезжали на свой хутор. С первым весенним солнышком Динка начинала считать дни, оставшиеся до переезда. И каждый раз, обегая знакомые, дорогие ей местечки, удивлялась, как вырос и разросся сад, какая вкусная вода в холодном, обжигающем губы роднике, как ласково шумит ореховая аллея. Динка уверяла, что даже лягушки на пруду сразу узнают ее и, раздуваясь от крика, всплывают наверх… Но не только для Динки, для всех Арсеньевых переезд на хутор был всегда радостным событием, к которому исподволь готовились всю зиму, мечтая о летнем отдыхе. И каждый раз осенью, переезжая в город на долгие зимние месяцы, они грустно расставались с полюбившимся им хуторком. Динка, вспоминая о нем в холодный, снежный вечер, жаловалась, что все еще слышит стук молотка, которым Леня забивал окна и двери…
Арсеньевы никогда не держали сторожа. Затерянная в глуши между двумя селами хатка зимовала одна… Она стояла вдалеке от дороги, и только птицы, разгуливающие по саду, оставляли свои мелкие росчерки на запорошенных снегом дорожках да столетние дубы сбрасывали на крышу рыхлые комья снега, прикопившегося на их ветках.
Зато уж ранней весной, когда из прелой черной земли выбивались первые зеленые ростки, а на склонах железнодорожной насыпи появлялись незатейливые желтые цветочки, хутор начинал оживляться наездами молодых хозяев.
Чаще всего это были Леня и Вася; они приезжали сюда на воскресный день готовиться к экзаменам. Иногда с ними увязывалась Динка.
– Ну зачем она нам? – сердился Вася. – Земля еще сырая, наберет она полные галоши воды, да еще и простудится!
– Динка не простудится, – убежденно говорил Леня. – Пусть побегает на воздухе!
– Но ведь мы же едем заниматься. Вечно ты что-то осложняешь, Леонид, ворчал Вася.
Динка делала постное лицо и, прикрывая ладонью румяную щеку, начинала жалобно причитать:
– Воздуха вам для меня жалко, да? Всю зиму я не дышу, посинела уже вся, а вам жалко?
Леня прыскал от смеха, Вася смягчался:
– Ну поезжай. Только смотри не лезь куда попало и не мешай нам заниматься!
На хуторе, обегав все дорожки, Динка успевала навестить Федорку, наломать мохнатой вербы, провалиться в пруд и, волоча за собой пальто, мокрая и грязная, просовывала свой нос в дверь, вызывая Леню:
– Лень, Лень… Не бойся, Вася, я сейчас уйду… Я только на минутку!
Схватив Леню за рукав, она тащила его за собой:
– Пойдем скорей! Понюхай, как пахнет земля. Смотри, уже листочки ландыша, а это будут фиалки… Вот приложишь ухом к земле… Послушай, что там только делается…
Леня ложился на землю, нюхал, слушал и, глядя в сияющие глаза Динки, со всем соглашался.
А Вася, стоя на крыльце, качал головой.
– Ну, вы, двое сумасшедших, где теперь сушиться будете?
Сушиться и ночевать Динку отправляли на печку в Ефимову хату. Ефим и Марьяна Бессмертные за все эти годы близкого соседства крепко подружились с Арсеньевыми.
– Лучше родни они нам, – говорил Ефим.
Зимой он часто ездил в город, привозил деревенские новости и подолгу сидел за столом с Мариной, опрокинув на блюдце чашку и советуясь с ней обо всех делах. Перевозил на хутор тоже Ефим. Являлся он задолго до рассвета и, помахивая кнутом, торжественно говорил:
– Ну так что, поихалы?
На хуторе были уже очищены дорожки, подрезаны кусты малины.
Марьяна, туго обвязав платком голову, загодя мазала стены, на полу стояли белые лужицы, гремели ведра, настежь распахивались окна, со скрипом открывались отсыревшие за зиму двери; на дымящей кухонной плите булькала картошка. К приезду хозяев Марьяна выпекала свежий хлеб и встречала их на крыльце светленькой обновленной хатки с хлебом-солью на вышитом рушнике. Весь первый день девочки вместе с Леней и Васей занимались разборкой вещей, вешали занавески, наводили привычный уют.
Вечером все собирались на террасе за большим столом, с аппетитом ели горячую, пропахшую дымом картошку, запивая ее молоком, и, опьянев от весеннего воздуха, едва добирались до своих постелей.
Хутор был в трех верстах от дачной станции, Марине приходилось каждый день ездить в город на службу. Возила ее все та же одноглазая лошадь Прима, купленная в первое лето жизни на хуторе.
Бедная Прима в счастливую пору своей жизни была одной из лучших верховых лошадей. Она ходила под седлом грациозной поступью иноходца, и начищенная шерсть ее блестела как зеркало, но с тех пор как однажды колючая ветка ели хлестнула ее по глазам и один глаз почти совсем затянулся бельмом, Прима была выведена из конюшни и отправлена на черный двор.
К Арсеньевым она попала за небольшую плату, как уже мало на что пригодная лошадь. Но на хуторе Прима ожила. Она стала необходимым членом семьи. Динка не хуже заправского конюха ухаживала за ней: чистила ее, купала, баловала, кормила овсом, и благодарная Прима, забывая про свой слепой глаз, скова почувствовала себя верховой лошадью.
Появился на хуторе и белый Динкин Нерон. Он был в большой дружбе с ефимовским Волчком. Обе собаки были мохнатые, пушистые и совершенно неизвестной породы. Но Динку это никогда не смущало.
– Дворняги еще умнее, – уверяла она.
И лошадь и собака зимовали у Ефима, но с появлением Арсеньевых они с восторгом возвращались на хутор, чтобы служить своим хозяевам.
Так незаметно бежали дни. Дождливую осень сменяла снежная зима, потом наступала весна и солнечное лето.
- А годы шли…
- Под окнами березки подросли,
- Не раз к земле их буря пригибала…
И много событий произошло в семье Арсеньевых, с тех пор как озорная, веселая Динка в первый раз появилась на хуторе. События эти были нерадостными. Первым большим горем для всей семьи была смерть дедушки Никича. Особенно тяжело пережила ее Динка. Незащищенное сердце ее еще не могло и не умело мириться со своими потерями.
Когда Никич умирал, Динке все казалось, что смерть не придет за ним, если она, Динка, будет его сторожить… Она перестала спать по ночам и, встав с постели, тихо брела по темному коридору на свет ночника. В комнате Никича всегда горела печка, дверцы ее были открыты, поленья уютно потрескивали. Никич, обложенный подушками, полулежал в своем любимом «Сашином» кресле. Сухонькая фигурка его, закутанная в одеяло, казалась совсем детской; седая голова на тонкой исхудавшей шее покоилась на подушке. Никич никому не позволял дежурить около него ночью; на столике рядом с креслом всегда стояло приготовленное ему на ночь питье и порошки от кашля. Казалось, все в доме спали, но стоило только старику закашлять, как из спальни неслышно появлялась Марина. Леня давно уже отвоевал себе право ставить свою раскладушку в комнате Никича, Мышка оставляла на столике звонкий школьный колокольчик и брала с Никича слово звонить, если ему что-нибудь понадобится. Старика утешала и расстраивала забота домашних, особенно трогала его Динка.
– Ну, чего бродишь, полуношница? – тихо спрашивал он, завидев при свете ночника жалкую фигурку в длинной ночной рубашке. – От смерти, что ли, уберечь меня хочешь?
Динка дрожащими руками обвивала худые плечи старика, прижималась щекой к его щеке:
– Уберечь хочу…
– Ох и глупая ты… Как только жить будешь?
– Вместе будем… – всхлипывала Динка.
– Да где же нам вместе? Я свое отжил, до самого края дошел. Вишь, ноги уже не держат. А тебе еще жить и жить…
– Не надо мне, ничего не надо. У меня сердце разрывается… – уткнувшись в его плечо, плакала Динка.
Никич с усилием поднимал ее голову.
– А ты послушай меня. Мы ведь столько с тобой разговоров переговорили. Бот еще какая махонькая ты была, а понимала меня. И теперь пойми… От смерти никуда не денешься. За себя мне не страшно, за вас страшно. Мать твою мне жалко. И ты не плачь, не тревожь ее. Смирись, девочка.
Никич замолкал. Пламя от печки, разливая по комнате таинственный свет мягко колебалось, как будто кто-то тихо взмахивал легким и прозрачным шарфом, бросая на стены то синие, то красные тени. От этих неслышных взмахов свет в ночнике дрожал и колебался, вытягиваясь длинным красным язычком. Казалось, вот-вот он вытянется в последний раз, мигнет и погаснет. Никич тяжело дышал, в груди его что-то хрипело, рука, гладившая Динкины волосы, бессильно падала на колени.
– Иди… Помни, что я тебя просил…
Динка молча кивала головой, слова застревали у ней в горле, ноги не слушались.
– Ну, ну… – ободряюще улыбался ей Никич. – Ты ведь папина дочка.
Один раз, задержав ее руку, Никич сказал:
– Запомни слова мои. Всякий человек в жизни должен быть стойким. А тебе это особо надо. Ты ведь во все суешься. Вот и вспоминай почаще: Никич, мол, велел мне быть вдвое стойкой…
Слова Никича навсегда остались в памяти Динки. В самые трудные минуты своей жизни она вспоминала их с грустью и благодарностью. Но не успела еще осиротевшая семья оправиться от потери старого друга, как пришла новая беда. Однажды под осень, когда Арсеньевы уже собирались переезжать в город и сидели на террасе среди сложенных вещей; на хуторе появился редкий гость – Кулеша. Он появился, как всегда, неожиданно, словно вырос перед глазами. И все сразу замерли в предчувствии беды. Одна Марина не растерялась.
– Что-нибудь случилось, Кулеша? – спросила она.
Кулеша снял шапку, вытер вспотевший лоб.
– В этот раз я плохой вестник, – сказал он.
Мышка, словно защищаясь, подняла руку, Динка вскочила, у Алины упало сердце. «Отец…» – с ужасом подумал Леня и встал рядом с матерью. Но она только спросила:
– Он жив? Говорите сразу.
– Ну что вы, что вы… – замахал руками Кулеша, и мать с улыбкой оглянулась на детей.
Никогда не забудут дети эту строгую улыбку на белом и холодном как снег лице матери.
– Он арестован, – сказал Кулеша и стал рассказывать, а Марина слушала его, задавая короткие вопросы, и, глядя на мать, никто из девочек не проронил ни одной слезы.
* * *
Судили Арсеньева в Самаре. В этом городе, еще молодым инспектором «Элеватора», он был душой и организатором бастующих рабочих, здесь его бесстрашный и гневный голос поднимал их на борьбу с самодержавием.
В день суда огромные толпы народа запрудили улицы… К Марине, приехавшей на суд с Леней, из толпы рабочих вышел старый элеваторский рабочий Федотыч.
– Не бойся ничего, Арсеньевна… Рабочий класс не выдаст… Нас много, сказал Федотыч.
Марина молча пожала ему руку.
Она ждала всего, самого худшего… Но молчаливая угрожающая толпа рабочих, тесно окружившая здание суда, сделала свое дело… Правительство не решилось вынести смертный приговор; Арсеньев был присужден к десяти годам одиночного заключения с последующей пожизненной ссылкой…
Марина вернулась измученная, но не упавшая духом, такая же, какой всегда знали ее дети.
– Не плачьте, – сказала она. – Революция откроет все тюрьмы!
Прошла первая тяжелая зима. Арсеньев отбывал заключение в Самаре. Знакомый Марине старый надзиратель тюрьмы тайком передавал Арсеньеву с воли записки, книги… Товарищи носили передачи… Отец писал ласковые успокаивающие письма…
Жизнь постепенно вошла в свою колею, но Арсеньевых ждало еще одно семейное горе…
Окончив гимназию, как-то неожиданно заневестилась и вышла замуж Алина… Муж ее никому не нравился, в семье Арсеньевых он казался чужим пришлым человеком, но ни слезы сестер, ни уговоры матери не подействовали на Алину, и сразу после свадьбы она уехала с мужем на Дальний Восток, в чужую ей семью. И только прощаясь со своими уже на перроне, Алина вдруг испугалась предстоящей ей разлуки и, бросившись к матери, горько заплакала.
– Алина, голубка моя!.. Еще не поздно, вернемся домой… – уговаривала дочь Марина.
– Домой, домой! Алиночка, родненькая, пойдем домой!.. – цепляясь за сестру, умоляла Динка.
Мышка молча плакала, роняя слезы на свадебный букет. Леня бросился в вагон за Алининым чемоданом… Муж Алины, стоя на подножке, задержал его.
– Я не понимаю, что здесь происходит? – холодно сказал он и, подойдя к Алине, взял ее за руку.
Алина вытерла слезы и пошла в вагон. Поезд отошел. Осиротевшая семья долго стояла на перроне, глядя на исчезающие вдали красные огоньки. И снова кое-как наладилась жизнь, только за столом опустело место старшей сестры да на светлом лице Марины прибавилась новая глубокая морщинка. Жить становилось трудно. Фирма «Реддавей», где служила Марина, после ареста мужа уволила ее. Мышка, окончив семь классов гимназии, пошла на краткосрочные курсы сестер; Леня поступил в университет и целый день бегал по урокам; Динка училась. Ей не удалось сдержать свое обещание учиться только на пятерки. Она получала пятерки только по тем предметам, которые любила, а любила она, по ее собственному выражению, «больше всего на свете» уроки словесности и своего учителя словесности.
– Василий Иннокентьевич уважает чужие мысли, – важно говорила она дома. Он никогда меня не одергивает… И вообще… – Динка обводила взглядом своих домашних и многозначительно добавляла: – Василий Иннокентьевич знает, кого нужно ругать, а кого хвалить.
О себе она, конечно, думала, что ее нужно хвалить, и тогда она «горы своротит». Учитель словесности читал вслух ее сочинения и ставил ей красным карандашом жирные пятерки. Динка очень гордилась похвалой любимого учителя, но, стараясь не показать этого дома, придя из гимназии, словно мимоходом говорила:
– Василий Иннокентьевич опять читал в классе мое сочинение, и что ему там понравилось, не знаю…
Зато уж по другим предметам, по математике и особенно по алгебре, Динка даже с помощью Лени с трудом добывала четверки, а иногда, скатываясь до тройки, сердито говорила:
– И кто это придумал так крутить человеку мозги… Ну еще геометрия туда-сюда… Там хоть теоремы, их каждый дурак может наизусть запомнить. Ну, физика еще ничего, там опыты интересные, а уж алгебра – это прямо издевательство.
Шел второй год войны. После рождественских каникул ушел на фронт Вася. В семье прибавилось новое беспокойство, Динка выбегала на улицу и подолгу стояла у ворот в ожидании почтальона. Писем ждали теперь не только от отца и Алины, ждали с нетерпением серых, солдатских треугольников от Васи…
Письма читали сообща, тревожно вслушиваясь в короткие, ласковые строчки, пытаясь проникнуть в то, что сознательно или бессознательно скрывалось под этими успокаивающими строчками… Во всех письмах, часто против воли писавшего, слышалась тоска по семье, по близким людям и привычному уюту.
Всю зиму Марина рвалась в Самару навестить мужа. Устроиться на службу она так и не смогла: нигде не принимали жену политического «преступника», отбывающего наказание в тюрьме. Бесплодные поиски места и тревога за мужа подорвали силы Марины, поддерживала ее только тесная связь с «Арсеналом», где она часто проводила собрания и вела кружок, обучая рабочих грамоте. Через отца Андрея Коринского Марина близко познакомилась с новыми товарищами, работающими в «Арсенале», печатала дома прокламации и с помощью Лени широко распространяла их на фабриках, заводах и в казармах между солдатами. Уехать было нелегко, но все же весной, перед самыми Динкиными экзаменами, Марина уехала в Самару. Леня, по рекомендации Марины, также пользовался доверием старших товарищей и нередко получал от них тайные поручения. Чаще всего это были поездки для установления связи с рабочими и железнодорожниками ближайших городов. В этот раз, после отъезда Марины, Леню послали к гомельским железнодорожникам. Дом опустел, Мышка уже работала в госпитале и часто оставалась на ночное дежурство.
Но Динка не скучала, у нее была одна мечта: выдержать с честью переводные экзамены в восьмой класс и уехать на хутор!
Бросив на стол целую кучу приготовленных заранее билетов, Динка вытаскивала по одному билету и, зажав пальцами уши, зубрила или, поглядев на часы, бежала вниз по лестнице звать на помощь своего давнего приятеля Андрея. Андрей, окончив училище, по желанию своего отца работал в «Арсенале». Но Динка не давала ему времени даже на обед.
– Ну что ты себе думаешь? Не идешь и не идешь! Ведь я же могу провалиться из-за тебя! – сердито обрушивалась она с выговором на запоздавшего приятеля.
– Так я же работаю… – слабо оправдывался Хохолок, собирая разбросанные по столу билеты.
– Вызывай меня! – командовала Динка.
Выдержав последний экзамен и почувствовав себя восьмиклассницей, Динка забросила в угол все учебники и стала собираться на хутор.
– Ну что мы там будем делать одни? Мамы нет, Лени нет. Подождем хоть Леню, – уговаривала ее Мышка.
– Нет, нет! Я никого не буду ждать! Уже столько хороших дней пропало! Пошли открытку Ефиму, и начнем складываться!
Динка уверяла, что уже давно-давно, как только началась весна, ей каждую ночь чудятся паровозные гудки и маленькая дачная станция…
– Я слышу, как приходят и уходят поезда, – с тоской повторяла она.
Мышка вызвала Ефима.
* * *
Приходят и уходят поезда… А в экономии пана Песковского ждет не дождется свою городскую подружку дочка сторожа, голубоглазая Федорка.
– Мамо, – говорит она, – чого ж так долго нема Динки? Я сбегаю до дядьки Ефима, спытаю, когда он за вещами поедет.
– Да ты ж бегала, доню, не одного разу уже бегала! Не можно так надоедать людям! Никуда она не денется, твоя Динка, нема чого таку панику бить! – сердито двигая в печи ухватом, выговаривает дочке Татьяна.
Но Федорка решительно срывает с шестка платок.
– Вам усе паника, мамо… А я Динку с самой осени не бачила…
– Не бачила и не померла, слава господу. Подруга – не мать! Як бы ты за родной маткою так скучала…
– А чого меня за вами скучать, как вы у меня кажный день перед глазами, дерзко отвечает Федорка, идя к двери.
– Ось я тоби покажу – перед глазами!.. – выскакивая на крыльцо, кричит мать. – Федора! Вернись зараз! Ох ты ж языкатая девка! Вернись, кажу!..
Но крепкая, приземистая фигурка уже скрылась в кустах. Федорка бежит узенькой тропкой за огородами, минует экономию и, выскочив на пригорок, где круто сбегает вниз белая, глинистая дорога с выщербленными колеями, смотрит на верхушки вековых дубов, где чуть виднеется крыша Динкиной хаты.
– Нема… – качает головой Федорка и, повязав потуже концы платка, степенно сворачивает на дорогу, ведущую к хате Ефима и Марьяны Бессмертных.
Маленькая белая хатка живет хлопотливой хозяйственной жизнью. По двору бродят три курицы с красным петухом, около тына мычит привязанная корова. Навстречу Федорке выскакивают два лохматых пса. Черный, хозяйский Волчок и белый любимец Динки Нерон.
– Нерончик, Нерончик… – лаская белого пса, приговаривает Федорка, проходя в хату.
За столом, покрытым чистой домотканой скатертью, сидит Ефим и со смаком ест из глиняной миски зеленый борщ.
– Ну здравствуй, Федорка! – усмехаясь в усы, говорит он, поддерживая ложку краюхой хлеба. – Сядай за стол, гостьей будешь!
– О! Федорка! Зачем прискакала? – весело откликается, гремя подойником, Марьяна и, склонив голову набок, смеется. – За подружкой скучаешь?
– Скучаю, – смущенно улыбается Федорка и, присаживаясь на скамейку, испытующе смотрит на остриженные в кружок темные кудри Ефима с тонкими серебряными ниточками, на загорелый лоб с белой полоской от шапки и на опущенные вниз лукавые голубые глаза.
– Ну, что ж ты молчишь, Ефим? – с живым любопытством спрашивает мужа Марьяна.
– А що мени казать? – притворяясь непонимающим, зачем прибежала Федорка, равнодушно говорит Ефим.
– А вы, дядько Ефим, ще не едете в город? – робко спрашивает Федорка.
– В город? – почесывая в затылке, переспрашивает Ефим. – А что мне там делать, в городе?
Марьяна, подперев рукой щеку, тихонько посмеивается.
– А по вещи по Арсеньевых вы не едете? – с волнением повторяет Федорка.
Ефим зачерпывает полную ложку борща и, не спеша, несет ее ко рту.
– Ни, – односложно отвечает он, но Марьяна, всплеснув руками, хохочет:
– От вредный! Ну и вредный же ты, Ефим! Чого дивчинку дразнишь?
– Дядечко Ефим… – сложив руки, умоляюще шепчет Федорка.
– А вот бери ложку и хлебай борщ, тогда я тебе и скажу, чи еду, чи не еду! – смеется Ефим.
– Да едет он, едет… Вон уже и овес для Примы насыпал… К ночи там будет, а утром вещи погрузит и обратно… Только кто тут будет жить? – качает головой Марьяна.
– А Динка? – пугается Федорка.
– Ну, Динка – это уж беспременно, – говорит Ефим, подвигая к Федорке миску. – Динка да Мышка, а больше и жить тут пока некому. Вася на фронте. Леню куда-то по делам послали, а сама к мужу поехала у Самару – это город такой, на Волге стоит…
– А чего ж она поехала? – аккуратно черпая ложкой борщ, спрашивает Федорка.
– Ну, это ихнее дело… Нас оно некасаемо… Ну, а подружку завтра встречай! – поднимаясь из-за стола, говорит Ефим.
– Ой, боже мой! Чого ж она так долго не ехала? – всплескивает руками Федорка.
– А чего долго? В восьмой класс переходила, это тебе не в ляльки играть… Ученье, для его тоже время надо… – обстоятельно объясняет Ефим, сгребая с лавки приготовленную одежду. – Эй, Марьянка, живо дои корову! Я пошел за конячкой! А ты, Федорка, извиняй, бо не рано уже. Сиди, сиди! Доедай борщ! Зараз Марьяна парного молочка принесет!
– Спасибо, я побегу! Меня матка дожидает! Ой, дядечко, перекажите Динке, что я ее завтра в лесу встречать буду! – убегая, кричит Федорка.
Глава вторая
Сборы на хутор
Динка сидит над своим ящиком, разметав по полу вьющиеся концы своих длинных кос.
«Уже вечер, – думает Динка. – А Ефим приедет ночью… Я ничего не успею… Надо брать только самые нужные вещи… Сначала книги…»
Динка разбирает горку книг, долго вертит каждую в руках. «Вот это возьму… вот это возьму…»
Динке всегда кажется, что за лето она перечитает множество книг. Но это только благие намерения: из кучи набранных книг она едва ли прочитывает две-три, а остальные привозит обратно даже нераскрытыми. Это повторяется каждую весну. То же происходит и теперь; ящик быстро наполняется, и Динка вынимает книги обратно, оставляя только самые необходимые. Вот, например, Чернышевского «Что делать». «Ведь это совершенно необходимо прочесть, – думает Динка. – Мне уже пятнадцать лет, а я еще не читала такой книги. Уже многие девочки в моем классе читали, а я только вожу ее в ящике на хутор и обратно. Просто безобразие какое-то…»
В Чернышевском больше всего привлекает Динку не содержание книги – о содержании она знает только понаслышке, а главное то, что книга эта «вполне взрослая». Да еще в памяти Динки свежо хранится портрет Чернышевского, висевший в пустой кухне после отъезда Лины…
Динка помнит, как по утрам бежала она в Линину кухню с тайной надеждой, что Лина вернулась. Но Лина не возвращалась, и, открыв осторожно дверь, Динка останавливалась на пороге, осиротевшая и несчастная. И вот тогда из угла, где висела раньше Линина икона, смотрел на нее Чернышевский… У него было такое благородное, тонкое лицо и что-то такое в глазах…
«Он все понимал…» – растроганно вспоминает Динка и осторожно кладет книгу на самое дно ящика. За Чернышевским следует сборник рассказов Чехова и «Белый клык» Джека Лондона, а между ними проскакивает Майн Рид и Диккенс. Все эти книги уже читаные, но любимые. Стихи Ахматовой и Блока Динка не укладывает в свой ящик: для поэтов всегда найдется место у Мышки. Особенно для Ахматовой и Блока.
– А остальных я просто положу ей, например. Северянина, а то Мышка может его не взять…
Динка проходит на цыпочках мимо спящей сестры, на минутку вглядывается в бледное, усталое лицо Мышки.
– Ей давно на воздух надо, – шепотом говорит она и, заметив в зеркале свои тугие щеки с оранжевым румянцем, недовольно дергает плечом. – Ну мало ли что… Мне тоже надо!
Развязавшись с книгами, Динка усаживается на пол и с удовольствием разворачивает сверток с гостинцами. Гостинцы надо уложить в первую очередь. Вот, например, платочек для Федорки. Динка встряхивает платок, и по белому полю разбегаются голубые букетики. Динка так и видит между ними круглое лицо Федорки и лукавые звездочки ее глаз с густыми загнутыми ресницами. Динка прижимает к лицу платочек. Ей кажется, что он уже пахнет нагретой солнцем травой и полевыми цветами… За платочком следуют еще гостинцы Федоркиной матери, братикам Федорки, сестричкам и тому новорожденному, который каждый год появляется в Федоркиной хате.
Динка любовно укладывает в ящик все эти вещицы, собранные ею в течение долгой зимы… Кроме хуторской подружки, есть у Динки еще один дорогой ей человек. Это деревенский музыкант, Яков Ильич.
Динка кладет в ящик коробочку с канифолью и видит перед собой знакомое бледное лицо музыканта, поднятый смычок и прижатую к подбородку скрипку.
«Ах как он играет, как он играет…» А она, такая дуреха, только в последнее лето по-настоящему оценила его игру. Но зато уж теперь…
Динка зажмуривает глаза и стискивает на груди руки. «Первым долгом… первым долгом, на другой же день, я оседлаю Приму и поскачу к нему в лес. Он, наверно, как всегда, сидит за сапожным столиком со своим сынишкой Иоськой… Отдам ему канифоль».
«Здравствуйте, Яков Ильич! Вот я привезла вам канифоль, вы жаловались, что всегда теряете ее…»
«Здравствуйте, барышня! Иосенька, дай барышне стульчик…»
Забывшись, Динка низко кланяется, говорит вслух… и Мышка поднимает голову.
– Господи, Динка! Ты ляжешь сегодня спать? – сонным голосом спрашивает она. – Ведь ты же прекрасно знаешь, что каждый год Ефим приезжает под утро, еще можно хорошо выспаться!
– Ну и спи, а я не хочу! У меня много дел!
Динка закрывает свой ящик и подходит к окну. Теплый-теплый весенний вечер… Ох, скорей бы ехать! Но где же этот Ефим? Ну что бы ему стоило хоть один раз приехать с вечера! Тогда можно было б умчаться с последним поездом… Нет, это, конечно, не годится, в лесу темно… Надо раньше отправить Ефима и самой бежать на вокзал… Как раз рассвет, хорошо…
Динка смотрит на пустынную улицу. Тихо-тихо стоят ряды каштанов, неслышной поступью поднимаются они вверх вдоль тротуаров. То ли луна, то ли тусклые огни фонарей отсвечивают на их листьях…
– Ночь идет, как тихая монашенка, строгая подружка солнечного дня… задумчиво шепчет Динка.
У нее теперь часто сами по себе складываются какие-то рифмованные строчки – не то стихи, не то просто приукрашенные мысли, в подражание любимым поэтам. Писать настоящие стихи Динка не умеет и даже не пробует.
– А ты бы попробовала, – уговаривала ее иногда Мышка.
– Ну что ты! – смеялась Динка. – Меня только на две строчки и хватает! Побормочу для себя и успокоюсь.
Но Мышке, зачитывавшейся Ахматовой, Блоком и другими поэтами, обязательно хотелось видеть в сестре хоть какие-нибудь проблески поэтического таланта.
– А ты прислушайся к себе, ведь вот у тебя рождаются какие-то строчки и мучают тебя…
– Да ничего меня не мучает, не стану я с этим и связываться! Еще чего не хватало!
- Я не поэт – поэтому
- Я не пишу стихи,
- Не стану в ряд с поэтами,
- Не пустят в рай грехи!
весело отвечала Динка.
Но Мышка старательно собирала и записывала каждую услышанную от сестры строчку. На себя она не надеялась, а вот на сестру… Вдруг в ней что-то проявится…
– Проявится! Как же! К шестидесяти годам напишу тебе первые стихи про любовь…
- Приду к тебе старушечкой
- Читать стихи свои…
- И нас с тобой под липами
- Освищут соловьи…
хохотала Динка.
– Да ну тебя! – отмахивалась Мышка. – Ты просто ленивая.
– И ленивая и бесталанная! – весело соглашалась Динка.
Такие разговоры часто бывали между сестрами, но с тех пор как Мышка поступила в госпиталь, они совершенно прекратились, у Мышки не хватало ни сил, ни времени на чтение стихов, и только один сборничек, «Четки» Ахматовой, она все-таки возила в своей сумке с медикаментами. А Блока клала под подушку, надеясь почитать вечером.
Динка с нежностью смотрит на спящую сестру, потом снова на пустынную ночную улицу. Как тихо! Хоть бы стук колес, скрип телеги… Но еще не время. «Может, и мне поспать?» – думает Динка и, придвинув к кровати свой ящик, усаживается на него, положив голову на подушку.
Динка спит так крепко, что даже не слышит знакомого стука колес во дворе, не слышит, как, сорвавшись с кровати, бежит по лестнице Мышка и громко спрашивает:
– Ефим?
Не слышит она и тяжелых шагов Ефима, когда он, осторожно ступая, носит вниз вещи. Во сне, словно издалека, доносится до нее приглушенный голос Мышки:
– Вот это мамино, Ефим… Осторожней, пожалуйста! Положите куда-нибудь на самое дно. А это книги и Ленины учебники, как бы их не промочило дождем…
– Дождю нет, дорога хорошая… – отвечает Ефим.
– А вот эта корзинка моя. Ну, ее куда знаете. А вот Динкин ящик, только она спит на нем. Никак не хотела ложиться, – озабоченно говорит Мышка; ей жаль будить сестру. – Может быть, она сама проснется?
– Ну, мне невозможно ждать, пока она проснется. Дорога дальняя, надо поспешать. А ну, отступитесь трохи, Анджила, я ее сам переложу на постелю.
С тех пор как Мышка поступила в госпиталь, Ефим начисто забраковал ее ласковое детское прозвище «Мышка».
– Самостоятельна дивчина, сколько раненых за день перевязует, а ее яким-то котячьим именем прозывают, – недовольно ворчал он.
– Да не котячьим, а мышиным, – смеялась Динка.
– А где мышь, там и кошка. За что ж таку хорошу дивчину обижать, Ну, нехай уж Анджила, да и то не по-христиански… Я просто удивляюсь! Образованные люди и душевные, а вот имя подобрать як положено не могут. Ну что это за имя Анджила!
– Да не Анджила, а Анжела или Анжелика, – поясняла ему Динка, но Ефим махал рукой:
– Хрен редьки не слаще.
С Мышкой вообще он обращался так же, как с Мариной, нежно и уважительно, зато с Динкой и Леней был на «ты» и держался по-свойски.
– А ну перекладайся на постелю, Динка, бо останется твой ящик у городе! – осторожно трогая Динку за плечо, говорит Ефим.
Но Динка еще крепко цепляется за сон.
– Не надо, не надо, – бормочет она, – мне и тут хорошо!
– Уж чего лучше! Голова на подушке, а тулово на ящику! А ну вытягуйте ящик, Анджила, а я ее подниму!
Знакомый голос и «спотыкающееся» имя сестры окончательно отрезвляют Динку, и она сразу вскакивает.